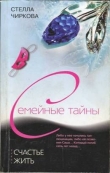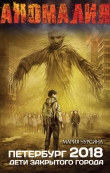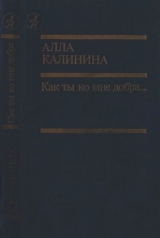
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
Глава 9
Лиза вернулась из поездки в Нукус примиренная, успокоенная. Камал ей понравился, родители его были веселые, добрые люди, жизнь была налажена нормально, даже с некоторым оттенком роскоши, недоступной ей, – новая мебель, ковры, посуда. Но главное, что убедило и покорило Лизу, – был, конечно, музей. Лиза очень жалела, что не посмотрела фондов, не познакомилась с Троицким.
Вначале она и сама не понимала, почему такое огромное впечатление произвела на нее эта коллекция, что в ней было особенного. То, что это была действительно великолепная живопись? Но, в конце концов, и в знакомых музеях, в Русском, или Пушкинском, или в Третьяковке, тоже была великолепная живопись, там можно было бродить, получать удовольствие, даже наслаждаться, и все-таки главное было в другом: она выходила из музея и забывала о нем, не было этого пронзительного чувства новизны, открытия, чуда. И в то же время теперь, в этом открывшемся для нее чуде, тоже не было ничего неожиданного, экзотического, оно было в русле советского искусства, оно было ожидаемо, узнаваемо и от этого волновало еще сильнее, будило мечты и надежды и жажду общения с прекрасным. Теперь Лиза и представить себе не могла, как можно было не знать Тарасова с его прихотливо точным, почти карикатурным рисунком, изысканной линией и нежными, расплывающимися красками, такими, словно смотришь на эти деревья, снега и огни сквозь счастливые слезы или через окно, залитое дождем, – так все в них наплывало, вырастало одно из другого, цветы рассеивали свое сияние, удаляющиеся фигуры таяли в воздухе, но угадывались, помнились. Или удивительные романтические портреты Захарова с его плотным, мощным цветом, властной выразительностью и уверенным, свободным мастерством, напоминающим прошлое. Его портреты, лишенные жесткой конкретности, сразу и безусловно воспринимались не как изображение каких-то позабытых, неведомых людей, а как нечто большее, как обобщенный образ других времен и чувств, которые хотелось узнать и испытать, и поэтому от них невозможно было оторваться. Их было совсем немного, этих портретов, но, покружив по музею, к ним нельзя было не вернуться, чтобы еще и еще раз заглянуть в эти лица. А ведь эти двое, Тарасов и Захаров, были лишь крошечной частью собранных здесь богатств. Был еще удивительный художник Николаев, приехавший из Воронежа в Ташкент и покоренный Средней Азией. Здесь он принял мусульманство и новое имя – Усто-Мумин, которым подписывал свои золотистые таинственные портреты задумчивых юношей, писанные, как иконы, на досках. Был безумный, страстный Ставровский, угрюмый рисовальщик ночных видений и любитель лукавых старух, пляшущих в своем замкнутом кругу, то ли в бане, то ли в деревенской избе. И еще была одна старуха, невинно стоящая на маленьком темном полотне среди таких привычных, знакомых, тщательно выписанных домашних предметов, что только лицо ее с вызывающими глазами и хитрая затаенная улыбка выдавали бесовскую насмешку художника. Но чтобы понять это, надо было Ставровского видеть и знать.
Вот в этом, наверное, и была особенность коллекции, Троицкий умел показать художника – всего, целиком, подобрать ранние и поздние работы, составить их вместе, раскрыть его секреты и искания, не жалея для этого драгоценного места, и вот тогда он вставал для зрителя во весь рост, только сейчас узнанный, но уже масштабный, большой, сложный, уже по одному тому только, что Троицкий уделил ему столько внимания. В этом подходе и отношении к искусству было что-то, о чем стоило подумать шире и дальше, переводя вопрос с живописи на совсем другие сферы. Вот так надо бы относиться к каждому человеку и к каждому научному исследованию, да и к природе и к миру вообще. Этот бережный и щедрый подход был, в сущности, единственным, достойным человека, но в реальной жизни он встречался, к сожалению, так редко. Вот в этом, наверное, и заключалась главная загадка нукусского музея, потому он и цеплял, и будоражил всех, заставляя вспоминать и думать, снова и снова возвращаясь к нему если не наяву, то в мыслях и в воображении. И Лиза так же, как и все, кому довелось его повидать, не могла отделаться от тревожащего его обаяния и не уставала радоваться редкому везению сестры. Там, вдали от родины, найти такого человека и такое дело, одна только причастность к которому уже могла наполнить и оправдать ее земное существование.
– Ну вот, опять пошли крайности и преувеличения, – вздыхал Женя, когда она в сотый уже раз пересказывала ему свои впечатления, – ты просто не можешь без этого. Каждый пустяк тебе непременно нужно разукрасить цветными перышками и тряпочками. Птичья манера. Предположим, музей хороший, ну и что? Мы просто не имеем права позволять себе роскошь отводить для искусства такое уж большое место. У нас с тобой другие задачи…
– Какие, например? Лудить вкладыши и кроить аппендициты?
– Брось, Лиза, не стоит так заходиться. Я, знаешь, просто не ожидал от тебя такого вульгарного отношения к собственному труду.
– Нет, это ты вульгарно и, хуже того, бездумно относишься к культуре.
– Ох, Лиза, где ты только живешь? «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Не забыла? Мне кажется, самое страшное в нашей жизни – оторваться от сегодняшних, реальных задач. Мечтать, говорить высокие слова – сегодня все согласны, а как доходит до дела, то оказывается, что и приниматься-то за него не стоит: хорошо сделать на данном этапе невозможно, а плохо делать – зря тратить энергию, так зачем и браться? Надо дело отменить, на худой конец сляпать кое-как и – в сторону. И таким вот поганым словоблудием оправдывается все – бесцельность, бездарность, да, в конце концов, элементарная лень! Ненавижу!
– Кого ты ненавидишь? Ты хоть это сознаешь? Почему ты искусство мешаешь со всякой мразью? Или ты его рассматриваешь как одну из форм безделья? Но, Женечка, это же варварство, это вандализм какой-то! По-моему, ты споришь со мной только из упрямства.
– Вовсе нет. Просто не хочу, чтобы ты вечно витала в облаках, хватит уже, четвертый десяток пошел, а ты реальной жизни по-прежнему не воспринимаешь. Ребенка собственного и то не видишь.
– А ты, Женя, из тех, кто мечтает к балеринам приделать трансмиссии, чтобы они заодно вертели какие-нибудь механизмы…
Лиза обиделась, и обида ее была тем больнее, что насчет Оленьки Женя конечно же был прав, перед Оленькой она была виновата. Но как было все это совместить – жажду высокого, духовного и необходимость самого простого? Она не понимала ребенка, забыла его возраст, а присаживаться на корточки и сюсюкать казалось совсем уж глупым делом. И она делала самое простое, что обязательно делает каждая женщина: кормила Оленьку, одевала понаряднее, водила к врачу и в гости к бабушке, говорила терпеливым голосом, что та сделала хорошо и что плохо, но, в сущности, не принимала ее всерьез. Где уж там было до тех высот, до которых добиралась она, рассуждая о музее Троицкого. Получалось, что Женя прав, применить свои идеи в жизни она не умела, да и не пыталась, оправдывалась тем, что рано. Но рано-то ведь не было. Оленька уже жила и осознавала себя. У нее был свой характер, свои амбиции и свои воспоминания. В общем-то, наверное, надо было быть здорово занятым человеком, чтобы не замечать всего этого, а чем была занята она?
Однажды, когда они с Женей пришли в детский сад на первомайский утренник, Лиза впервые увидела Оленькину новую воспитательницу.
– Оля Елисеева? – спросила та с кислой миной. – Очень упрямая девочка… – и пошла по своим делам.
Лиза поражена была, что так можно было сказать о ее ребенке, так мало и так неприязненно, но что-то ведь за всем этим стояло. Что? На глазах у нее навернулись слезы, она прошла в зал, где начинался праздник, и села на крошечный стульчик рядом с Женей. Напротив них, на другой стороне зала, стоял такой же ряд стульчиков. Лохматая женщина в очках заиграла на пианино. Ряженые дети вышли строем и чинно уселись. Костюмы их изображали цветы и зверей, здесь были колокольчики, ромашки, зайчики, медведи. И Лиза со стыдом увидела, что Оленькин костюм – один из самых незаметных: желтое платьице с белым воротником, изображающим лепестки, и желтый бант в жиденьких волосах, да и этот жалкий наряд надевала она уже не в первый раз, он был дежурным на все случаи. Господи, да почему же она никогда не думала об этом?
Дети пели хором, по очереди читали стихи, танцевали, играли на ксилофонах и дудочках, но Оленька не выступила ни разу, сидела в первом ряду, зевала, чесала нос и равнодушно смотрела в сторону. Ей все это было неинтересно. Она оживилась, только когда родители повели ее домой.
– Оленька, ты любишь свой детский сад? – осторожно спросила ее Лиза. – Будешь скучать по нему, когда пойдешь в школу?
– А я и в школу не хочу, – сказала Оля, прижимаясь к Жениной руке и заглядывая ему в лицо. – Неужели нельзя спокойно посидеть дома?
– Знаешь, а я вот любила школу. Так было весело, шумно, интересно, и домой идти никогда не хотелось. Оля, а почему ты совсем не выступала?
– Мне не поручают, потому что я все путаю и забываю. Я ничего не люблю учить. И голос у меня тихий.
– Ну вот, навела критику, – вмешался Женя, – а помнишь, ты мне пела в машине, очень хорошо пела.
– Так то не в детском саду, то по радио, это я помню, я только в детском саду ничего не помню.
Они переглянулись и замолчали. Семилетний итог их деятельности был печальный, ребенок рос без них и рос кое-как.
Осенью Оля пошла в школу. Они готовились к этому дню, все на ней было новенькое, наглаженное, форма с белым передничком, огромный коричневый бант, за спиной ранец с блестящими застежками, а в руках огромный пестрый букет георгин. Они шли, ревниво ограждая ее с двух сторон, а вокруг них, такие же взволнованные, сосредоточенные, торопились другие родители с маленькими, как игрушечные солдатики, первоклассниками. Школьный двор был весь запружен толпой. Нарядные учителя стояли, переговариваясь и улыбаясь, на высоком крыльце. Тут же вертелись старшие ребята, которые должны были поздравлять и напутствовать малышей. Весь этот праздничный спектакль давно уже был отрепетирован и накатан и от этого становился еще более праздничным, но в то же время и надежным, здесь никого не могли забыть или обидеть, здесь ни с кем, даже самым слабым и беспомощным, сегодня не могло случиться ничего плохого. Детей выстроили в ряды и гуськом, одна линейка за другой, повели в школу. Оля шла самой последней. На крыльце она оглянулась и помахала родителям рукой. Лиза с трудом проглотила комок в горле. В глазах у нее стояли слезы умиления и… зависти: она тоже хотела в школу.
На сентябрь она взяла отпуск, надо было первый месяц провожать и встречать ребенка, наладить занятия и режим дня, помочь на первых порах. Да и дома тоже находилось много дел, которые Лиза решила переделать, раз уж выпал такой случай, что первую половину дня она будет дома совершенно одна. Она рьяно взялась за уборку, стирку и штопку, перетрясла все углы и кладовки, и однажды у нее на столе совершенно неожиданно оказался объемистый сверток, про который она давно забыла. Она развязала тесемки и развернула пожелтевшую, почти истлевшую по углам папку. Здесь было много всего: письма, фотографии, тетради, в которых велись какие-то записи и счета, непонятные обрывки чужой жизни. Отдельно лежали фронтовые альбомы Роминого отца и перевязанные ленточкой треугольники – письма его с фронта. Лиза отложила их и взяла другую пачку, поменьше, развернула желтый, похрустывающий от ветхости в руках листок в клеточку.
«Милый Шуринька,
– с трудом прочитала она высокие округлые изящные буковки, писанные еще старым пером, с нажимом, –если бы ты знал, как мне досадно, что из-за этой глупой болезни я не смогла поехать с тобой. Мне без тебя очень тоскливо, и никакие дела не идут на ум. Только тем я и утешаюсь, что тебе с твоим огромным талантом надо работать, не пропускать же из-за меня такой великолепный сезон! За меня не волнуйся, я иду на поправку. Ромочка тоже здоров, так что работай спокойно. Я так верю в тебя. Одно только мучает меня, родной, – нам никогда нельзя разлучаться!!!»
В письме так и стояло – три восклицательных знака. Дальше было опять про любовь, и Лиза не смогла читать это удивительное объяснение мертвых влюбленных, чувства которых таким странным образом пережили их на годы. Бедная Мария Николаевна! Она так верила в талант своего мужа, но надеждам ее не суждено было сбыться: он умер скромно, в полной безвестности, и его полотна зря пылились теперь в Лизиной гостиной. Лиза положила листок в конверт, перебирала фотографии и снова увидела их всех воочию. Вот молоденькая Мария Николаевна в длинном мешковатом белом платье с оборками стоит рядом со смеющимся высоким Александром Васильевичем. Над ними большой полосатый зонт, а возле ноги Александра Васильевича в высокой траве сидит и смотрит в объектив прекрасная охотничья собака. Даже на фотографии видно, как лоснится ее длинная шерсть. Когда же это было? Лиза никогда не слышала про собаку. На следующей фотографии они были на море, в Крыму, сзади виднелись скалы. Они были в нелепых пляжных костюмах и жмурились от солнца. На обороте было написано: «Гурзуф, 36 год». Дальше лежала целая серия фотографий на картоне, где они были сняты в разных позах: в креслах, рядом с креслом, в профиль и в фас, и крупно, одни только лица, но везде – вместе. Каким же ужасом, наверное, была для Марии Николаевны вся ее последующая жизнь – без Шуриньки, а потом и без Ромы!
С Ромой была у них только одна общая фотография. Они стояли втроем на террасе какой-то дачи. Листва плакучей березы, свешиваясь, почти заслоняла лицо Александра Васильевича, зато Рома, который стоял между ними посередине, виден был прекрасно, молодой, улыбающийся, с густыми, пышно приподнятыми над широким лбом волосами, с коротким тупым носом и крупным подбородком. Лиза смотрела на него и не верила, что прошло столько лет. Ведь это было совсем недавно, она так ясно, так хорошо помнила его таким! И вдруг поняла, что это Таруса. Она прекрасно знала и эту дачу, и эту террасу, она жила совсем рядом, даже угол их дома угадывался за деревьями на карточке. А там, дальше, внизу, была Ока. Лиза осторожно взяла фотографию и отложила ее отдельно. За ней лежала еще одна, последняя. И на этой последней – коричневой, добротной – фотографии сидел, подвернув под себя ногу, толстый, надутый, едва узнаваемый мальчик лет десяти в белой рубашке с большим бантом, коротких штанишках и чулках, пристегнутых резинками. Пухлые руки его с длинными, не по возрасту изящными пальцами вяло лежали на клавиатуре рояля. И только один этот рояль Лиза узнавала, вот он, облупившийся и потрепанный, все так же стоял сейчас рядом. Рома же был незнаком и таинствен, почти так же таинствен, как стал он потом, однажды исчезнув навсегда, словно растворившись в воздухе. Как произошел этот переход от неведомого прошлого к непостижимому исчезновению – этого не дано было ей узнать, но одна только мысль об этом, одна только попытка проникнуть обдавала ее ужасом и холодом. Неужели ничего она не забыла? Все так же рядом стоял с ней этот волнующий трагический образ, с его отрешенностью, с его безнадежной, непонятой любовью и роковым уходом. Но в то же время, в ту же самую безумную случайную минуту, существовал ведь и Рома – улыбающийся веселый юноша и толстый мальчик с угрюмым и сонным взглядом, любимый, самый близкий на свете человек, которому ничего не успела она объяснить, но которого всегда, все эти долгие годы, носила в себе и не забывала, полюбив другого. Все было перепутано, перемешано во времени: его молодые влюбленные родители и их мертвый сын, толстый мальчик и парализованная Мария Николаевна, скребущая рукой по полу, здесь, рядом, возле ее ног. И она, Лиза, постаревшая и поблекшая, неудачливая жена и бездарная мать, которая выхватила из жизни этой незнакомой ей семьи краткий несчастливый отрезок и все им перепутала, все сломала. Чего же стоит ее жизнь, что она есть – неудача, преступление или так, случайное завихрение времени и материи?
Лиза оторвалась от фотографий, вздохнула, растерла руками застывшее, словно на холоде, лицо. Что же делать? Все это прошло, миновало, миновало вместе с ее молодостью. Она тоже внесла свою плату.
Она взглянула на часы и вдруг испугалась. Уроки у Оленьки кончились десять минут назад, она опоздала, опять погрузилась в глупые, беспочвенные мечты и забыла про реальную жизнь. Не попадая в рукава, торопясь и нервничая, натягивала она платье, схватила сумочку и побежала по улице.
Олю она встретила на углу, лохматую, перепачканную, в расстегнутом пальто. Она хотела сказать что-то, но сдержалась. Оля жмурилась на ярком солнце, лямки новенького ранца волочились за ней по пыли.
– Зачем ты пришла? Я дорогу знаю.
Войдя в квартиру и уронив пальто на пол, Оля первым делом влетела в столовую и запустила руки в разложенные на столе бумаги.
– Ой, мама, кто это?
– Пожалуйста, ничего не трогай!
– Я не трогаю, а просто спрашиваю.
– Ты их все равно не знаешь… Это мои дальние, дальние родственники. Они все умерли, давно, еще до твоего рождения.
– А, до моего рождения? Тогда это неинтересно. – Она разом остыла и отвернулась.
Лиза осторожно и с облегчением выдохнула. Оля ничего не знала о ее прежней жизни. Она собрала бумаги в папку, аккуратно перевязала тесемкой и унесла к себе, прижимая к груди. Она знала, что со временем обязательно прочитает все эти письма, будет вглядываться в каждую стершуюся буковку, разберет каждую строчку, и не только разберет – будет думать о них на досуге, стараясь проникнуть в то позабытое время. Зачем? Это почти невозможно было выразить и объяснить. Завершенность, непоправимость прошлого обладала какой-то магической притягательной силой. Прошлое было словно роман, давно затерянный или разорванный по листам. А этот именно роман Лиза когда-то читала, легкомысленно и небрежно пролистала, пропуская длинноты и скучные места, и сейчас находить и вспоминать пропуски, мысленно восстанавливать продолжения и завершения судеб, составлять разорванные половинки стершихся страниц – во всем этом находила она сладкую изнурительную муку, больше похожую на блаженство. Ей хорошо и удивительно было там, в этом почти уже нереальном прошлом, как во сне про папу, живущего в сером доме со стрельчатыми окнами, как в мечтах о бессмертии или о пришельцах из космоса. Жизнь, уже совершившаяся и освобожденная от страданий давно исчезнувших ее героев, действительно становилась прекрасной и завлекательной, как роман.
* * *
Зимой в Москву приехал Троицкий. Ира давно писала об этом Лизе, сообщала, что Троицкий обязательно позвонит и зайдет передать от нее живой привет, а главное – посмотреть картины Александра Васильевича, о которых Ирина ему рассказывала. Он оказался именно таким, как представляла себе Лиза по рассказам Ирины, – тоненьким, субтильным, резким и застенчивым одновременно. На улице стояли страшные крещенские морозы, а он протиснулся в дверь в мешковатом драповом пальто и каракулевой папахе, надетой поперек и натянутой на уши. К тому же в авоське он тащил две обледеневшие дыни.
– Их надо немедленно есть, – первым делом сказал он, – боюсь, они замерзли…
– А вы? Вы не замерзли в таком легкомысленном пальтишке?
– Нет! Мне очень хорошо. Здравствуйте. Я о вас очень много слышал… собственно, слушаю целыми днями.
– Мне это очень приятно, Глеб Владиславович. Ну, а это мой муж, Евгений Иванович, это – дочка, Оля, она у нас уже школьница. Раздевайтесь, пожалуйста, проходите.
Они вошли в столовую. Интересно было видеть, как вспыхнули и тут же погасли его глаза, как у кошки, которая услышала подозрительный шорох.
– Вы разрешите посмотреть?
Он вежливо и бегло осмотрел картины и отвернулся от них с полным равнодушием.
– Они вам не понравились?
– Нет, почему же. Это хорошие, добротные пейзажи, просто такие работы часто встречаются, они повторяют что-то, что мы уже много раз видели. А больше ничего у него не было?
– Было, конечно, но все в том же духе. Впрочем, может быть, чего-нибудь я не знаю.
– Жаль. В общем-то хороший художник…
– А знаете, Глеб Владиславович, у нас ведь есть еще картины, целая груда, это его жены, еще при жизни все их она сняла и убрала на антресоли, там они и валяются…

Конечно, Лиза бы и не вспомнила о них, если бы не пакет, перевязанный тесемкой, который хранился в глубине ее стола, если бы не генеральная уборка, проведенная осенью, на которой черным пятном остались неразобранные пыльные огромные антресоли.
– А что, она тоже была художницей?
– Да. Только не совсем профессиональной. Больше музыкантшей.
– Это очень интересно. Я бы с большим удовольствием посмотрел.
– Я чувствую, что час мой пробил, – засмеялся Женя, – иду за лестницей. Граждане, готовьтесь к пыльной буре.
Он передавал сверху полотна и картоны, а Лиза перетирала их тряпкой и ставила в коридоре вдоль стены. И по мере того как она ставила, она сама начинала понимать, что происходит что-то невероятное, случилось чудо. А Женя все подавал и подавал и глухо спрашивал из глубины антресолей:
– Может быть, хватит? Тут еще много.
– Нет-нет, давайте все, – пронзительным, властным голосом сказал Троицкий и оглянулся на Лизу с извиняющейся улыбкой.
Потом он бегал по коридору, переставляя полотна так и сяк, сердито взглядывая на тусклую лампочку, и вдруг сказал:
– Нет, это ни к черту не годится, надо все нести в комнату, здесь же абсолютно ничего не видно!
Они перетаскивали картины в комнату и снова расставляли. И чем больше они на них смотрели, тем ярче и радостнее казались эти веселые непритязательные полотна. Тут было вперемешку все, что угодно: пестрые натюрморты, один – с капустой, помидорами и румяным яблоком, закатившимся почему-то в угол картины, другой – с тыквами, рыбой и кудрявой зеленью, потом еще с лиловыми баклажанами на деревянной доске и с грибами в лубяной корзине. Были маленькие прозрачные пейзажики, написанные, вероятно, где-то в Крыму, на них виднелись каменные тесаные стены каких-то строений, смутная воздушная листва неведомых деревьев, а за всем этим – тающая граница моря и неба. А на других, подмосковных, пейзажах узнавались те же места, что и на картинах Александра Васильевича, только писались они с другой точки и на них непременно, как бы нечаянно, боком, попадал один и тот же знакомый Лизе по фотографии пестрый зонт, этюдник и расплывчатая фигура высокого мужчины. Но даже эти, ленивые и как бы шуточные, работы составляли разительный контраст с классическими и однообразно печальными картинами ее мужа. Она была талантлива, вот в чем было дело! С изумлением вспоминала Лиза строчки из ее письма: «Милый Шуринька… тебе с твоим огромным талантом обязательно надо работать, не пропускать же из-за меня такой великолепный сезон…» Она ничего не знала про себя, даже не догадывалась, влюбленная в своего мужа и преданная ему.
А у другой стены стояла еще целая серия картин, самых больших и, наверное, самых законченных. Это были целые композиции с цветами, листьями, травами, а в одну из этих композиций был включен автопортрет художницы. Молодая, улыбающаяся Мария Николаевна с маками в руках с надеждой и доверием смотрела на Лизу из глубины полотна – из того мира, который больше никогда не будет существовать и который оставался и жил на одном только этом клочке холста.
– Как странно, – выговорила наконец Лиза, – она была таким замкнутым, угрюмым человеком, так мрачно жила… Она любила только своего мужа и музыку… да еще немного сына. А живопись она забросила давно, еще в пятидесятые годы.
– Ах, все это совершенно неважно. И каждый раз бывает по-разному. Главное, что вы тоже чувствуете ее обаяние. Вот видите, видите? Тут ведь ничего не надо объяснять, правда? Художник сам говорит за себя. Елизавета Алексеевна, Евгений Иванович! Я хотел бы купить эти работы. Все. Целиком. Все, что вы согласитесь мне продать.
– Да что вы, что вы! О какой продаже может идти речь? Разве такие вещи продаются?
– Конечно, продаются. А как же иначе?
– Не знаю, – сказала Лиза. – Это ведь не мое. Я случайная, невыбранная наследница, просто передаточное звено. Вы можете все забрать так, правда, Женя? Мы будем рады, если это будет когда-нибудь выставлено…
– Ну, я-то вообще здесь ни при чем, – с натянутой улыбкой сказал Женя. – Вы, наверное, знаете, это наследство от первой Лизиной семьи. Вообще-то я не вижу причин, по которым она не хочет все это продать, не такая уж она богатая, но это ее дело, пусть решает сама.
– Елизавета Алексеевна! Ну, во-первых, я внесу ясность: живых денег у меня все равно нет, так что покупать я буду в долг и не знаю, когда заплачу, может быть, очень не скоро. Но сейчас дело не в этом; главное, чтобы я отобрал, а вы согласились.
Потом они пили чай и разговаривали, но Троицкий был рассеян и невнимателен, то и дело отвлекался, оглядывался на расставленные вдоль стен полотна и восклицал возбужденным высоким голосом:
– Нет, а ведь здорово, правда? Вы согласны? Вам тоже кажется, что это интересно?
Он вскакивал, переставлял картины по-новому, снова любовался, то и дело взрываясь короткими взволнованными речами об искусстве, революции, времени. Для него все это были понятия одного порядка, альфа и омега того прекрасного периода его жизни, когда сам он был молодым художником и близко знал всю ту блестящую плеяду советских художников старшего поколения, имена которых стали теперь хрестоматийными. Он не только встречался с ними, он учился у них, жил с ними одной жизнью и надеялся наследовать им. Но все сложилось иначе, ему выпала другая судьба, он бросил живопись, отказался от своего творческого «я», и вовсе не потому, что не был настоящим художником, а именно потому, что верность тому времени требовала от него большего, и теперь он выполнял то, к чему был предназначен, – он поднимал из праха и небытия свое прекрасное время, складывал из тысячи осколков ту единственную и неповторимую картину, которая заворожила его на всю жизнь.
Конечно, он не говорил всех этих высоких слов, но Лиза и без слов его понимала: портрет этого маленького скромного человека смотрелся только на фоне его коллекции, а она эту коллекцию видела! А сегодня еще узнала воочию, как творятся все эти чудеса.
– И все-таки, – услышала она упрямый голос Жени, – разве нет сейчас хороших молодых художников, достойных вашей коллекции? Мы бываем иногда на выставках, конечно, не на всех, но хорошей живописи много, очень много. Может быть, это не так оригинально, как вот эти семейные шедевры, зато профессиональнее, серьезнее.
– Ну, во-первых, я просто не собирал современных художников. Может быть, когда-нибудь и возьмусь, но пока наша коллекция ограничивается пятидесятыми годами. Это не принцип какой-то, а просто имеющий место факт. Вы знаете, я стараюсь видеть художника целиком, покупаю иногда триста, четыреста работ, сколько смогу достать, и тогда все видят: вот он, художник, и его судьба. А вот у нынешних – картины-то есть, а судьбы не видно. Может быть, я ошибаюсь? Я не знаю…
– А как же вам удается – четыреста работ? Это ведь, наверное, сумасшедшие деньги?
– Вы думаете? Ну, это, знаете ли, как смотреть. Сколько бы, например, стоили четыреста работ Репина? Правильно, столько же, сколько и одна, за них нельзя заплатить, они бесценны. А сколько я плачу за работы одной из самых талантливых его учениц, Глаголевой-Ульяновой, вы знаете? Пустяки, как за любую другую. И получается, что я беру их даром. Но вы, конечно, спросили не об этом, вы спросили, откуда я беру деньги. И если смотреть с обычной нашей человеческой точки зрения, то деньги огромные, даже думать страшно. Так вот, представьте себе, мне их дают! И обком меня очень поддерживает. И новое здание обещают построить. Это огромное преимущество моей жизни – там. Меня знают и доверяют мне. И я стараюсь никого не обмануть и не подвести. Вот Елизавета Алексеевна была в музее, видела. По-моему, что-то у нас получается, правда? Вы согласны?
Лиза кивнула. У этого разговора не было конца.
Через несколько дней Троицкий забрал картины, и без них столовая снова погасла, стала обычной, домашней. Лиза оставила у себя только один маленький пейзажик с полосатым зонтом и яркими брызгами солнца на зеленой траве, и теперь он висел в ее спальне. Конечно, ей хотелось оставить и автопортрет, но она понимала, что не имеет на это права, это была одна из лучших работ Марии Николаевны, и она должна была жить там, в музее, где собрана была вся ее странная творческая судьба, когда-то такая бездумная и счастливая и вдруг непонятным образом оборвавшаяся. И словно в расплату за то случайно выпавшее счастье началась ее вторая, ужасная, одинокая и трагическая жизнь. И все-таки теперь Лиза совсем по-другому смотрела на свое ненужное, навязанное ей родство с этой женщиной, невзлюбившей ее с первой встречи. Она вспоминала далекий, забытый новогодний вечер и удивительную музыку, которая звучала тогда. Мария Николаевна была талантлива, талантлива во всем, – вот в чем дело. И Рома был талантлив – из-за нее. Даже в горе она была не такая, как все, и, уйдя в него со всей присущей ей страстностью, сожгла себя до конца. И теперь еще больше, чем родство, тайно гордилась Лиза тем страшным временем, когда, смиряя себя, ухаживала за ней, больной, кормила ее на свои убогие деньги и помогала перенести все, что ей выпало, до конца. Она никому никогда не рассказывала о том горе, но какое же это счастье, что она тогда нашла в себе силы, чтобы все это вынести.
«А все-таки ты хороший, ты порядочный человек, Лиза, – говорила она себе по утрам, поднимая глаза на яркое пятнышко полосатого зонта в зеленых солнечных блестках, – как хорошо, когда, начиная день, можно с чистой душой напомнить себе об этом. Все хорошо, Лиза, все будет хорошо».