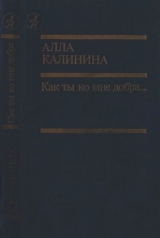
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
Глава 16
Однажды, после окончания занятий, спускаясь по институтской лестнице вниз, в вестибюль, Вета замерла от изумления. Там возле раздевалки сидела на подоконнике Ирка в своей короткой коричневой шубке и болтала ногами. Ее худые коленки смешно торчали из-под шубы, а физиономия сияла. Ирка была не одна. Возле нее стояли плотный моряк в черной шинели и еще один, повыше, в сером свободном пальто.
– Ира! Как ты сюда попала, что случилось?
– Ничего не случилось. Просто мы шли мимо и решили к тебе заглянуть. Ну ты хоть их узнаёшь?
Только теперь Вета догадалась. Да это же были Баргайсы, мальчики из их детства, в доме которых они отдыхали когда-то на Рижском взморье.
– Ну, конечно, – сказала она. – Ты – Марис, а ты – Айнис, мне же Ирка про вас все уши прожужжала. Где вы теперь?
Айнис засмеялся.
– Я в политехническом, а он уже кончил мореходку. Вот приехали посмотреть Москву.
– Неужели в первый раз? Ну, пошли. А где же вы живете?
– Они в гостинице, Вет. Представляешь, я звала их к нам – не захотели. А я у них в гостинице уже была. Интересно!
– Наш пострел везде поспел. Ну, так с чего мы начнем?
– Конечно, с обеда, – сказал Айнис. – У нас уже к столик заказан. В ресторане «Астория».
– Ах вот оно что! Я вижу, вы взялись за Москву всерьез.
– Вообще-то мы в Москве уже два дня, – вступил в разговор Марис, и голос у него оказался неожиданно низким, густым. – Мы вас совсем не хотим беспокоить. Это просто так, товарищеский ужин.
– Ой, а меня пустят? – волновалась Ирка. – Надо было мамины туфли на каблуках надеть.
– Со мной пустят, – сказал Марис, – я возьму тебя под руку, а ты сделаешь серьезный вид. Ты же уже совсем большая, настоящая девушка.
Они вышли на Калужскую, взялись под руки и зашагали вниз, к площади, только Ирка дергала Вету сзади за пальто и делала непонятные знаки.
– Ира, ты что? – спросила наконец Вета, когда они уже вошли в вестибюль метро.
Ирка вытаращила на нее синие сердитые глаза, возмущенно пыхтела.
– А Роман? – спросила наконец она. – Почему ты не зовешь Романа?
– А почему я должна его звать? Они ведь его не приглашали.
– Приглашали – не приглашали, какая разница? Совесть у тебя есть? Хоть бы позвонила ему, что идешь веселиться.
– Хорошо, я позвоню. Только я не понимаю, Ирка… Хорошо, я позвоню.
«Астория» сверкала белыми скатертями, сияла хрустальными люстрами и зеркалами, между столиков стремительно носились черные официанты, играла музыка. Их стол был уже накрыт – не очень обильно, но изысканно: шоколад, фрукты, шампанское в серебряном ведерке. Мальчики щелкали каблуками и наклоняли головы, приглашая их танцевать. С изумлением смотрела Вета, как преданно и осторожно Марис поддерживал в танце тоненькую, легкую Иркину фигурку, а Ирка принимала это уверенно, спокойно, что-то быстро шептала ему на ухо и серьезно взглядывала в глаза своими широко открытыми темными глазами.
– Послушай, Айни, – со смехом сказала Вета, – да у них с Марисом настоящий роман!
Айнис быстро взглянул на нее, сказал осторожно:
– Ты тоже заметила? Да. Это не очень хорошо. Марис… ты понимаешь, он немножко… как бы это сказать… немножко грубый человек. И потом, он, наверное, скоро женится, у него есть невеста. Не совсем невеста, но, наверное, скоро будет.
– Господи! Ну и что? Честное слово, это все глупости, она ребенок совсем, нельзя же принимать все всерьез!
– Ну почему? У нас в Латвии такие вещи всегда принимают всерьез.
Танец у них сбился, они остановились посреди площадки, Айнис взял Вету за руку и решительно повел к столику. Он налил себе коньяку, выпил и взглянул на нее веселыми серыми глазами:
– Я действительно совсем заморочил тебе голову. Ну, а ты, Вета, как ты живешь?
– Я живу замечательно.
– Ты совсем не изменилась, такая же красивая, только, по-моему, не очень веселая.
– Я? Я удивительно веселая. Только, я думаю, нам уже пора домой.
– А домой нельзя. У вас в Москве из ресторана никто не уходит, пока не споют «Спокойной ночи».
– Как это?
– А вот так: «Что сказать вам, москвичи, на прощанье? Как отплатить вам за ваше вниманье… Спокойной ночи, вспоминайте нас». Утесов поет. Эх ты, а еще москвичка!
На улице стояла уже настоящая весна, мокрые улицы блестели, отражая огни притушенных витрин, воздух был теплый, сладкий, незнакомый, словно его сменили, пока они сидели там, в душном, накуренном зале ресторана. Весна!
* * *
Как-то вечером Роман вернулся с работы необычно веселый, помолодевший, возбужденный.
– Послушай, Вета, – сказал он, – и ты, мама, тоже послушай. Это очень серьезно. В общем, дело в том, что мне предложили перейти на другую работу в совершенно новую закрытую фирму. Это предложение для меня большая честь. Представляете, оказывается, их шеф сам прочитал мою статью и сказал, что я должен работать у них.
– А кто такой этот шеф?
– В общем-то, я даже не знаю его фамилии, да и мало кто ее знает, его называют просто по должности – Главный конструктор, но это огромная фигура, просто гигантская. Они занимаются такими вещами, что просто голова кружится; в общем, это связано с космосом.
– С чем, с чем? Господи, только космоса нам и не хватало!
– Рома, а это не опасно?
– Какая опасность, мама, я же инженер, а не летчик. Но это очень интересно. Нет, ты понимаешь, то, что он меня сам приглашает, – это просто чудо. Я буду работать за городом, немножко далеко, но какое это имеет значение. Словом, я согласился. Они мне дали два дня на размышление. Представляешь, там не теряют времени зря, сразу быка за рога… и соглашайся. Правда, оформление очень долгое, но это ничего, зато работают они как черти. Так хочется настоящего дела! А здесь эта дурацкая мышиная возня с Ивлиевым, с приоритетом. Наплевать на приоритет, важно, чтобы само дело чего-то стоило.
– Ого, какая речь, – усмехнулась Вета. – Ты, по-моему, и правда на седьмом небе от счастья, первый раз тебя таким вижу.
– Да, я счастлив и горд, – он засмеялся своим заливистым странным смехом, – я ведь, в сущности, очень честолюбивый человек, а ты этого даже не знаешь. Я сегодня счастлив.
– Такое солидное учреждение – и так далеко, – сказала Мария Николаевна. – Неужели у них нет чего-нибудь поближе к центру? А ты тоже хорош, Рома, соглашаешься сразу, ничего не узнав. Может, были места и лучше, раз уж тебя приглашает сам Главный конструктор?
– Ах, мама, ну что ты говоришь, какие условия? Не интересуют меня никакие условия, меня интересует работа. А если ты волнуешься из-за зарплаты, то платят там даже больше, ты ничего не потеряешь, и никто ничего не потеряет. – Улыбка его гасла, он ходил по комнате, потирая большие белые руки, свистел сквозь зубы.
Разговор не получался, но и разойтись они не могли. А в первом часу ночи вдруг раздался звонок, звонила Юлия Сергеевна.
– Вета, извини, что я так поздно, но я просто схожу с ума, Ира не у вас?
– Нет, мама, что ты, я ее вообще несколько дней не видела и не слышала.
– Ума не приложу, где она может быть.
– Ну, знаешь, наша Ирина – человек самостоятельный. Да она, наверное, с ребятами, с Баргайсами.
– Вета, подумай, что ты говоришь. Может быть, она и с ними, но где – в такой час? Что она делает?
– Мама, я сейчас возьму такси и приеду. Конечно, все это ерунда, и она сейчас явится, но я приеду. Слышишь, не сходи с ума, все будет в порядке…
«Господи, только бы это не было связано с Марисом, – думала Вета, поднимаясь по знакомой лестнице с узорными чугунными перилами. – Что мне говорил тогда Айнис, на что намекал? Да нет, не может этого быть, она, наверное, давно уже дома».
Но Иры дома не было, пахло валерьянкой, мама металась по квартире:
– Вета, наверное, надо позвонить в бюро несчастных случаев, а я боюсь. Я не знаю, что делать.
– Мама, ничего не надо делать, поверь мне, надо ждать. Она придет, вот увидишь.
Неожиданно громко в ночной тишине пустой квартиры раздался телефонный звонок. Вета торопливо схватила трубку. Но это звонил Роман:
– Она не пришла? Вета, я немедленно выезжаю.
– Не надо, Рома, я тебя умоляю, не надо. Все будет нормально, я переночую здесь, ты нам совершенно ничем не сможешь помочь, только еще больше будет суеты. В любом случае она не одна и скоро придет. Я тебе тогда позвоню.
Ирина пришла в начале третьего. Открыла дверь своим ключом и удивленно уставилась на Вету:
– Чего это ты здесь? Мама! Но ведь я говорила тебе, что они уезжают, должна же я была их проводить! А поезд уходит поздно. Ну чего ты смотришь? – Ирка была румяная, сияющая, таинственная. – Потому что метро уже не ходит, я шла с вокзала пешком, я думала, все давно спят. Здорово так было!
– Что было здорово? – растерялась Юлия Сергеевна, нервно заглядывая Ирине в глаза. – О чем ты говоришь?
Ирина засмеялась:
– На улице было здорово, мама. Иду – никого, весна, Москва и я. А идти все-таки далеко, но совсем, ни капельки не страшно, даже весело. Только жалко – мальчишки уехали.
Они погасили свет и лежали в прозрачной темноте, в своей старой, до мелочей знакомой детской. Ирка ворочалась на кровати, и наконец раздался ее голос, полный едва сдерживаемой радости:
– Вета, а ты знаешь, я целовалась! Нет, ты не думай, что как-нибудь там в щечку, – по-настоящему! Он меня вот так взял ладонями за щеки и поцеловал.
– Кто – он?
– Ну конечно, Марис, разве ты не поняла раньше? Вета, ты знаешь, я его, наверное, люблю.
Вета смотрела на нее, не зная, что ответить. Нужно ли было рассказывать Ирке то, что сказал ей Айнис? Зачем ей знать это? Пока они встретятся снова, пройдет много времени и, может быть, Ирка забудет о нем. Господи, как странно, Ирка уже совсем большая, и она, Вета, жалеет ее. Почему? Да потому, что сама не верит в любовь.
– Ира, а как он относится к тебе?
– Он тоже… Я же говорила тебе, он сам, первый… Вернее, я-то люблю его давно, с детства, а он меня увидел только сейчас, но это все равно. Потому что потом, когда я вырасту, мы, наверное, поженимся. Вета, мне так нравится, что у них большая семья. Потому что, представляешь, сколько у меня будет родственников? И даже Айни будет мне как брат. А знаешь, как он ко мне относится? Еще лучше, чем Марис!
– Послушай, Ира! Откуда ты все это взяла! Он что, сделал тебе предложение или намекнул как-то?
– Ничего он не намекал. Но что же я, маленькая? Я сама все понимаю. Разве у вас с Ромой было не так?
– Рома – это совсем другое дело, – сказала Вета с невольным вздохом. – Что Рома? Думаешь, я уверена, что так и надо было поступить? Совсем нет. Куда я спешила? Не знаю.
– Это, наверное, потому, что ты его совсем не любишь, а я – люблю! Ты знаешь, когда он меня целовал, у меня даже коленки подогнулись. Вета! А когда ты целуешься, как ты дышишь – носом, да? А я совсем задохнулась, но это, наверное, потому, что ничего не соображала от счастья. А Айни злился… Вета, только смотри, маме – ни слова, а то знаешь, какая она у нас. Еще начнет проверять письма или вообще запретит с ними встречаться, придется прятаться, а я, знаешь, этого не люблю.
– Я не скажу, Ирка, только знаешь что? Ты все-таки себе не очень-то доверяй. Может, еще и разлюбишь его, мне, например, Айнис нравится куда больше…
– А жалко, что ты уже женатая, правда? Вышла бы замуж за Айни, а я – за Мариса, и были бы мы еще больше сестры, только все бы вышло наоборот, я была бы главнее, потому что Марис старше, а ты бы стала младшая…
– Ох, Ирка, какая же ты еще глупая, а уже собралась замуж…
– Я не глупая, я веселая. Ты, Вета, раньше тоже такая была, даже еще веселее.
– Так то – раньше…
Она лежала и думала. «Вот как просто испортить себе жизнь, один раз ошиблась – и навсегда? И больше уже ничего не будет? И никакой любви? Почему я жалею Ирку? Это меня, меня надо жалеть. Это я испортила себе жизнь. И не только в Роме тут дело. Почему я выбрала такой институт, чего я искала в нем? Мне надоела эта физика и электротехника, и все это ужасное, чужое, железобетонное, там ничего нет для меня, для моей души. Что я натворила с собой? Что мне делать?»
– Вета! Ты уже спишь? – прошептала Ирка счастливым, замирающим голосом. – Ве-та…
Вета не ответила. Она лежала, уткнувшись лбом в холодную стенку, и думала. Но она ничего, ничего не могла придумать.
* * *
На улице уже светило апрельское солнышко, и от луж, от солнца, от синевы больно было глазам. Вета бродила по Петровке, по Столешникову, без дела заходила в магазины, толкалась в пестрой весенней толпе – она прогуливала. Хорошо было здесь, в самой шумной, самой живой сердцевинке города, хорошо подставлять лицо солнцу, чувствовать себя сильной, молодой, красивой, ловить на себе чьи-то взгляды и улыбаться им навстречу. Нет, жизнь еще не кончена, даже не начиналась как следует. Отчего ей так страшно было тогда, ночью? Институт? Институт у нее отличный, серьезный, настоящий, и со всем она прекрасно справляется, и народ у них веселый, хваткий, дельный. Что ей тогда померещилось? Неужели просто позавидовала Иркиному детскому сиянию, ее наивности, ее мечтам? И чем ей плох Роман? Второго такого мужа нет ни у кого на свете. А любовь… Любовь была раньше, три года назад, когда они только встретились. Конечно, все постепенно затухает. Да и стоит ли думать об этом, когда на дворе весна? Как-нибудь все непременно устроится и будет прекрасно, она это чувствует, чувствует! Эта радость, это замирание сердца не могут обмануть. Все будет хорошо.
А вот и ее любимая кондитерская. Здесь продаются самые вкусные в Москве пирожные. Она несколько минут маялась перед витриной, глаза разбегались, и она не знала, что выбрать. Она с удовольствием перепробовала бы все пирожные, хоть по кусочку от каждого, но по опыту знала – больше двух ей не осилить.
Она держала пирожные на бумажке, пальцы были липкие, сахарная пудра сыпалась на пальто. И все-таки невозможно было есть их здесь, в сумраке и парном тепле кондитерской, когда там, на улице, сияло такое солнце. Она стояла у стены, ела, смакуя, потихоньку, незаметно слизывая сладость с пальцев, а перед носом у нее барабанила капель и осыпала ее мелкими, как пудра, брызгами.

Покончив с пирожными, Вета вздохнула, накрепко утерлась платком и, довольная, зашагала вверх к Пушкинской. И вдруг она остановилась, пораженная. Навстречу ей по Столешникову, опустив голову, заложив руки за спину, медленно шел Роман. Он был в длинном черном пальто, без шляпы, и его густые светлые волосы ярко взблескивали на солнце.
Рома! И все-таки она колебалась несколько мгновений: не пройти ли мимо? Но нет, почему? Это так здорово, что они встретились. Роман улыбнулся ей слабо, отчужденно, словно не очень был удивлен, столкнувшись с ней на улице.
– А я сдал документы, идти, в сущности, некуда… Ты свободна? Может быть, погуляем немного, поговорим? Тебе не кажется, что нам давно надо поговорить?
– О чем, Рома?
– Так, о разных пустяках. В сущности, я хотел бы, чтобы ты ответила мне только на один вопрос: ты собираешься от меня уйти?
– Я? С чего ты взял, Рома? Почему ты так со мной разговариваешь? Что случилось?
– А ты считаешь, что ничего не случилось?
– Ничего, абсолютно ничего. – Она схватила его под руку, вцепилась в жесткий черный рукав, заглядывала в его упорно наклоненное вниз лицо.
– Значит, ничего. Ты просто так, без всяких причин неделями не ночуешь дома, без всяких причин устраиваешь так, чтобы я не мог сопровождать тебя? Нет, Вета, так не бывает. У всего на свете есть свои причины. Может быть, ты даже сама не отдаешь себе в этом отчета. Тебе неприятно быть со мной, видеть меня?
– Что ты, Рома! Откуда ты это взял?
Роман усмехнулся:
– Я же не мальчик, – сказал он, густо краснея, – скажи лучше честно: я тебе противен?
– Да! – сердито выкрикнула Вета. – Если ты хочешь знать – да! Никогда не думала, что ты можешь вообще разговаривать со мной о таких вещах, да еще в таком тоне, так грубо. Как ты мог, Рома? Я тебя вообще не узнаю, что с тобой делается? В чем ты обвиняешь меня? Что я не такая испорченная, как другие женщины, которых ты знал раньше, до меня? Ты об этом со мной говоришь?
Роман вдруг очнулся, поднял голову, осторожно заглянул Вете в глаза:
– Извини меня, ты, наверное, права. Я действительно не знаю, что со мной делается. Это все из-за работы. Ты знаешь, переходить на новое место очень трудно, как-то стыдно перед всеми, кто остается. Михальцев, тот вообще на меня не смотрит, как будто я какой-нибудь предатель. В сущности, я, наверное, действительно его предал, он со мной столько возился, и эту статью заставил меня написать тоже он. А если бы не статья, кто бы меня там узнал? В общем, как-то нехорошо на душе.
– И ты решил выместить все на мне?
– Нет, Вета, нет, это совсем другое дело. Просто я очень боялся, что ты от меня уйдешь. Поедешь однажды ночевать к Юлии Сергеевне и… не вернешься…
Вета вздохнула и прижала к себе его руку. Да разве не об этом думала она много раз? Значит, он все замечал, обо всем догадывался и молчал, а она сердится на него, кричит, делает вид, что обижается. Разве она на самом деле обиделась? Конечно, нет, все она врет. Но ведь нельзя же ему признаваться. Что тогда они оба будут делать?
– Ну, не надо, Рома, ладно. У меня, конечно, тоже бывают всякие настроения, но потом ведь это все проходит, правда? Хочешь, давай посидим немного на солнце.
На Пушкинской площади плавился, блестел последний снег, но асфальт уже был чистый, сухой. Дети играли возле памятника, в последних лужах купались и чирикали воробьи, и скамейки были почти все заняты, жмурились на солнце старушки, женщины качали коляски, молодежь толкалась и хохотала, мужчины шуршали газетами. А Пушкин стоял, отвернувшись от них, почти спиной, опустив голову, черный, задумчивый, печальный, и чем-то был похож на Рому, каким Вета встретила его сегодня в Столешниковом.
Они сели на скамью, на оставленную двумя старичками газету, сидели молча, впитывая тепло, звуки, запахи этой ранней московской весны, и Вета чувствовала щекой, как нагрелось на солнце черное сукно Роминого пальто. Потом подул ветерок, потянуло по скверу собравшуюся в каменных углах прошлогоднюю пыль, стало зябко, и они поднялись, смущенные тем, что разговор опять застрял. Но все-таки они были вместе, дружно вышагивали по улице Горького вниз, к метро, ежились от вдруг набежавшей весенней прохлады, и Вета ловила в темных стеклах витрин свое отражение и была довольна тем, что иногда мелькало там, – они были красивой парой, высокие, молодые, светловолосые. «Все должно быть хорошо, – думала она, – все будет хорошо».
Глава 17
Приближалось лето, а в делах Романа по-прежнему не было никакой ясности. Космическое ведомство молчало, словно забыло о нем, но и у себя на работе он стал будто чужой, на него обиделись. Теперь он понимал, что сделал ошибку, рассказав обо всем Михальцеву, ему просто не терпелось поделиться своей радостью, успехом, но это была глупость. Порывистый, нервный, желчный Михальцев, который всегда помогал ему, оберегал, как тигр кидался на его защиту, когда Роман был его человеком, теперь стал с ним сух, холоден, официален. Теперь Роману ничего не поручали, ничего не рассказывали, он словно повис в безвоздушном пространстве. Демократическая, свободная, дружеская обстановка в лаборатории сохранялась по-прежнему, но он был исключен из нее, оказался один. Он пытался сломить отчуждение, неуклюже, беспомощно влезал в чужие разговоры, выскакивал со своим мнением, тыкался носом в насмешку или недоумение и сам понимал, что смешон.
Это был его проклятый замкнутый характер, он ни с кем не умел быть по-настоящему близок, его уважали, даже, может быть, любили, но доверительных, легких, приятельских отношений у него не было ни с кем, женатым людям был непонятен его образ жизни, для холостой молодежи он был слишком серьезен, слишком солиден. Да и степень его и его успехи, прибавляя ему научного веса, ставили его в лаборатории особняком. Если сказать по чести, раньше он даже гордился этим, но теперь… Каждый день он назначал себе поговорить с Михальцевым и каждый день откладывал, стыдился, ждал чего-то. Но однажды случай все-таки представился. Они вместе возвращались с ученого совета, было поздно, из лаборатории уже все разошлись, они были вдвоем. И Роман решился.
– Юрий Константинович, мне необходимо с вами поговорить, – сказал он ему в спину и замер, ожидая ответа.
Михальцев обернулся с язвительной улыбкой:
– Что вы говорите? О чем же это?
– Юрий Константинович! Мне очень неприятно, что наши отношения так изменились последнее время…
– Вот уж не думал, что ты, как барышня, любишь выяснять отношения!
– Я не люблю выяснять отношения. Но я оказался в нелепом положении неблагодарного, чуждого коллективу человека. Вы же знаете, что это не так. Я всегда помню, как много вы для меня сделали… Нет, я не так говорю…
– Скажи, Роман, а ты бы мучился так, если бы тебя оформили побыстрее? Только честно. Наверное, махнул бы хвостом и был таков? Просто ты волнуешься – а вдруг не выйдет, и здесь отношения уже испорчены. Правильно я говорю?
– Не знаю, – Роман смутился, – может быть, что-то такое и есть, но совсем в другом смысле. Я, конечно, тревожусь, что они так долго молчат, но ведь я не ищу никаких выгод и не готовлю отступного, мне просто очень тяжело чувствовать себя отверженным в лаборатории, с которой у меня так много связано…
– Ну что тебе сказать, Роман, ты же знаешь, мы все так относимся к своей работе и именно поэтому остаемся ей верны, хотя тоже догадываемся, что, наверное, существуют и другие места, может быть, и лучше оснащенные, и более перспективные. Но, видишь ли, все ухватить нельзя, погонишься за одним – упустишь другое.
– Значит, по-вашему, я совершил ошибку? Мне не надо было соглашаться?
– Я сказал, что надо иметь мужество терять.
– Юрий Константинович! Неужели вы это всерьез? Вы что – наказываете меня? За что? Неужели же нельзя отнестись к этому иначе, как к нормальному, обычному движению жизни?
– Все можно – теоретически. А практически – плевали мы на твое движение, ты уж меня извини. Двинулся – и иди, чего ты от нас хочешь? Сожалений? Их нет. Работал ты, теперь будет работать другой, подучим немного, будет не хуже тебя.
– И все-таки я чего-то не понимаю, – упрямо сказал Роман, – в чем я провинился перед вами? Что плохого сделал?
– Да ничего, абсолютно ничего. Что у тебя за дурацкая манера делить все на хорошее и плохое! Нет такого деления, что за детство! То, что хорошо тебе, – плохо другим, и наоборот. В одном только я с тобой согласен, скорей бы уж тебя оформляли… и – в добрый путь. Надоел мне твой слюнявый идеализм, и домой пора. Или для тебя это тоже не резон?
– Да, извините меня, извините.
Роман был ошарашен, растерян. Он думал, что произошло глупое недоразумение, которое легко будет рассеять, как только он объяснит чистоту своих намерений, но его намерения никого не интересовали, и сам он никого не интересовал. Михальцев его вообще не понимает, а он не понимает логики Михальцева, как будто они говорят на разных языках. Как странно, что, столько лет проработав в своей лаборатории, он только сейчас понял, как далек был от всех, как далек был от Михальцева, которого любил и уважал, с которым был, казалось, в таких добрых отношениях. Как же так получилось, что он не замечал раньше этих расхождений? Как вообще получалось, что все его победы и удачи в жизни оборачивались поражениями? Он искал и не находил ответа. Теперь его положение на работе стало еще тяжелее, еще двусмысленнее. Нужно было уходить если не в космос, то еще куда-нибудь, но он не мог уйти, он ждал этого проклятого ответа, и уже боялся, как сумеет прижиться на новом месте, и мучился своим непостижимым одиночеством. С кем он мог обсудить свои дела, с кем поспорить, у кого спросить совета? Такого человека не было на свете. Только Вета могла хотя бы отвлечь его от этих его утомительных мрачных мыслей, но у Веты опять была сессия, и ее нельзя было отвлекать.
После экзамена Вета пришла усталая, веселая, плюхнулась на диван, ласкалась к Роману.
– Ну, вот и все, Рома! Ох, как я устала! А практики у нас в этом году не будет. Представляешь – все лето свободное! Ром, давай помечтаем, куда мы поедем.
Роман тяжело вздыхал, никуда он не мог ехать, он должен был ждать ответа, а если бы даже ответ наконец пришел, он понятия не имел, согласится ли Михальцев на перевод, и просить его об этом было невыносимо. Но если не будет перевода, значит, не будет и отпуска. Сам бы он об этом нисколько не горевал, он и так одурел от безделья, но что он скажет Вете? Да и не в том дело, что скажет, а в том, как все получится, если целое лето она проведет одна, без него. Не так уж трудно было догадаться, чем это кончится. Что он мог ей сказать? И упрекнуть ее было совершенно не в чем, еще совсем недавно он сам представлял себе свое положение в жизни не многим правильнее, чем Вета.
– Ну, Ро-ма, чего ты молчишь, у тебя что, какие-нибудь неприятности?
– Да нет, что ты, с чего ты взяла? Просто я еще не знаю, когда у меня получится отпуск. Это из-за перехода, ты же понимаешь, сейчас ничего нельзя сказать.
– Ну и пусть, я же только так, помечтать, ты не расстраивайся из-за этого, как-нибудь устроится. Зато ты будешь там, где тебе интересно, правда? Ром, ну что ты такой скучный?
– Я не скучный, я думаю. Вот шел сегодня домой, а у нашего магазина пьяницы мелочь считают, волнуются, ссорятся. И я подумал: непьющий человек для них, наверное, вроде какого-нибудь марсианина, им совершенно непонятна моя жизнь, а мне непонятна их.
– А при чем здесь пьяницы?
– Подожди, сейчас я продолжу свою мысль. Понимаешь, существует огромное множество ну как бы пластов. Живет человек в своей среде, в своем круге проблем, людей, интересов, движется куда-то, достигает вершин, стареет. А рядом живут другие люди и, казалось бы, ничем не отличаются от него, но живут совсем другими интересами, в другом слое. Ну, как эти пьяницы, или, совсем наоборот какие-нибудь чистые математики, или вулканологи, или летчики. Понимаешь, я говорю не о профессии, а о круге интересов, о замкнутом мире. И вот эти слои существуют совершенно отдельно и никогда не смешиваются и не пересекаются, а если и пересекаются, то проходят друг сквозь друга, как через безвоздушное пространство. И это невозможно преодолеть, потому что каждый – раб своего образа жизни и у каждого свои меры ценностей. Ты понимаешь, здесь нет злой воли, просто, чтобы понять других, одним не хватает ума, другим – времени, третьим – воображения. И вот отсюда, мне кажется, и происходит взаимное непонимание и даже больше – одиночество…
– Почему ты заговорил об одиночестве?
– Да нет, ты не так меня поняла. Просто у меня несчастливый характер, я, наверное, не умею понимать других людей. Хочу, но не умею. Этому, наверное, надо учить с детства. И вот опять я чувствую себя виноватым. У тебя каникулы, свобода, тебе хочется уехать куда-нибудь, а я ничего не понимаю.
– Знаешь, Рома, иногда мне кажется, что ты действительно не догадываешься о многом, о том, например, что существует масса прекрасных вещей… да просто, извини меня, новые платья. Я уже не помню, когда в последний раз что-нибудь себе сшила или купила. Мне как-то неловко тебе сказать. И у людей уже есть телевизоры. А для тебя мир вещей – это, вот именно, чуждый пласт.
– Извини меня, Вета, я действительно идиот.
– Не смею спорить. Но дело даже не в этом. У меня праздник сегодня, я экзамены сдала, понимаешь? А для тебя это тоже пустой звук.
– Да, ты права. Но объясни мне, ну подскажи, что я сейчас должен сделать, чтобы тебе было приятно?
– Мне было бы приятно, чтобы ты все придумал сам. А быть мужчиной по жениной подсказке нельзя.
– Вета, по-моему, мы ссоримся.
– Разве? А мне кажется – нет. Мы великолепно друг к другу относимся, у нас нет разногласий ни по каким вопросам. В отпуск мы поедем, как только у тебя возникнет такая возможность. По-моему, мы идеальная пара.
– Неужели ты можешь над этим смеяться? Ради бога, давай прекратим, а то неизвестно, куда мы можем зайти. Это я виноват во всем. Я не говорил тебе, у меня действительно неприятности на работе. Но это все скоро должно кончиться. Вот увидишь, на новом месте все будет иначе.
Сейчас он верил в это. Урок не прошел для него даром, он постарается быть внимательнее к тому, что происходит вокруг. Он постарается победить в себе эту смешную сосредоточенность на самом себе, он ведь вовсе не такой уж эгоист и себялюбец. Скорее он слепец, ограниченный и скучный человек. Он должен бороться с собой. Иначе… Ему даже подумать было страшно, что будет иначе.
* * *
Как-то вечером позвонила Ирина и сказала, что у нее есть к ним обоим срочное дело, надо поговорить. Она приехала усталая, серьезная, в старом Ветином платье, которое болталось на ней.
– Вот что, Вета, – сказала она, – вообще-то я по поручению мамы. Она просила с тобой поговорить. Потому что она собирается выйти замуж.
– Этого не может быть…
– Почему же не может?
– Ирка! Да ты что! Ты понимаешь, что говоришь? А как же папа? Как мы?
– Вот именно – как мы, об этом и разговор. Вернее, как я… Потому что папа, Вета, давно умер. Ты вот, например, очень часто его вспоминаешь?
– Я ничего не понимаю, Ирка, так ты что, согласна?
Ирка вскочила, сердито забегала по комнате, у нее был вид затравленного маленького зверька, который не знал, что сделать лучше – нападать и грызть врага своими слабыми зубками или бежать во все лопатки.
– Знаешь что, – сказала она наконец, – я так не могу, давай все по порядку.
– Хорошо, давай по порядку. Кто он?
– Кто он. Ты, Вета, только не падай в обморок. Конечно, он – Федоренко.
– Кто-кто? Этого не может быть…
– А собственно, почему? – осторожно вмешался Роман. – Я давно чувствовал, что это назревает, что это может случиться.
– Так. Значит, все уже решено? Зачем же тогда со мной вообще разговаривать? Прислали бы по почте приглашение на свадьбу, и все…
– Какая свадьба, Вета? Ты, наверное, совсем ничего не понимаешь. Нам с мамой очень тяжело – и материально, и вообще. Ты знаешь нашу маму, она не очень-то приспособлена к жизни, она привыкла жить за папиной спиной, и теперь она совершенно беспомощна. Когда что-нибудь не так, она просто садится и плачет. Я в доме за мужчину. Это трудно, Вета, да и не очень мне нравится. И потом, ты забыла, я перешла в десятый класс. Что ты мне прикажешь делать потом? Идти работать? Мама на это никогда не согласится… Будет лезть вон из кожи. А ей и так несладко в домоуправлении. И на дом она берет работу.
– Значит, это все ради тебя?
– Да нет, конечно, не ради меня. Но и из-за меня тоже. Потому что ей страшно одной. Ты понимаешь, что значит – страшно?
Ирка все бегала по комнате, маленькая, побледневшая, сердитая и такая взрослая, что сердце у Веты сжалось. Чем-то она похожа была на Зойку, какой когда-то впервые увидела ее Вета. Но нет, Ирка была другая, в ней совсем не было злости, а только какое-то безмерное, недетское чувство ответственности, и жалость ко всем, и еще что-то… Ах, Ирка! Но чем Вета могла помочь ей? Даже денег у нее своих не было ни копейки. Отдавать ей свою стипендию? Но имела ли она на это право? И брать у Романа неприятно, стыдно.








