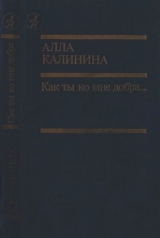
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Однажды, вернувшись вечером домой, Елисеев застал Лизу плачущей.
– Вот, прочитай, – сказала она и протянула ему письмо.
Он взял несколько страничек, исписанных косым летящим Иркиным почерком, и стал читать.
«Здравствуй, дорогая Вета!
Так давно тебе не писала и так много событий произошло за это время, что даже не знаю, с чего начать. Год был трудный, гораздо труднее, чем я могла себе когда-нибудь вообразить, особенно пока мы жили с родителями Камала. Здесь все не так, не те обычаи, не такие мерки, к которым привыкли мы с тобой с детства. Ты знаешь мой ужасный, нетерпимый и свободолюбивый характер, в какой семье я вообще бы смогла ужиться? А здесь – тем более. Прими еще во внимание, что женщины здесь почти не говорят по-русски. Остальное нетрудно себе вообразить. Словом, было тяжело, я держалась как могла, стараясь не огорчить Камала, но не очень-то мне все это удавалось. В конце концов он поднажал, и мы получили свою квартиру, хорошую, в центре, есть вода и газ, да мне ведь многого и не надо, я привыкла к походной жизни. Главное, что мы теперь одни и я могу вести себя так, как мне нравится. Ну и еще – огромную поддержку и радость мне приносила и приносит дружба с Троицким. Вета! Ты не представляешь себе, что это за человек и какие дела он здесь творит, сейчас он бьется за создание здесь музея искусств! И я уверена, этот музей будет! Коллекция у него и сейчас интереснейшая; ты знаешь, я стала в этом неплохо разбираться, потому что все свободное время, а у меня его было довольно, я проводила у него, стараясь помочь ему чем могу. У него ужасный характер, он никому ничего не доверяет и все старается делать сам, вплоть до мытья, реставрации, сколачивания рам. Это безумец, но я его за это еще больше люблю и уважаю.
Ну и, наконец, самое главное. Я писала тебе, что жду ребенка, и вот теперь он родился. Вета, у меня сын, ему уже скоро месяц, мы назвали его Бахрам, так хотел Камал, и у меня не было оснований ему перечить, раз все так вышло и мы живем здесь. Вот сейчас он спит рядом со мной в коляске. Он скуластый, с узкими глазками, весь в отца, как будто это и не мой ребенок, в нем ничего, ну абсолютно ничего нашего, логачевского! Я понимаю, что это все потом пройдет, и я буду любить его, и все будет хорошо, но сейчас мне так страшно! Камал опять в экспедиции, на Усть-Урте, привез нас домой и тут же умчался, и вот я сижу одна и схожу с ума от страха и одиночества!
Милая моя, любимая сестренка, не подумай, что я о чем-нибудь жалею, я сама и по доброй воле выбрала свой путь, я люблю этот край, мне интересно здесь, здесь моя работа, здесь Троицкий, но ты не представляешь себе, как я хочу сейчас домой, к маме, к тебе, в Москву! Милая Вета, ты знаешь, что мама звала меня рожать дома, но я отказалась и не жалею об этом».
Елисеев опустил письмо и посмотрел на Лизу: она сидела на кровати в прежней позе, зареванная, несчастная.
– Ну что ты, – спросил он, – что ты ревешь? Она сама этого хотела… В конце концов, каждый сам выбирает себе свой путь.
Глава 5
Смешные и странные складывались у Лизы отношения с начальством. Они с Мариной Викторовной, как две гусыни, то и дело оборачивались друг к другу, вытягивали шеи, мелкими шажочками шли навстречу, но, едва сблизившись, шипели и разбегались в разные стороны. Лиза хотела, но не умела что-нибудь переменить. Весь коллектив теперь, после нескольких лет работы, раскрылся гораздо интереснее, сложнее, многозначнее, чем показалось ей вначале. Лизино верхоглядство подвело ее, не было никакого богом забытого угла, не было безнадежности и скуки, было из всего этого на самом деле только обветшавшее старое здание, плохие декорации, но жизнь-то в них шла самая настоящая, путаная, интересная, неожиданная, и люди были тоже совсем не ординарные. И со стыдом начинала понимать Лиза, что ординарных людей-то, может быть, и вовсе не существует, а талантливых, одаренных, редких – гораздо больше, чем могла она себе вообразить, И таланты эти тоже были разные и выглядывали порой из такой бездарной упаковки, что она только диву давалась, откуда они взялись, пока не поняла, что просто-напросто прежде одни только упаковки и видела. Нет, не зря бежали годы, потихоньку набиралась она ума.
И к ней тоже постепенно теплели в лаборатории и даже однажды весной пригласили на общий девичник, на дачу к Елене Николаевне.
Ехали все вместе на электричке с Казанского вокзала, везли с собой всяческую снедь в сумках, бутылки, пироги. Май стоял такой зеленый и пышный, что дыхание захватывало глядеть, как блестит, сияет и шевелится все вокруг. Светились солнечные косогоры, усыпанные желтыми цветами, и женщины тоже сидели улыбчивые, добродушные, нарядные. Дача у Елены Николаевны оказалась огромная, старая, обветшавшая, она стояла среди сосен, как в густом лесу, и конца участка не было видно, только вдали, в зелени орешника, проглядывала какая-то крыша. Столы были накрыты прямо во дворе, под соснами, и заставлены были такими блюдами, что смешно стало Лизе, зачем они еще что-то везли. Елена Николаевна сама встречала их у калитки в нарядном лиловом платье с рукавами фонариком, и тут только заметила Лиза, что почти все были с нею на «ты» и называли запросто Леной, и муж у нее оказался неожиданно молодой и интересный, но он только мелькнул белой рубашкой с закатанными рукавами, блеснул улыбкой и укатил куда-то на велосипеде.
– Ага, услала, испугалась! – хохотали женщины. – А то мы бы его сейчас защекотали.
– Девочки, девичник так девичник, уговор дороже денег! – невозмутимо улыбалась Елена Николаевна.
Она, может быть, даже была бы и хороша, если бы не больные зубы, портившие ее улыбку и невольно приковывавшие к себе внимание. Но сколько ее за это ни пилили, она отмахивалась беспечно и отвечала: «Отвяжитесь.
С детства боюсь зубных врачей, и не просите, и не уговаривайте». Зато были у нее огромные голубые насмешливые глаза и острый язычок, и еще она в совершенстве знала французский, что вообще в нынешние времена было редкостью и даже некоторой экстравагантностью. Но наряду с французским пользовалась она и крепким мужским словцом и умела ловко пересыпать одно другим, когда надо было на кого-то произвести впечатление. Елена Николаевна первая и единственная в их лаборатории была за границей, в Париже, и привезла оттуда в качестве сувениров такие штучки, что два дня никто в лаборатории не мог работать, а только исподтишка разглядывали подарки, шептались и хохотали. Даже Лиза получила тогда сувенир, совершенно приличный – крошечный фарфоровый китайский ковшичек, расписанный золотыми драконами. И все-таки сейчас впервые увидела она Елену Николаевну по-настоящему, увидела интересную, умную, нарядную женщину на большой старой даче и вдруг преисполнилась к ней такой симпатии и благодарности за то, что ее приняли в свой круг, что даже в носу у нее защипало и стало неловко.
Между тем все рассыпались уже по участку, кто-то включил музыку, женщины постарше хлопотали возле стола, уставляя свободное пространство привезенными угощениями, а грозная Галина Алексеевна, скинув платье, под которым оказался пестрый ситцевый купальничек, загорала на крыльце, единственном месте, куда сквозь густые кроны сосен попадало прямое и сияющее майское солнце. Было легко и весело. За столом пили, разговаривали и смеялись. Красивая пожилая Элеонора Дмитриевна в седых буклях пела высоким голосом старинные романсы, ей все хлопали и просили петь еще и еще, потом запели все, а в перерывах толстая добрейшая Серафима Ивановна, смущаясь, стала рассказывать неприличные анекдоты, и все смеялись не столько над анекдотами, которые вовсе ей не удавались, сколько над нею, а у Марии Львовны даже сделалось что-то вроде судорог или икоты, и она, махая руками и взвизгивая, убежала куда-то в глубину участка, за сосны. Развлеченная всем этим, многим и новым для нее, и даже немного опьяневшая, Лиза только к концу дня вспомнила про Марину Викторовну, которая тоже сидела здесь, рядом, подперев рукой большую голову, украшенную темной короной уложенных вокруг головы кос. Она пела вместе со всеми и вместе со всеми смеялась, ничем не привлекая к себе внимания среди общего шума и веселья. Любопытный был у нее характер, со склонностью к таинственному. Но не хотелось Лизе сейчас разгадывать ее шарады, и она отвернулась беспечно и весело.
Потом плясали, а под вечер расходившиеся женщины затеяли играть в футбол и до самых голубых весенних сумерек с воплями гоняли между сосен красный детский мяч. Лиза тоже немного побегала, но потом отстала и с удивлением заметила, что среди играющих остались одни ветераны, а молодежь постепенно отсеялась, сидела, обмахиваясь платочками, прихорашивалась, готовясь в обратный путь. Прекрасный это был день. В темноте за забором замелькали фары.
– Ну вот, – сказала Марина Викторовна, – это за мной. Поедемте со мной, Лиза, я вас с мужем своим познакомлю.
– Езжайте! Лиза, езжай! – закричали вокруг. – А мы без вас тут еще немножко посплетничаем…
Они попрощались и, провожаемые всей толпой, вышли за калитку. Лиза нагнула голову и нырнула в освещенное, уютное нутро машины. Муж Марины Викторовны обернулся к ней, протягивая руку, и такое у него было симпатичное, приветливое, умное лицо с высоким залысым лбом и темными веселыми добрыми глазами, что Лиза разом с первого взгляда прониклась к нему самыми теплыми чувствами, как будто давным-давно знала его и даже без него скучала. Он был из того, забытого детского мира. Марина Викторовна, отставив в сторону костыли, села рядом с ним на переднее сиденье, он ловко развернул машину, и они поехали под редкими желтыми фонарями по затихающему ночному поселку, мимо тускло освещенных дач, спрятанных в глубине участков за деревьями. Лиза смотрела в курчавый крепкий затылок Геннадия Матвеевича и размягченно, счастливо думала: «Ну, какой же он инвалид! Вон как уверенно водит он машину… Наверное, походка у него некрасивая, может быть, он тянет ноги или они не гнутся, совсем не в этом дело, зато какое милое у него лицо…» Только теперь стала она понимать, как много на свете красивых людей, раньше, в молодости, ей казалось, что красота – это что-то единое, некий образец, эталон, совершенство. Даже страдала она одно время, что у нее слишком крупная фигура, а зубы, наоборот, мелковаты для ее лица, не соответствуют стандарту. А потом вдруг увидела – да люди в большинстве красивые, и какое множество, какое бесконечное разнообразие красоты существует на свете. С улыбкой вспоминала сейчас Лиза прыщавую, уродливую лаборантку из одного института, которая, поводя перед зеркалом плечами, весело рассказывала ей о своих многочисленных поклонниках, то и дело пересыпая рассказ словами: «А фигурка ведь у меня прелестная…» Фигура у нее и правда была хорошая, и это была ее красота. Вот так и Геннадий Матвеевич, сидевший в темноте впереди, был красивым, и костыли не убавляли его красоты. Наверное, и Марина Викторовна увидела его когда-то так же, ведь он был хромым с детства.
– А я давно хотел с вами познакомиться, – говорил между тем Геннадий Матвеевич, – я очень много слышал о вас, Маша мне рассказывала.
И от этого «Маша» стало Лизе на мгновение неловко, все-таки они были много старше ее, ну, может быть, чуть-чуть моложе мамы; во всяком случае, гораздо ближе к маме, чем к ней. Но разве имело это какое-нибудь значение, разве сама она не считала, что для взрослых людей возраст вообще не так важен? Нет, в какой-то части своего «я» она все еще оставалась глупым неповоротливым подростком.
Марина Викторовна сидела к ней вполоборота, с улыбкой поглядывая то на мужа, то на нее, и вдруг сказала:
– А знаете, Лиза, Геннадий Матвеевич был знаком с вашим первым мужем. Правда, как тесен мир?
Только на одно мгновение Лиза задохнулась, впилась пальцами в сиденье, потом глотнула, открыла глаза.
– Да-да, я его знал. Не могу сказать, что мы были друзья, нет, но мы вместе работали, я ведь математик. Это было недолго, перед самой его гибелью, но он оставил у меня прекрасные воспоминания. Это был удивительный, редкий и очень одаренный человек. Я и про вас немного знал, он был так влюблен! Согласитесь – немногие люди после нескольких лет брака по-настоящему влюблены в своих жен, а он был такой.
Так вот, значит, в чем дело, в тоске думала Лиза, она разнюхала, докопалась, разузнала все про нее и теперь радуется, теперь и она, Лиза, тоже попала в убогонькие, в страдалицы, но она не хотела, не хотела этого, ее судьба никого не касалась.
– Вы извините, может быть, вам тяжело вспоминать? – вдруг оборвал себя Геннадий Матвеевич, и Лиза поймала в зеркальце его добрый удивленный взгляд.
Она очнулась, ее молчание конечно же было невежливым.
– Нет, отчего же, – сказала она с усилием, – столько лет прошло, и вот… вы первый человек, который его знал, я ни с кем до сих пор не встречалась, мама его тоже умерла давно.
– Я так и подумал, что вам будет приятно, и Маша мне говорила: «Лучше расскажи сам». Вы ведь не обиделись, правда?
– На что же тут можно обижаться?
Машина катила теперь по шоссе, и вдали над полями легким миражем уже всплывали во всю ширину горизонта огни Москвы.
Женя ждал ее, не спал, вышел в переднюю, едва только услышал, как она заскребла ключом в замочной скважине.
– Что-то ты поздновато сегодня, Лизок. А я уже начал беспокоиться.
Лиза посмотрела на него: и правда, какое-то не такое было у него лицо, и, вопреки своим привычкам, стала она ему рассказывать про весь этот бесконечно длинный день, и, пока она рассказывала, все яснее ей делалось, что опять ничего не поняла она в Марине Викторовне, а та вовсе не вызнавала про нее и не разнюхивала, она просто искала ее, Лизу, искала ее дружбы и поддержки. Совсем не простые были у нее отношения с коллективом, и совсем не так безусловен был ее авторитет, как казалось Лизе. Веселая и разбитная Елена Николаевна явно конкурировала с ней в лидерстве, ведь ей тоже предлагали место заведующей, но она отказалась. А вот Марина Викторовна не устояла, взялась. И от этого у нее друзей не прибавилось, а наоборот, она была за это сразу наказана, по старой российской привычке: от начальства подальше – здоровей будешь. Все подались, отшатнулись от нее. И она, Лиза, тоже – из гордыни, из глупого чванства. И там, на празднике, была Марина совсем одна, а Лиза и этого не заметила, не захотела протянуть руки ни за что ни про что обиженному человеку. Сработала инерция, и вот уже драгоценное воспоминание, которое оба они, Марина и ее муж, готовили ей как подарок, показалось ей наглостью и посягательством. Ах, дура, проклятая дура…
– А муж Марины Викторовны очень милый человек, – закончила она свой рассеянный рассказ, – довез меня до самого дома.
На следующий день твердо решила Лиза загладить свою вину, но Марины Викторовны не было, она куда-то уехала, потом была занята, потом на Лизу навалилось много работы. Только к концу недели выбралась у нее наконец минутка поговорить. Марина Викторовна сидела за столом, разбирая какие-то бумаги, позевывала, поглядывала в окно. Лиза подошла и села рядом.
– Все хотела вам сказать, – начала она несмело, – как приятно мне было услышать добрые слова про Романа Александровича. – Она впервые так назвала Рому и сама удивилась этому.
– Ничего вам не было приятно, – Марина посмотрела ей прямо в глаза, – разозлились, обиделись, как девчонка. А почему?
– Ругайте меня, правильно, я ужасная дура. Просто давным-давно ни с кем про него не говорила, и, знаете, хлестнуло по нервам. Все так сложно. Я виновата перед ним, я была плохая жена…
– Лиза, с чего вы решили исповедоваться?
– Да нет, вы неправильно меня поняли, совсем это из другой оперы, и вы не будьте такой злой, совсем это на вас непохоже. Я хотела сказать… Роман Александрович не просто близкий, дорогой мне человек, он для меня гораздо больше, он – целый мир, давно мной потерянный, не знаю, как вам лучше объяснить…
– А вы не объясняйте, зачем?
– Затем, – губы у Лизы задрожали, – затем, что дорожу вашим мнением…
– А мнение мое о вас самое хорошее, разве и так не ясно? Да не мучайтесь вы, все хорошо. И дома у вас все нормально, у вас ведь дочка есть.
– Да у меня и муж прекрасный, – Лиза вздохнула, потому что ничего этим проклятым бабам невозможно было объяснить, все у них одно и то же на уме. Но все-таки легче у нее стало на душе. И она уже с улыбкой спокойно добавила: – Ну, простили вы меня? Больше не сердитесь? И Геннадию Матвеевичу передайте от меня привет, он такой у вас милый человек…
– А вот это уже чистейший подхалимаж! – засмеялась Марина Викторовна. – Знаете мое слабое место. А что, не боитесь, что родной коллектив вас за ушко да на солнышко?
– Что я, хуже вас? Вы же не побоялись войти в клетку с нашими тигрицами?
– До сих пор боюсь, да что поделаешь? Мы, российские бабы, вечно хватаем кусок не по зубам, а потом тянем… Куда денешься? Ответственность! Если бы у меня спросили: есть у тебя бог? Я бы так и сказала – ответственность и долг, будь они трижды прокляты. Тяжело-то как!
– Ничего-ничего, не прибедняйтесь, вы крепкая!
– Думаешь?
Они сидели довольные, весело поглядывая друг на друга. Ну что было трудного или страшного – взять и поговорить? А вот какой же долгий был к этому путь! Может быть, потому так высоко и ценится взаимопонимание? Да пусть оно даже было и не полное, куда важнее было желание, готовность понять друг друга, взаимное доверие – такой пустяк!
Под впечатлением этого доброго события в тот же вечер помчалась Лиза к маме. Ей хотелось и с мамой все переделать, переменить, вернуть прошлые, позабытые с детства отношения, когда мама окружала ее со всех сторон нежностью и теплом, а она висла у нее на шее и называла «мамусей», «мусей». Наверное, с мамой она тоже одна виновата во всем, надо только честно во всем признаться, надо только захотеть.
Мама с Сергеем Степановичем сидели перед телевизором, свет был выключен, кончался какой-то фильм.
– Что же ты, Вета, даже не предупредила? У меня и к чаю ничего нет…
– А у меня есть! Вот! Торт «Сказка».
– Ну, зачем ты тратилась? Мы сладкое все равно не едим, да и тебе не стоит, ты так располнела в последнее время…
– Правда? Я как-то не замечала. Мне казалось…
– Подожди, Вета, сейчас кончится…
Они не в силах были оторваться от ящика. Лиза села и тоже постаралась смотреть, но ничего она не понимала – кто что. И она покорилась, сидела, задумавшись, молча. Наконец фильм кончился, Сергей Степанович встал, потягиваясь.
– Ну, покажись, покажись, дочка. Давно я тебя не видел! – Он был, как всегда, бесконечно доброжелателен, но и безгранично бестактен.
Лиза приветливо улыбнулась ему, чмокнула в щеку, ей так хотелось угодить маме. И пошел разговор, привычный, раздражающе знакомый, даже не разговор, а бесконечный монолог Сергея Степановича во славу прошедших времен, когда люди жили спокойно, не стремились прыгнуть выше себя и усердием достигали если не всего, то многого.
– А ты, дочка, – говорил он, – вот ты всегда на меня обижаешься. То не так, это не так… Испорченное вы поколение. Нет в вас крепости, веры, образцы себе выбираете неправильные! Слишком много вам воли дается, всех судите…
Это было бы и скучно, и смешно, если бы не было страшно. Кто занял место ее отца? Лиза отмалчивалась. Она приехала сюда мириться, а не ссориться. Но маму трудно было провести. Она наблюдала за Лизой настороженно, зорко и улыбалась иронической скованной улыбкой. Она была на страже, чтобы вовремя вступиться за беззащитного Сергея Степановича перед распущенной, неблагодарной дочерью. И вот уже неудержимо их втягивало в привычное русло. И, привычный, колкий, обиженный, уже кружился разговор. Лиза крепилась. Ну откуда было маме знать, с чем она пришла? Она старалась переломить настроение, бог с ней, с политикой, лучше говорить про Оленьку, про работу, про веселый день на даче с сослуживцами, но мама все так же, помаргивая, смотрела на нее, словно ждала, когда же наконец проявится злой умысел, когда выяснится, зачем все-таки пожаловала дочь. Уж не вообразила ли она, что Лиза приехала чего-нибудь просить? И разговор постепенно замирал, истаивал, ничего у Лизы не получалось, они были чужие. Лиза поднялась.
Все было безнадежно. В голове у нее была путаница. Она сама не знала, как назвать свои поступки – нравственными исканиями или гордыней. Она хотела жить правильно, чисто, честно, но почему-то каждый раз ошибалась, мучилась, не понимала, кто прав и кто виноват. Она хотела понять всех и – не умела. Даже такие простые вещи, как «хорошо» и «плохо», оказывались зыбкими, играли с ней, менялись местами, и она брела среди них на ощупь, руководствуясь смутным, каким-то внутренним чувством, которое даже совестью нельзя было назвать, потому что было это что-то слабее, проще, вроде палки в руке слепца. Кое-как брела она по своей дороге, на стены не натыкалась, но и прозреть тоже не могла. Истины, которые подсказывал ей рассудок, были слишком жестки и угловаты, слишком обнажены, лишены покровов и тайн, которые одни только и делают жизнь прекрасной. Может быть, она была близка к религии, но только к какой-то другой, своей собственной, нравственной религии, и там, в ее святилищах, мама и папа были божественны и безгрешны, и их любовь к их земным детям, так же как и любовь детей к ним, не могла подвергаться сомнению. Почему же она не умеет найти той единственной затерявшейся тропинки, которая вывела бы ее из ужасного тупика назад, к маме? Нет, не имела она права поддаваться обиде и злобе, надо было быть выше, стараться любить их вопреки ее печальному знанию. Не позволять себе подвергать сомнению!








