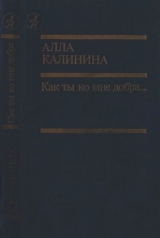
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
И пошел шуровать чего в голову придет, прямо как свободный предприниматель. Знаешь, с чего начал? Очень интересно начал. Всех уволил. Время было тяжелое, голодное, цены как бешеные росли. Деньги, они, знаешь, всегда нужны, а в войну – еще больше. Вот уволил я всех, а фонд зарплаты на троих поделил: я и еще два паренька покрепче. Одного-то Васька звали, Васька Бельчиков, а вот второго не помню сейчас, забыл. Вот мы и стали деньги прямо лопатами грести, зато и жили на заводе, ни выходных, ни смен, спали в очередь, чтобы только на ногах держаться, зато мальчишки мои о семьях могли не думать, на пропитание хватало. Делили поровну, как братья-разбойники, на три кучи.
И вот начали мы строить цех. Технические подробности я пропущу, сейчас это неважно, а вот как мы участок хромировки наладили, этого я никогда не забуду. Это все равно что заново его изобрести надо было. Ну, не знал, ничего не знал я про эту чертову хромировку, кроме того, что она упрямая как ишак и капризная как барышня. А заводить надо. И вот, представляешь, в городской библиотеке нашел какую-то книжонку, а в университете старичка интеллигентного раскопал, который что-то такое слышал да пару раз видел, как это делается, но сам не пробовал. И все-таки я ее запустил, хромировку, и она заработала! Ты не представляешь, что это такое, какое ликование, какая гордость, да что гордость – счастье! Как ребенка родить, только еще больше, потому что никто до меня не мог, а я – первый и единственный, сам!
Ну да что говорить, мало-помалу заработал цех, и завод ожил, теперь уже не кое-как, а по-настоящему, по всей заводской культуре, да и народ пообвык, подучился, не во мне же одном дело, а все-таки и я тоже молодец, нос задрал, хвост распушил. Приятно. Тут бы историю и кончить, это я тебе про свою профессию объяснял, какую она роль играет, поучительная часть, так сказать, а моя-то история только начинается. Ну как, хочешь дальше слушать?
– Да ну вас, Борис Захарович, еще спрашиваете. Конечно, хочу.
– Ну так вот. Только я распушил хвост, тут это и случилось. Вызывают меня однажды к директору, я плыву, костюмчик новый, галстучек, одет с иголочки, по тем временам, конечно. А что, я холостяк еще был да глупый. Вхожу, директор в приемной сидит на диване, как гость, а в кабинете – трое, за столом, как на суде, в кино. Один горбатый, маленький, едва видно его, второй военный, в кителе, строгий, а третий вообще не поймешь какой, не запомнил я его. И без разговоров – допрос. Фамилия, год, место рождения, социальное положение, ну и все, что полагается.
Я себе голову ломаю, в чем дело, ничего понять не могу. А они знай свое – допрашивают. Не знаю, помнишь ли ты, что такое в те военные времена была тройка… Это смерть моя собственной персоной сидела передо мной в трех лицах, и я это знал, только поверить никак не мог, потому что не было за мной ничего и никогда. Я верой и правдой… А тут такое. Ну мало-помалу понял я, в чем меня обвиняют, что-то вроде экономической диверсии. Оказалось потом, что кто-то из уволенных на меня анонимочку накатал, но я же об этом тогда не знал. Таращу глаза и смеюсь – молодой, глупый.
И знаешь, что потом оказалось? Вот эта самая глупость меня и спасла. Ушли на совещание, горбун глазами сверкает; ну, думаю, все, конец. Прощайся, Борька, со своей короткой, но яркой жизнью. А вернулся горбун один, скучный, пробубнил что-то, кое-как выкарабкался из-за директорского стола и исчез, как будто никогда не был. Оказывается, оправдали меня. Я как испугаться не успел, так и обрадоваться не смог. Чертовщина какая-то. Вышел, директор меня обнимает, а сам бледный, кровинки в лице нет, по нему с этим делом, видно, тоже крепко метили, что развел у себя, понимаешь ли, нэпмановский элемент. Так что для него это тоже было спасение. Но он бы и так за меня порадовался, он меня любил, потом к ордену за это же самое дело представил, да я уже в то время в Москве был, так и не получил орден Трудового Красного Знамени. А жаль, был бы сейчас орденоносец!
Ну, а тогда пришел в общежитие, мы к тому времени уже на заводе не спали, получили с Васькой шикарную комнату на двоих, а Васька этот, Бельчиков, в истерике валяется, кинулся ко мне, обнимает, плачет. Я, говорит, всю общественность поднял, я им рассказал, какой ты парень. И плачет. Любили все-таки меня люди. Приятно.
Да-а… Но ты что, думаешь – это конец? Что ты! Самое начало. Весь детектив-то впереди. Во-первых, я тебе еще не рассказал, почему меня оправдали. Я это только через много лет узнал, уже война кончилась, я женился и ехал с женой на курорт в мягком вагоне, все как полагается. И вдруг останавливает меня в коридоре полковник, пожилой, лицо приятное, седина на висках. Спрашивает: «Вы меня не помните?» Нет, не помню, ну совершенно незнакомый человек. А оказалось – это тот, из тройки. Смеется: «Видите, вы меня даже и не узнали, а ведь я вас от смерти спас, это я тогда голосовал за ваше оправдание, один. Очень вы тогда неожиданно засмеялись, и я сразу понял – плохого вы ничего сделать не могли. У нас ведь обычно не смеются. Я поэтому и лицо ваше так хорошо запомнил, видите, не ошибся».
Вот ведь как бывает, легкомыслие мое меня спасло. Ведь тройка решать могла только единогласно, такой недосмотр был. Вот я и выкрутился. Ну разве не чудо? Чудо. Ну, а что со мной дальше случилось, это уж я тебе как-нибудь в другой раз расскажу, а то язык одубел.
– Нет, Борис Захарович, ничего не выйдет, давайте сейчас. Кто знает, что дальше будет… Там экзамены, потом практика, а потом – неизвестно что, а я самого интересного так и не узнаю? Нет уж, рассказывайте.
– Ну, смотри-смотри, потом не обижайся, что я тебя заговорил. Мне-то что! – Он посмотрел на Вету странным, изучающим взглядом поверх очков, вздохнул, покачал плешивой круглой головой и снова подхватил ее под руку. – Ну, слушай. После той истории директор решил меня от греха пока убрать с завода и послал меня в командировку в Москву на значительное время и с особым заданием. А надо тебе сказать, что и экспериментальный цех к тому времени уже заработал, и ехал я с образцами новых изделий для испытаний и всяких переговоров, связанных с этой нашей новой продукцией. Конечно, все секретно-пресекретно, но в войну это было не то чтобы проще, нет, наоборот, строже, но возможностей таких не было бюрократию разводить. Словом, еду, купе, а под лавкой, чтобы особо не привлекать внимания, – два ящика с игрушками, заколочены, перевязаны, надписей никаких, мало ли там чего. Документы в кармане пиджака, заколоты булавкой, все честь честью. Сижу, разговариваю, сосед попался забавный, кудлатый такой парень лет тридцати, раненый, ехал в Москву выручать брата, брат у него там где-то такое проворовался. Ну, а он фронтовик, на костылях и все такое, пожалел брата, ехал. Он мне в первый же час всю историю выложил и вообще-то понравился мне, хороший парень, я ему и посочувствовал. Дело в том, что у меня брат – юрист, я и подумал: если застану его в Москве, можно будет сходить посоветоваться. Парень адрес записал, едем. Время идет, голодновато, зима, в окнах все белым-бело. Не помню уж, на какой день, но помню точно – стояли в Свердловске. Ночь. То ли спал я уже, то ли не знаю что, в коридоре топот, крики, ну – вокзал ночью знаешь что это такое. Вдруг, как во сне, дверь открывается, чья-то рука хватает мой пиджачишко, раз – и нету! Вскочил, бегу, в коридоре полно людей, еле протолкался, вижу – какая-то тень метнулась, то ли женщина, то ли мальчишка, темень, в глазах рябит, ничего не понимаю, где я, только вижу – нагоняю, нагоняю! Догнал, повалил, то ли стукнул, то ли толкнул, маленькое что-то, жалко, но пиджак мой в руках, с деньгами, а главное – с документами. Секретные ведь документы, я за них головой отвечаю. Бегу назад счастливый, на ходу щупаю – булавка на месте. А мороз! Хорошо, я в бурках был и пальто успел натянуть. Но без шапки. Слава богу, у меня в то время волосы густые-прегустые были. Что, не веришь? Представь себе – были, целая шевелюра! Словом, прибежал я назад, а поезд-то тю-тю, ушел! И два моих ящика под лавкой – вместе с ним. Стою я на перроне без шапки и понимаю – пришел мне конец, все. Теперь уж не выкрутиться никак. Чувствую – плачу и слезы на мне замерзают. Ну что я, думаю, за несчастный такой, почему у всех людей по-людски, а со мной обязательно что-нибудь случается. Теперь я знаю: слишком много тогда во мне было энергии, а ума, культуры – мало, так и лез во все дыры, так и лез, вот и выходили приключения.
Ну так вот, стою, плачу, а у самого в голове уже колесики крутятся. Что же это, думаю, я время зря теряю, когда в нашей стране авиация существует. А поезда, наоборот, ходят медленно. Надо же мне поезд скорее догонять! Узнал на вокзале, где аэродром, в общих, конечно, чертах, машину в то время было, конечно, не достать, да еще ночью, в чужом городе. Пошел пешком. Ох уж мне этот Свердловск, всю жизнь помнить буду! К утру выбрался куда-то, сам не знаю – куда, спросить не у кого, да и не очень хотелось спрашивать, пойди потом объясняй, кто ты и зачем. Война. Но к утру понял – пропадаю, не найти мне. К какой-то деревне выгреб. Вошел в сельсовет просить лошадь, иначе, понимаю, – конец, да и замерз насмерть.
Тут меня и арестовали. Сколько взаперти держали, пока милиция приехала, пока разобрались, зачем мне объект военного значения, да кто я, да что, да как. Про ящики я, конечно, молчал. Но люди есть люди. Смотрят в лицо человеку и видят – нет за ним ничего, нормальный он человек. Словом, посочувствовали, отпустили, даже лошадь дали. Дальше – как в сказке, в свое время попал в самолет, лечу. Москва. А я по ней так стосковался, столько времени не видел! А даже оглянуться некогда, лечу на вокзал. Смотрю – стоит мой поезд, двадцать минут как пришел, даже проводник еще на месте. Кинулся, а ящиков нет. Нет ящиков! Опоздал! Сперли! Все! Если бы не эти бдительные бабы из сельсовета, я бы, может, еще и успел, а теперь – конец, где искать? Москва велика.
Еду домой, и время есть по сторонам поглядеть, последний раз надышаться, а глаза уже ни на что не смотрят. Потерял секретную продукцию завода, о чем тут еще говорить.
Прихожу домой, мама еще жива была, она ко мне незадолго перед войной переехала, выскочила, такая румяная, довольная, даже не удивилась мне; вхожу, а в комнате сидит – знаешь кто? Тот парень на костылях, что со мной в вагоне ехал к брату-вору. Помнишь, я ему еще адрес дал? Сидит и чаи распивает. И мои два ящика красуются на самом виду.
Нет, сколько жить буду, я всегда буду говорить: кто к людям с добрым сердцем, тот никогда не пропадет! Кто я ему был, этому парню? Да ему, видно, и тяжело было на костылях-то. А приволок. Я же эти ящики не рекламировал, он и не знал, что они мои. Значит, увидел, расспросил людей, рассудил, что мои, и припер. Ну, не ради же моего брата-юриста, который еще неизвестно, есть или нет! Нет! Он ради меня старался, добрая душа! Только это тоже не конец истории, Вета, ты уж потерпи, совсем немного осталось. Ну вот. А братца моего как раз и не оказалось в Москве. Он в эвакуации был. Я туда, я сюда – нет подходящих людей, чтобы этому самому Анатолию с его братом помочь. А я ну такую к нему благодарность испытывал – не мог я его оставить в беде, пусть он хоть был и виноват, этот брат.
Разведал Анатолий: дело было не маленькое, тридцать тысяч висело на его брате, вынь и положь, иначе садился он до конца своих дней. А с деньгами можно было выкрутиться года на три, не больше. Но где взять такие деньги? Я делами занимаюсь, а у самого в голове все одно и тоже крутится – надо Анатолия выручать. А тут встретил одного нашего заводчанина, тоже без ноги, на рынке в карты играл. Разговорились. Оказалось, у него целая компания этих картежников, собираются на одной квартире, жульничают понемногу, раскошеливают богатых командировочных. Ну, женщины там, конечно, все как полагается. Мой знакомый меня в полный курс ввел. Стал я туда похаживать по вечерам. И Анатолия моего привел. Играли понемногу, присматривались. У меня на такие вещи какой-то особый нюх есть; словом, я решился. Дай, думаю, попробую, да и компания ко мне привыкла, не будет особенно давить, а знакомому моему так я вообще все рассказал, он мне посочувствовал. Давай, говорит, попробуй, чем черт не шутит. Наши тут хорошо зарабатывают. Главное – не зарываться. Как почувствуешь, что дошел до упора, – сматывай удочки, через силу не дави, а то кости переломают и пожаловаться будет некому. Ну, это-то мне было ясно.
Сели мы играть. Играл, конечно, я. Анатолий рядом стоял, изображал народ, у него эта игра совсем не шла. А я распалился, начал помалу, потом смотрю – растет кучка. Анатолий меня за рукав дергает: хватит, мол, пошли; а я чувствую, что мало, да и рано, можно еще чуть-чуть придавить, до упора не дошло. А деньги крупные были, чувствую – богатею, пухну. Анатолий весь пятнами пошел. Ну, ничего, ставлю – и опять кон забрал, кодла-то эта уж все понимала, посмеивалась, а новички – те в раж вошли, сейчас за горло начнут хватать, а деньги несчитанные, не знаю – сколько. Сгреб все и встал. Баста, говорю, пора. Новички – шуметь. Анатолий кричит, что уговору такого не было, чтобы до утра сидеть; хозяева посмеиваются. Словом, вырвались мы, и прямо во дворе, не считая, я все эти дурные деньги распихал Анатолию по карманам. Он вначале не верил даже, думал – я и правда базарный жук. Он ведь так и не узнал, что у меня в тех ящиках было, что я из-за них перед ним на карачках ползаю; думал, может, товар какой. Но не в этом дело. Я свой долг ему заплатил, как сумел. С братом у него обошлось по чистой, но мы как-то больше встречаться не стали, муторно было. А тут новые дела нахлынули, война повернула, стали поговаривать о возвращении заводов, и в Томск я уже больше не поехал, и ордена своего так и не получил, вот беда.
Продукция наша прошла на испытаниях отлично, и светила мне большущая карьера, только я-то в то время уже понял, чего хочу, и пошел учиться. Но это уже совсем другая история, это уж как-нибудь в другой раз…
Глава 22
Сессия пролетела быстро. При том образе жизни, какой в последнее время вела Вета, заниматься ей приходилось как бешеной – с раннего утра, едва забрезжит свет, и до ночи; зубрежка была мучительна, бесконечна, но когда она потом оглядывалась назад, в памяти не оставалось ничего, ни времени, ни знаний, только какое-то однообразное хождение по комнате с книгой, прижатой к груди, тупое бормотание, торопливое мелькание света, страниц, часовых стрелок да еще один блаженный миг, когда она ложилась в свою узенькую детскую кроватку и с наслаждением вытягивалась на простынях, чтобы уже в следующий миг провалиться в глухой сон.
Однажды, уже в самом конце сессии, Вета возвращалась из института. Она вышла на своей остановке, без мыслей брела к дому, поднялась по старой широкой лестнице с узорными перилами. Прежде чем открыть дверь, как всегда, поковыряла пальцем почтовый ящик. В пыльной пустой глубине лежало письмо. Она достала его, надорвала конверт, начала читать:
«Дорогая моя, любимая моя Вета!..»
Слезы застлали ей глаза, слезы обиды, жалости, стыда. Как ужасно он с ней поступил! И что делала она, о чем думала все это долгое время, чего ждала? Как это вообще все случилось с ней, что они с Романом оказались врозь? Как это могло случиться? Она прижала письмо к груди, проморгалась, глотая слезы, и снова начала читать:
«Дорогая моя, любимая моя Вета!
Я понял, что бесконечно виноват перед тобой…».
И опять она плакала, плакала и читала, стоя на лестнице перед дверью, в жидком свете одинокой слабой лампочки. И мысли ее были неизвестно где, и не было сил, но она все не открывала дверь, чтобы ее никто не услышал, чтобы никто не увидел ее слез.
Потом она уезжала на практику, ее провожала Ирка. Было поздно, темно, сыро. Они стояли на перроне молчаливо, близко друг к другу. Тоскливо пахло паровозной гарью. И Ирка, конечно, не выдержала, тихо сказала:
– Ты его совсем не любишь, Вета…
Вета молчала. Как она могла объяснить Ирке, что любовь – это совсем не то и все гораздо, гораздо сложнее. А может быть, Ира как раз и права, и больше никаких сложностей нет? Состав дернулся торопливо, сонно; ребята стали подниматься в вагон. Вета обняла Ирку, поцеловала в обе щеки, прижала к себе.
– Ничего, ничего, вот увидишь…
Пошел маленький противный дождик, но Ирка не уходила, стояла внизу, подняв к окнам темное печальное лицо, и что-то говорила ей, потом показала пальцем, и Вета поняла: напиши Роману. Вета засмеялась и кивнула. Поезд тронулся. Ирка бежала за вагоном и махала рукой.
Практика проходила на маленьком, старом, еще с демидовских времен, металлообрабатывающем заводике. Городок был тоже маленький – два завода, три улицы; поезда останавливались на три минуты и с грохотом и лязгом уносились дальше, оставляя на открытой дощатой платформе растерявшуюся горстку людей.
Студентов поселили в переполненной гостинице, и поскольку девушек было мало – им досталась биллиардная. Вокруг огромного, покрытого зеленым сукном стола было с грехом пополам втиснуто девять кроватей, а тумбочки – одна на троих. Толстая комендантша, сердито косясь на них, застелила биллиард газетами.
– И чтобы ни-ни! – таинственно сказала она, подняв кверху короткий палец.
Девушки смеялись, распихивая вещи под матрасы и подушки, а платья все равно разложили на биллиарде, больше было некуда, и так получилось даже удобно.
Практика была общетехнологическая, это означало, что, наскоро ознакомившись с заводом, студенты расставлялись прямо к станкам, по разным цехам, кому что достанется, и работали наравне с рабочими, в три смены, как и все. Рабочие жили в большинстве по окрестным деревням и приходили на работу пешком; в Ветином цеху работали почти сплошь женщины, темные, усталые, хмурые, на Вету они сердито покрикивали, потому что стояла она на промежуточной операции, и той работнице, что брала детали после нее, из-за Ветиной нерасторопности все время не хватало заготовок, она не выполняла норму и теряла в зарплате. Вета нервничала, торопилась изо всех сил, но угнаться за другими все равно не могла. К тому же и станок у нее был допотопный, лязгающий, страшный. Студенты были наказанием для завода, и им старались дать что похуже, зачем портить хорошее оборудование, все равно толку с них не будет. Вета уставала смертельно, до дурноты, в цехе было грязно, холодно, в выбитые окна отчаянно дуло. Возвращаясь со смены, она валилась на кровать и мгновенно засыпала. Но даже во сне она чувствовала, как мучительно ноет у нее спина, как болят руки, ноги, все тело. В субботу после работы их вели, как солдат, в городскую баню, и ребятишки бежали за девушками и показывали на них пальцами, потому что они шли со смены в сатиновых шароварах. Это казалось детям странным и очень смешным.
А потом Вету перевели в ночную смену. В ночной было какое-то свое странное очарование, тишина, задумчивость, какой-то даже покой. Женщины не так торопились надрываться, были спокойнее, добрее, даже давали советы и, дожидаясь Вету, задремывали, положив голову на руки. И, может быть, потому, что норма ночью была чуть поменьше, Вета справлялась.
– А там, у вас в Москве, вот, наверное, заводы! – спрашивали женщины. – Интересно, какие они там выпускают детали, мы, верно, таких и не видали…
Им казалось, что Москва – это тот же городок, тот же завод, только во много раз больше, и Вета не знала, как им объяснить. А ведь до Москвы было каких-то несчастных двести километров.
К утру спать не так хотелось, за полчаса до смены женщины уже собирали свои узелки, ночью они не гнались за выручкой, экономили силы, и Вета, хотя уставала ничуть не меньше, шла гордая, что вот она отстояла ночную – и ничего! Справилась! Днем она блаженно отсыпалась.
Шли дни, студенты приспосабливались, привыкали, начали бродить по цехам, подбирая себе более интересное место, некоторые приступали уже к составлению отчетов, чтобы потом не тянуть, сдать руководителю практики все бумажки и уехать побыстрее.
И вдруг однажды Вету позвали, она была дома, спала после ночной смены.
– Ты Логачева? – спросила ее дежурная. – Тебя там какой-то мужик ищет, на такси приехал, аж из самой Москвы.
«Рома! – радостно мелькнуло в Ветином сознании. – Рома приехал. Только почему на такси? И почему не написал?»
Она торопливо натягивала платье, приглаживала волосы, скорее, скорее! Но это был не Рома. Внизу, в темном вестибюле гостиницы, в углу почему-то сидел на стуле угрюмый Сергей Степанович и смотрел в пол. Сердце у Веты упало.
– Сергей Степанович! Мама? Что?
Сергей Степанович хмуро покачал головой.
– Собирай вещи, ты уезжаешь со мной, я уже обо всем договорился. Нет, не мама, я тебе дорогой все расскажу.
Но Вета вцепилась ему в грудь, трясла, ужас застилал ей глаза.
– Сергей Степанович! Ради бога!
Он вырвался, крепко взял ее за огрубевшие руки.
– С Романом беда, ты держись, Вета…
– С Ромой?
Она почувствовала, как все вокруг нее поплыло, быстрее, быстрее; закружился как безумный высокий гостиничный грязный потолок. «Почему потолок?» – подумала она и провалилась в беспамятство. Она очнулась в том же вестибюле, на стуле. Сергей Степанович поддерживал ее голову, его рука мешала, и еще что-то мешало, какая-то мысль, что такое он сказал про Рому, этого не может быть…
– Сергей Степанович, он жив? – Вета рванулась из его рук, стараясь вывернуться, заглянуть ему в глаза.
– Нет, Вета, – сказал Сергей Степанович и потряс головой, – его больше нет.
И Вета услышала свой голос, чужой, захлебывающийся, невыносимый. Она сжала зубы, но крик не прекратился, только начал сильнее отдаваться в голове. Тогда она стала закрывать рот руками, прикусывая зубами ладони до боли, до соленого вкуса крови.
Потом они ехали в машине, невыносимо долго, и Вета забылась.
Она уже все знала. Самолет разбился при взлете. Едва поднявшись над аэродромом, он почему-то загорелся и упал. Никто не спасся, даже останков не могли собрать. Мария Николаевна ездила туда получать символическую урну. Логачевым сообщать она ничего не хотела, их разыскали сотрудники Романа. Завтра состоятся похороны, все взяло на себя учреждение, в котором Рома работал последнее время. Мария Николаевна очень плоха, едва ходит. Вот и все. Все кончено.
Лежа с закрытыми глазами на плече Сергея Степановича, Вета то лихорадочно пыталась осмыслить происшедшее, то погружалась в мучительное полубеспамятство, где все смешивалось в одну кучу: завод, Ромино лицо, жгучие строчки его последнего письма, падающий в дыму самолет и какой-то мелкий ельничек, через который она продиралась, не в силах выбраться, не в силах проснуться. Но стоило ей только разлепить ресницы, реальность набрасывалась на нее такой удесятеренной болью, что она начинала захлебываться, тонуть, задыхаться. Ей мешал затылок шофера, надоедливо маячивший впереди, из-за него она не могла плакать, не могла думать, говорить, и она снова закрывала глаза.
Наконец они приехали. Вета удивилась, что она, оказывается, может ходить; в машине ей казалось, что все ее тело перемолото, разбито, как будто это не Рома, а она падала в горящем самолете. Лучше бы она! Боже, что он перенес! Успел ли он испытать боль? Ну конечно, успел. Боль и страх! Как же ему было больно! Думал ли он о ней? Винил ли ее в последнюю свою минуту? Мелькнуло изменившееся, далекое, незнакомое лицо Ирины, и Вета, как в спасении, утонула в маминых объятиях, и они заплакали обе, наконец-то свободно, навзрыд, никого не стесняясь, никого не боясь. Мама одна могла ее понять, она тоже потеряла мужа. Тоже? Неужели и она, Вета, вдова? Чужое, уродливое, отвратительное слово. Как могло оно относиться к ней, такой молодой, недавно еще такой счастливой? Как это случилось?
Она плакала, потом пила валерьянку, потом спала, просыпалась с мыслью единственной, нелепой и страшной – забыть, навсегда забыть, что Рома раньше был живой.
Утром они поехали на кладбище. У ворот их встретили незнакомые молодые люди, пожали руки, молчаливо повели по дорожкам между могилами. Впереди медленно ковыляли две старухи: одна большая, грузная; вторая почти бестелесная, маленькая, седая и сгорбленная, обморочно висящая на руке первой. Платок спадал с ее мотающейся головы на плечи, и Вета вдруг с ужасом поняла, что это Мария Николаевна. Она рванулась к ней, кто-то ее удержал. Вета не поняла почему. Она торопливо пыталась вспомнить что-то глупое, несущественное, что стояло между ними, и не могла. Потом мысли ее отвлеклись, и именно в этот момент Мария Николаевна вдруг обернулась и медленно оглядела ее ненавидящими фанатическими глазами, огромными и страшными на маленьком ссохшемся лице. Потом, отвернувшись, снова медленно заковыляла по дорожке. Больше она в сторону Веты не посмотрела ни разу. Все молчали. Похороны были какие-то ненастоящие, Ромы здесь не было – ни живого, ни мертвого. Вместо него стояла на табурете какая-то нелепая ваза, а рядом с могилой его отца был отрыт до смешного маленький окопчик, который не мог быть предназначен для Ромы. Все закончилось быстро, окопчик засыпали, навалили цветов, откуда-то появилась фотография Ромы, незнакомая, официальная. И все разошлись. Больше никто не провожал их, никто не трогал. Мария Николаевна стояла в ограде вместе со второй старухой, в которой Вета неожиданно узнала Ромину тетку, у которой они были в гостях в Ленинграде еще до женитьбы, тысячу лет назад. Обе они терпеливо ждали, когда все уйдут и они останутся одни, своей семьей. Но Вета и не претендовала на этот отгороженный забором крошечный земляной холмик; Рома был где угодно, только не здесь, – может быть, дома, может быть, там, в маленькой комнате с треугольным окном, где они прожили два с половиной путаных, бестолковых года и путь куда был ей теперь отрезан.
Дома они сели за стол, пили водку и опять молчали. Вета больше не плакала. Что-то новое давило ее, тревожило, мучило, что-то, чего не было еще вчера. И, напрягшись, она поймала, поняла, что это было: все считали ее виноватой, и если не в его смерти, то по крайней мере в том, что он был несчастлив. Все. И она ничего не могла им объяснить. Они не видели, как он тогда прогнал ее, заставил уехать, они не читали его последнего письма, они не знали, не могли знать, как он ее любил, они ничего не понимали и все-таки судили ее.
Вета встала из-за стола. Вот почему не смотрела на нее честная маленькая глупая Ирка, вот почему молчали мама с Сергеем Степановичем, вот почему ненавидела ее Мария Николаевна. Но она, Вета, ни в чем не была виновата, с нею было его письмо. Она ушла в комнату и закрыла за собой дверь.
«Дорогая моя, любимая моя Вета!
Я понял, что бесконечно виноват перед тобой и должен просить у тебя прощения…»
– Ты ни в чем не виноват, – шептала она, гладя затертый листок, – ты ни в чем не виноват, и я ни в чем не виновата…
Шли дни. Время, пустое и одинокое, бессмысленно исчезало куда-то без радости, без следа. Однажды Вете позвонила Анна Николаевна, толстая сестра Марии Николаевны.
– Я уезжаю, – сказала она раздраженным осуждающим голосом. – Больше я не могу задерживаться, у меня внуки, дочка взяла отпуск на две недели, но он уже давно кончился…
– Что же я могу поделать. Вы знаете…
– Конечно, знаю. Маша совсем плоха, Клава в больнице, давно уже не встает, да и вряд ли встанет. Так что уж не знаю…
– Вы думаете, мне надо прийти?
Анна Николаевна помолчала немного.
– Нет, – сказала она наконец, – она вас все равно не пустит. Да и не в этом дело. Я нашла тут одного старичка, он будет пока за ней присматривать, я ему оставила ключ…
– Очень хорошо. На первое время это хоть какой-то выход. Пока она не поправится.
– Кто знает… Но я не хочу, чтобы потом ко мне были претензии, мало ли что… Мне кажется, он выпивает, а Машенька, она в таком состоянии…
– Если вы говорите о вещах, то меня они не интересуют, мне ничего не надо.
– Это ваше дело, только чтобы потом не винили во всем меня. Я дала ему ваш телефон, он будет вам звонить. Он ведь тоже не хочет работать даром…
Так вот про что шла речь. Она должна будет ему платить. Вета напряженно старалась вспомнить свою первую встречу с этой женщиной. «Неужели это она сейчас говорила со мной? Неужели все это на самом деле случилось? – с изумлением думала она. – Неужели это правда?»
Но день проходил за днем, а страшный сон все продолжался, ничего не возвращалось назад.
Самое лучшее время было вечером – смотрели новый, недавно купленный телевизор. Телевизор всем был еще в новинку, смотрели все подряд, обедали и ужинали перед телевизором, поэтому еда растягивалась на весь вечер, к столу подавалась водка, и голос Сергея Степановича делался все громче, все надоедливее. Иногда Вета не выдерживала, вставала и уходила к себе, недосмотрев передачи. Ее никто не останавливал, считалось, что это неделикатно, а Вете так хотелось, чтобы кто-нибудь пошел с ней: мама или, еще лучше, Ирка. Но Ирка избегала ее, по утрам собиралась куда-то тихо, как мышка, и исчезала на целый день. Мама тоже уходила, телевизор молчал, накрытый салфеткой; наступала тишина, от которой можно было сойти с ума. Это было хуже, чем Иркин ускользающий взгляд, чем мамины слезы, чем громкие разглагольствования Сергея Степановича о том, что вся беда нынешнего поколения в падении нравов. «Раньше у людей были идеалы, были нормы, и они не позволяли вести себя кто во что горазд. Скромнее, скромнее надо быть, об общественном думать, а не о личном», – говорил он.
Это было невыносимо, но молчание было еще хуже. И вдруг однажды Ирка не выдержала. Нахмуренная, сердитая, как ураган влетела она в комнату, хлопнула дверью, встала перед Ветой, сверкая глазами, сжимая нервные, очень красивые руки.
– Вета! Я так больше не могу! Я не могу смотреть, как ты мучаешься. Если ты можешь, если хочешь, давай поговорим…
– Ну конечно, хочу…
– О самом главном, Вета, иначе все это вообще ничего не стоит.
– А что самое главное? Наверное, ты думаешь, что я нуждаюсь в исповеди? Все совсем не так. Может быть, тебе в это трудно поверить, но, знаешь, он ведь меня тогда выгнал, я не сама ушла. Ну вот. Видишь, ты мне совсем не веришь, у тебя даже глаза стали зеленые…
– Как я могу в это верить, разве я не видела своими глазами! Он не то что любил тебя – он тебя боготворил…
– Именно – боготворил. А знаешь, Ира, это, оказывается, не так-то легко, когда тебя боготворят. Он, наверное, думал, что я какое-то неземное существо и со мной обращаться надо совсем по-особому. А мне ничего это было не нужно, понимаешь, я человек как человек, обыкновенный… Мне очень трудно было, как-то ничего не выходило. Ты не думай, что я оправдываюсь, я, конечно, виновата, я дома мало бывала, и он вообразил невесть что. А этого не было, не было совсем! Я не то что не изменила ему, у меня и мыслей таких не было. Я его любила, хотела любить. Его одного. А ничего не получалось. Я не знаю почему, сама не понимаю. А он любил, а думал обо мне гадости. Он просто с ума сходил, а я от него удирала. Вот в чем я виновата, только в этом и ни в чем больше, понимаешь?








