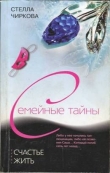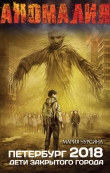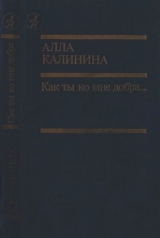
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
Глава 17
Лиза словно впервые увидела, как населен мир, ожидания не обманывали ее; наоборот, реальность превосходила ожидания. Общение было утомительной и хлопотливой, но зато увлекательной игрой, и оттого, что это была именно игра, она не надоедала. Она не предполагала ни тесной дружбы, ни глубоких обязательств, ни близости возраста или интересов; наоборот, чем дальше от них был человек по возрасту, образу жизни и опыту, тем он оказывался интереснее. Люди появлялись в их старой студии, заполняли ее на несколько вечеров, а потом отходили, отодвигались на задний план, все получалось само собой, потому что в основном это были Женины пациенты. И все-таки они не уходили совсем, толпились где-то за краем сегодняшнего дня, существовали, и одним этим ненавязчивым своим существованием наполняли жизнь: кто-то уезжал и приезжал, у кого-то были юбилеи и семейные праздники, у кого-то вышла книжка, и ее непременно надо было срочно прочитать, кто-то готовил выставку, а другие болели или хоронили близких. И хотя их боли и радости не были близки Елисеевым, и знали они их больше понаслышке, все-таки это была и их жизнь тоже, они сочувствовали и помогали чем могли, без натуги и насилия над собой. Приятельство оказывалось легче, интереснее и благодарнее дружбы. Оно позволяло им чувствовать себя людьми среди людей, оно обогащало их духовно и интеллектуально, украшало и наполняло жизнь, служило средством товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки. Оно было нравственнее, терпимее и демократичнее дружбы. В дружбе все было иначе. Слишком высокие предъявлялись требования, слишком велики были посягательства на душу и время друг друга. Но теперь им уже не хотелось менять что-то в себе и приспосабливаться к другим, друзей надо было заводить смолоду, тогда, быть может, им было бы ради чего прощать чужие недостатки и сдерживать свои, но с дружбой у обоих у них ничего не получилось, теперь уже поздно было. И выходило, что для дружбы, как и для любви, было свое время, и уходило это время еще дальше, чем время любви, – в какие-то совсем уж детские годы. Значит, и дружба тоже была только одной из расхожих иллюзий? Печально, но факт. С усмешкой вспоминала теперь Лиза самую близкую подругу своего детства – Зойку. Какие бури терзали их тогда, полулюбовь-полуненависть, ревнивое соперничество и восхищение друг другом, страстное, взахлеб, обсуждение всех мировых проблем и упоение взаимной критикой, которую надо было терпеть и переживать! Дружба требовала одиночества и сосредоточения друг на друге, и бог с ней! Все это было несерьезно. Зато теперь открыты и свободны они были для всех, кто без претензий шел к ним навстречу, кого посылала им судьба. И этого было довольно.
* * *
Юлия Сергеевна продолжала прихварывать, она стала еще более раздражительная, нервная, и старенький, растерявшийся Сергей Степанович уже не справлялся с ней. Лиза ездила к маме часто, почти каждую неделю, но проку никакого от этого не было. Юлия Сергеевна сердилась еще пуще, у нее появилась страсть вспоминать и перебирать старые обиды, и иногда, войдя к ней, Лиза видела, что мама отворачивается, не желая с ней говорить, а это значило, что опять откопала она в своей памяти какую-то ужасную Лизину вину перед ней; это было нелепо, но совершенно непоправимо. Лиза была виновата перед мамой навсегда, это зафиксировалось в мамином стареющем мозгу и разрушало всякие попытки к нормальному общению и примирению. И помочь ничем она не могла. Юлия Сергеевна не принимала помощи, приготовленный Лизой обед она считала испорченным и жалела пропавшие продукты. Лизины попытки постирать вызывали целую бурю обид и упреков.
– Раньше надо было заботиться о матери, – кричала Юлия Сергеевна, – а теперь, когда загнали меня вконец, вспомнили?! Не нужно мне от вас ничего! Никогда не было нужно, а сейчас и подавно, дайте мне спокойно умереть…
– Ты не хочешь, чтобы я приходила, мама?
– А что толку, что ты приходишь на пять минут? Слава богу, я не нуждаюсь в помощи.
Продолжать эти разговоры было бессмысленно, и ездить к маме было глупо, и не ездить – невозможно.
Иногда, приехав к ней, Лиза заставала Юлию Сергеевну в постели, усталую, равнодушную ко всему, и тогда ей удавалось что-нибудь наскоро сделать в запущенной, обветшавшей квартире. Она советовалась с Сергеем Степановичем: может быть, маме лечь в больницу на обследование? Но он качал головой:
– Не знаю… Боюсь, не поедет она… Я спрошу.
А в мае они неожиданно собрались и уехали на дачу, едва сообщив Лизе об этом в последнюю минуту. Лиза писала о своих тревогах Ирине, но та отвечала рассеянно и неясно.
«Дорогая сестренка,
– с удивлением прочитала Лиза, –не мешай ей жить так, как ей нравится. Старики упрямы, нельзя, пользуясь их слабостью, навязывать им свою волю, пусть даже она диктуется самыми добрыми чувствами с нашей стороны. Я давно это поняла. Пусть поступает по-своему, не беда. Главное – душевный покой. Что поделаешь, мы давно ей не нужны. Слава богу, она не одна, о ней есть кому позаботиться…»
Ира писала так, как будто мама была здорова, а Сергей Степанович по-прежнему молод. Да что же это она, забыла там, в своем солнечном раю, что время летит на всех парах?
И вот теперь они тоже уезжали, на машине, в Белоруссию, в гости к новому своему приятелю майору Чеснокову.
Ранним воскресным утром Минское шоссе было солнечно, просторно и пустынно, они легко летели вперед на красной блестящей машине, неся перед собой короткую тупую лиловую тень. К маленькому городку, где назначена у них была встреча с Чесноковым, добрались они на третий день. Иван Григорьевич уже ждал их в новеньком газике на дороге у въезда в город.
– Ну, вот и хорошо, а я уж боялся, что вас пропустил, – весело сказал он, – стою здесь на всякий случай с восьми ноль-ноль. Как добрались? Все в порядке? Значит, программа у нас такая. Сейчас везу вас в гостиницу, двадцать минут на все, там же завтракаем, потом – прогулка на машине по городу с осмотром всех достопримечательностей, потом обедаем на свежем воздухе. За обедом познакомлю вас со своими друзьями, в непринужденной обстановке, а вечером – ко мне, это уже будет официальный прием. Ну как, устраивает программа?
– А когда же на озеро? – разочарованно спросила Оля.
Городок оказался маленький, уютный, весь тонущий в зелени, были здесь и старинные дома, и огромные запущенные церкви, и парк в центре. А накатавшись по городу, снова выехали они на шоссе и помчались на запад, вверх-вниз, вверх-вниз по прекрасным зеленым холмам, потом свернули куда-то, по кочкам, по сосновому лесу выехали на опушку, еще метров сто проехали по ухабистой песчаной дороге и остановились под огромным дубом на берегу крошечной веселой речушки. Здесь уже стояли две запыленные «Волги», на камушках жарились шашлыки, двое мужчин суетились вокруг расстеленного одеяла, а какой-то молодой человек в закатанных до колена брюках с мелководья закидывал удочку, стараясь попасть на чистую воду, чтобы не запутаться в осоке и камышах. Они стали знакомиться. Здесь были главврач районной больницы, военком, а молодой человек в закатанных штанах оказался секретарем райкома. Все были веселые, раскованные, держались приветливо, и очень скоро Елисеевы почувствовали себя с ними как дома. За обедом начали они обсуждать, как лучше организовать отдых, что надо обязательно посмотреть, куда съездить и с кем познакомиться; хозяева спорили и даже сердились друг на друга, а Лиза, слушая их, начинала понимать, что озера отодвигаются все дальше и дальше, а культурная программа все расширяется: их собирались везти в Хатынь, потом – на новый свиноводческий комплекс, потом – в показательный совхоз и, конечно, – в часть к Ивану Григорьевичу. Да вдобавок еще каждый приглашал их домой.
– А нельзя ли это как-нибудь сократить? – робко сказала Лиза.
– Нет, нельзя, – сердито ответил Иван Григорьевич и вдруг обиделся. – Тогда и вообще не стоило приезжать. Подумаешь, озера! Озера везде есть, побольше и поменьше, а вот совхоз, например, такой на весь мир один. Вы просто не знаете, потому и говорите…
И уже на обратной дороге, в машине, стал Иван Григорьевич рассказывать о своем необыкновенном друге, директоре совхоза Мирановиче.
– Вы знаете, – волнуясь, говорил он, – есть такие люди, в которых все – легенда, и так получается, что время проходит и уже невозможно разобрать, что правда, а что придумано молвой. Так вот Миранович – из таких. Миранович – это ведь и не его фамилия, а какая была у него, никто не помнит. Но вот день его рождения – это уж точно – двадцать пятое октября по старому стилю, а по новому, значит, седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года. Нет, конечно, ровесников революции много, но чтобы вот так угодить, день в день, – это, согласитесь, редкость. Воевал он, конечно, с первого дня, это у нас в Белоруссии само собой понятно, у нас времени на раздумья не было, и что в тылу у немцев оказался – это тоже ясно, конечно, в партизанском отряде. А командиром отряда был Миранович, только не этот, не мой друг, а настоящий Миранович. И вот в одном бою был этот командир смертельно ранен и перед смертью позвал к себе моего друга и не кому-нибудь, а именно вот ему завещал все, что у него было самого дорогого, – партизанский отряд, судьбу всех своих товарищей, а еще жену свою и ребенка и просил заботиться о них и никогда не бросать. Вот тогда и стал мой друг Мирановичем, командиром партизанского отряда, не захотелось ему ничего менять в боевой их славе и боевом пути. И отряд их оказался одним из очень немногих, которым удалось пробиться к своим. После войны вернулся к нам сюда, в свою деревню. Как называется – тоже не знаю, потому что теперь она – Любань, и совхоз – тоже «Любань». По имени жены Мирановича Любы. Приехал он после войны к этой женщине, и полюбили они друг друга, и поженились, и ребенка ее он усыновил, и еще целую кучу нарожали, пятерых, что ли. Со временем стал директором маленького, по здешним местам, захудалого совхоза. По всей-то Белоруссии земли небогатые, но беднее и тяжелее нашего района вряд ли сыщется, у нас все болота, торфяники. Другие крестьяне зимой на печке сидят, а наши – канавы роют, отводят воду да торф возят на поля, всю зиму в трудах. Да что говорить, завтра сами все увидите…
На следующий день, как назло, небо нахмурилось, набежали тучи, закапало. Иван Григорьевич сердился и нервничал, как будто один и лично отвечал за погоду, но выехали они точно минута в минуту, по-военному, и вскоре увидели поселок городского типа, с двух сторон были привычные глазу шестиэтажные дома, торговый центр, кафе, ресторан, ничего интересного. Миранович ждал их дальше на обочине шоссе.
Они затормозили и вышли, разминая затекшие ноги. Навстречу им шел среднего роста апоплексический коренастый человек в сапогах и мятой кепочке, поздоровался со всеми за руку, а с Иваном Григорьевичем мимолетно обнялся. Лицо у него было сдержанное, темное, усталое, совсем не так они себе его представляли.
Оглядываясь потом на этот день, Лиза не могла уже разобрать, что именно понравилось ей больше всего, – это было прекрасно все вместе, потому что перед нею был не какой-то там заштатный совхоз, а маленький непритязательный земной рай, и рай этот был построен не для гостей и чужих похвал, а исключительно для себя, для тех людей, что жили и работали в нем. Может быть, и не было в нем ничего особенного, но здесь был хозяин, надежный человек, который нежно любил свой маленький народ и отдавал ему все, до конца, всю свою любовь и весь талант. И именно из этого возникало чудо, возникало и распространялось на все. Луга здесь были разгорожены проводками, через которые пропущен был слабенький ток, а в каждой загородке откопан был маленький прудок, а в каждый прудок запущен карп. Меланхолические коровы, лениво переступая по нежной зелени, то и дело подходили напиться и тем невольно увеличивали грядущие надои, а выщипав свеженькую травку, переходили они на соседний надел, и, чтобы выпасти огромные стада, хватало совхозу одного лихого мотоциклиста в красном шлеме, да и тот большую часть дня валялся где-нибудь с книжкой, и это нисколько не огорчало Мирановича.
– А вот тут, видите, у нас хлеб, – показывал Миранович. – Да вы не бойтесь, сорвите несколько колосков. Ну, видели вы что-нибудь подобное? И не увидите, никто его больше не сеет. Черт его знает почему. Это один наш белорусский ученый вывел, а его не признают и все, только я один и сею. А знаете, как меня это поле выручает?! Если с погодой не повезло или по другим каким причинам недород, у меня всегда есть резерв, без плана мы не бываем. Посмотрите, какой колос! А стебель? Как проволока. Конечно, и у нас есть недостатки, есть, но зато достоинства! Вы возьмите колоски, поставите у себя дома на память. Какой бы специалист ни увидел, обязательно удивится…
Они сворачивали к деревенькам, и к каждой деревеньке вела хоть узенькая, но неразбитая асфальтовая дорожка, и, петляя по этим дорогам, видели они, как кишела кругом живность – утки, гуси, индейки, поросята…
– А частные коровы у нас стоят в совхозных коровниках, хозяйка платит за прокорм пять рублей и приходит только подоить, приласкать. Скотину ведь держат одни старухи. Это их коровы. Вы понимаете, что они значат для крестьянина? Они привыкли, они их любят, а прежних сил уже нет. Если бы не это, порезали бы они всех однажды, и все. А обратно уже не вернешь. Зато старухам техники не надо, они руками свою кормилицу выдоят – и на рынок!
Поля кругом стояли чистые, без единого сорняка, они начинались у края дороги сразу, словно отрезанные ножом, и тянулись до самых дальних далей.
– Что, заметили? А это потому, что у нас травополье. Я ведь ученик Вильямса, признаю только смену культур, никакой химии я вообще не использую. Редко-редко, в особых случаях, – для подкормки, но гербицидов – никаких, боже упаси, для себя же делаем. Хлопотно, конечно, зато результаты надежные. А без хлопот ничего не бывает. Вот мы, например, овец завели, мне говорили – ничего не получится, в Белоруссии овец никогда не было, а вот же – получилось. Живут-поживают. Честно говоря, мы их ради шкур завели, женщинам дубленки нравятся. Пожалуйста. Будут дубленки. А какие у нас овчарни – загляденье, все механизировано, навоз по трубам – прямо на поля. Хотите посмотреть? Поедем, это недалеко.
И так было везде, в саду было у него все, что додумалась бы посадить хорошая хозяйка; возле облепихи была пасека, потому что мед с нее особо полезен, а заодно и специальные культуры сеяли для пчел, а заодно и прополис производили, и, конечно, облепиховое масло, а заодно и саженцами облепихи приторговывали, и на одних этих саженцах зарабатывал совхоз два миллиона рублей в год, да и то не удовлетворял весь спрос. А рядом с садом специальный был огород, где насеяна была петрушка, сельдерюшка, чеснок и всякая другая зелень.
– Не ходить же за такой ерундой в магазин, стыдно было бы, честное слово, а так для своих все есть бесплатно, а уж что остается, идет на консервный завод, он у нас маленький, все свое, сезонное, никаких проблем, обработаем урожай и закрываемся до следующего года. Очень просто. У нас и винзавод есть, делаем свое вино, яблочное игристое, не видели? «Любань» называется. Мы и пиво свое хотели завести, да вода у нас неподходящая, еще придется повозиться.
Они ездили и ходили, а день все не кончался, солнышко то пряталось в густой пелене облаков, то выглядывало снова, и тогда все вокруг вспыхивало и оживало, и снова они куда-то торопились – смотреть удивительных каких-то бычков специального откорма. Бычков в это время грузили на сдачу, они были огромные, черные, сказочно литые, их с трудом загоняли в грузовик, а они брыкались, разбивая в щепы доски помоста, и черные ошмотья грязи, вылетавшие из-под их копыт, ярко взблескивали на солнце.
Потом пили кумыс, холодный, пенящийся, чуть кисловатый и в то же время хмельной. Лиза смотрела через стакан на усталое, помятое, уже ушедшее от них лицо Мирановича и думала: «Вот человек, сам построивший свою жизнь, и не только свою – целый мир, который без него не мог бы существовать! Это, наверное, самый счастливый человек из всех, кого я встречала в жизни».
Уезжали они опять в дождь, все затянулось серой скучной пеленой, обыкновенные деревеньки тянулись с двух сторон, перелески, поля, луга. Какая-то баба в тяжелом плаще с капюшоном под дождем ловила рыбу в искусственном прудике.
Они провели в городке еще два дня и только на третий выехали наконец на озера. Все, что им показали потом, ни в какое сравнение не шло с хозяйством Мирановича, а огромный свиноводческий комплекс был просто сгустком нерешенных и нерешаемых проблем, хотя во главе его стоял тоже знающий и известный человек, хороший хозяин, и в чем тут было дело, понять было невозможно. Тут крылся какой-то секрет.
Озеро, куда они наконец-то приехали, было и правда удивительное, синее, окруженное цветущими лугами и зелеными пологими холмами, то поросшими лесом, то открытыми, травянистыми, на которых там и сям темнели купы пышных можжевельников. На низком песчаном берегу стояли несколько вагончиков, и лодки дремали, уткнувшись в заросли камыша. Целые дни проводили они на воде: плавали, плескались, объезжали на лодке берега, обследовали маленькие прелестные острова, ловили на удочки блестких полосатых окуней. Из рыбы они старательно и неумело каждый день варили уху, пока не признались друг другу, что уха невкусная и вообще все они терпеть не могут рыбный суп, и окуней стали так же старательно жарить, чтобы доказать самим себе, что они их вытащили из воды не просто так, ради спорта, а для дела. С продуктами на озере вообще-то было плоховато, за хлебом, солью, спичками и пряниками надо было ехать в ларек ближайшего пансионата, но больше там ничего не было, и даже за консервами надо было уезжать далеко по шоссе. И они ездили по очереди.
Погода стояла хорошая, солнце прорывалось почти каждый день, радостно плескалось в голубой сверкающей озерной воде, и все вокруг сверкало и сияло: белый песок, белая каемка пены на воде, дрожащие в жарком воздухе заросли камышей, розовые сосны на берегу. А когда случалось ненастье, они начинали бешено грести к берегу, не успевали и, излупленные стремительным теплым дождем, бежали к своему вагончику, валились с книжками на кровати и слушали, как ворчит на улице гроза и дождь барабанит в железную крышу, уютно струится по маленьким мутным стеклам. Зато после грозы все опять было умытое, зеленое, радостное, прибитый дождем песок холодил ноги, над озером стоял туман, и опять хотелось туда – в таинственный нежный простор, уплыть, исчезнуть, растаять…
Время летело легко и незаметно. Уже обходили они и объездили все окрестности, уже пора было подумывать и о возвращении, и мысли, городские, серьезные, домашние, уже начали время от времени посещать их, и тут с Лизой случилось странное событие, совершенно пустяковое, но почему-то перевернувшее и растревожившее ее необычайно. Она ехала одна по совершенно пустому серому шоссе, возвращаясь из очередного похода в магазин, было хмуро, начинал накрапывать дождь, лес по сторонам дороги был затихший, сплошной, мрачный, и вдруг впереди на обочине она увидела Рому. Она узнала его издали и сразу – высокого, узкоплечего, со светлыми, очень густыми волосами. Он неподвижно стоял у кромки асфальта и, подняв руку, ждал ее. Лиза помнила и знала, что она не спит и там, впереди, – не мираж, не видение, а живой, знакомый, любимый ею человек. Рома был жив. Медленно приближаясь к нему, она все в нем узнавала: фигуру, позу, лицо и этот короткий тупой нос, тяжелый подбородок, спокойный взгляд и улыбку, немного виноватую и ищущую. Она не думала, откуда он взялся здесь, как разыскал ее, она просто медленно подкатила к нему, улыбаясь сквозь счастливые слезы, и распахнула дверцу. Рома наклонился к ней… и наваждение растаяло. Это был совсем молодой парень, чуть не вдвое моложе ее, рыжий, с красными глазами, темными веснушками и мелко вьющимися волосами. И лицо у него было совершенно чужое, грубоватое, и тяжелые заскорузлые руки.
– Ой, а тут женщина! До пансионата не подбросите меня?
Лиза молча кивнула. Хлопнула дверца, они двинулись. Он сидел рядом, кинув в ноги пустую спортивную сумку и сложив руки на коленях, и странное дело: минуты бежали, а Лиза не чувствовала разочарования, радость встречи не уходила, не исчезала, словно Рома медленно и осторожно переливался в этого незнакомого парня, и нежность к нему затапливала Лизу, переполняла, ей хотелось что-нибудь необыкновенное, прекрасное сделать для него, что-то подарить, отдать, осчастливить… Но что она могла дать ему? Она проглотила слезы и медленно повернула к нему лицо:
– Отдыхаете здесь?
– Да. Уже неделю.
– А сами откуда?
– Я-то? Я из Смоленской области… Да вы, наверное, и не слыхали никогда… А вы из Минска или из Москвы? Счастливая, такая игрушечка у вас… Сами здесь или с компанией?
– С семьей. С мужем и дочкой. – Лиза улыбнулась мучительно. Господи! Какая она была старая! Все кончено, все ушло, даже этот деревенский мальчик разговаривал с нею почтительно и спокойно, как будто была она никому не интересная древность. И Рома, Рома тоже не узнал бы ее, даже не посмотрел бы в ее сторону, она была слишком стара для него, он растаял в воздухе совершенно, совершенно молодым, и ее запоздалая любовь к нему смешна, невозможна. Лиза свернула на дорожку к пансионату.
– Ну зачем? Я бы и пешком добежал. – Парень подержал в кулаке мятый рубль и потихоньку сунул его обратно в карман. – Спасибо вам большое! – Он хлопнул дверцей и, подняв плечи, зашагал по намокшей песчаной дорожке.

Теперь Лиза ясно видела – он был непохож, в нем совершенно ничего не было от Ромы, но нежность не проходила, горячей рукой сжимала ей сердце. Сгорбившись, с тяжелыми, влажными от постоянных купаний волосами и горящим лицом, она сидела в своей маленькой красной нарядной машине и смотрела вслед незнакомому высокому мальчишке, и ей не хотелось расставаться с ним. Ей не хотелось расставаться с Ромой, со своими мечтами и надеждами, с молодостью. Но трезвость уже возвращалась, накатывала сухой безвоздушной волной, тащила, несла ее вверх, она барахталась, сопротивлялась, задыхалась, ей мучительно хотелось заплакать, но момент был упущен. Она развернулась и выехала обратно на шоссе. Все кончено, все было кончено. Она повернула налево у старого покосившегося голубого щита с полустершейся надписью, и перед нею снова открылось озеро, голубой, тающий в тумане простор, холмы, запах цветов. Что это было с нею сейчас? Сон наяву? Дамская истерика?
Она поставила машину, поднялась по железным ступенькам и осторожно подергала дверь вагончика. Заперто. Значит, Женя и Оля все еще были на озере. Что там можно было делать столько времени? Она достала из тайника ключ, отперла и снова заперла дверь, повалилась на свою кровать и зарыдала в голос. И чем дольше она плакала, тем яснее ей становилось – свою вину никогда, никогда, никогда нельзя изжить до конца, все оставалось в ней, все было живо: и недолюбленная, растоптанная, непонятная любовь, и горе ее, и отчаяние, и жажда прощения. Но совершенно некому было ее прощать. Наплакавшись, она умылась и отправилась к озеру.
Их лодки нигде не было видно. Она села на мокрое бревно, обхватила колени руками и стала ждать. И постепенно, словно по ее молчаливому приказу, над лесистым островком впереди стало стремительно пробиваться сквозь тучи белое светящееся пятно. Все ярче, ярче, ярче – и вот уже невозможно было на него смотреть, и солнце хлынуло, ослепительное, всепобеждающее, бесконечное в своем могуществе. И все вспыхнуло вокруг и засверкало радостным, слепящим золотым сиянием. Лиза сбросила сарафан и вошла в воду. Она сделала несколько шагов по плотному торфяному дну, почти ничего не видя вокруг, потом нырнула и поплыла. И свежесть воды, и синева, и сияние – все вокруг возвращало ей силы, и надежды, и веру в себя. Как-нибудь, как-нибудь, она не единственная на свете, кому пришлось страдать, страданиям нет конца, их надо научиться забывать.