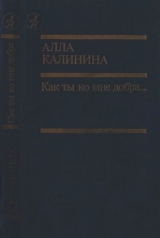
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 40 страниц)
Глава 16
На работе у Лизы все медленно, но верно шло к полной смене декораций. Вместо Галины Алексеевны в лаборатории появился безукоризненно причесанный молодой человек в вельветовом костюме, который носил цветные рубашки, набор ручек в наружном кармане пиджака и калькулятор в руках. Иногда он присаживался за стол, рассеянно проводил какие-то торопливые расчеты, потом вскакивал и летел в кабинет Светланы Ивановны, где проводил большую часть времени, или вообще исчезал в неизвестном направлении. С женщинами он общался вежливо и мимолетно, явно не принимая их за реально существующие фигуры. Дела он не знал, и считать ему тоже было совершенно нечего, кроме будущей зарплаты, поэтому на его равнодушие распадающийся коллектив ответил бы полной взаимностью, если бы вслед за первым молодым человеком не появился второй, точно такой же, только в джинсовом костюме, словно на каком-то современном производстве их снимали с конвейера, но при этом следили за разнообразием отделки.
– Еще один – и наступит конец света, – задумчиво говорила Люся Зубарева. – Если мы сами не уйдем, то нас все равно выгонят.
– Никто нас не выгонит, работать-то ведь кто-то все-таки должен. Пускай они там делают что хотят, а мы не будем поддаваться, старый конь борозды не портит, правда, девочки?
Но тут выяснилось, что разрушения продолжаются: на этот раз уходила Лидочка Овсянникова. Ее давно звала к себе Галина Алексеевна, и вот теперь она решилась. Лидочка Овсянникова занимала в коллективе какое-то особое место, она была всеобщей любимицей и баловнем, что-то вроде младшего ребенка в семье. Лидочка была маленькая, когда-то, наверное, миловидная, а теперь давно поблекшая женщина, которая всегда, сколько ее помнила Лиза, а наверное, и задолго до нее, находилась накануне замужества. Все знали о ее пылких и настойчивых поклонниках, которые постоянно как бы чего-то домогались от нее, а она все откладывала, выжидала, выбирала из них лучшего. Время от времени действительно какие-то грубые голоса подзывали Лидочку к телефону, и она часами мусолила трубку, кокетничая и произнося неясные междометия. При этом она широко раскрывала глаза и хлопала ресницами, но лицо у нее было прорезано не по возрасту глубокими сухими морщинками, а дряблая серая шейка повязана была пестрым шарфиком или бантом. Проходили годы, и ровно никаких перемен не наступало в ее жизни, мифические женихи продолжали меняться, звонки делались все реже, а Лидочка как будто ничего не замечала, по привычке разыгрывала из себя резвого ребенка. И насмешливые, быстрые на резкое слово женщины почему-то жалели ее, делали вид, что верят и тоже ничего не замечают. Может быть, это было бы понятнее, если бы Лидочка была добрым, милым, веселым человеком, но ничего подобного не было. Она была зла, капризна, мстительна, необязательна, опаздывала чаще всех и чаще всех болела – тоже мифическими мигренями. А ей прощали все и вели себя с нею так, как будто была она пусть немного взбалмошным, но все равно любимым ребенком. И происходило это все потому, что, не умея смириться со своей жизнью, Лидочка жила на последнем пределе отчаяния, на пределе, за которым могло случиться все, и старухи, которые мужественно приняли каждая свою судьбу и знали цену лиху, жалели ее так, как не жалели никого. Вне этой дурацкой игры да еще работы, которую Лидочка любила, была она совершенно несчастна и беспомощна, и они долгие годы терпеливо играли с ней. И вот теперь Лидочка уходила к Галине Алексеевне, одной из главных своих опекунш, хотя не такая уж большая была между ними разница в возрасте и, в сущности, давно были они подругами, обе одинокие и никому больше не нужные.
Уход Лидочки завершил процесс, последняя точка была поставлена, те, кто оставались, готовы были теперь ко всему, но в лаборатории по-прежнему ничего не происходило. Типовые молодые люди неожиданно исчезли, и кружным путем старожилы узнали, что были направлены они куда-то на учебу, на два месяца. Прослышав про это, Лиза зашла в кабинет к Светлане.
– Светлана Ивановна, отправила бы ты меня тоже куда-нибудь поучиться.
– А чему тебя учить? Ты и так все знаешь.
– Что же я знаю-то? Все-таки я не химик. У меня образование другое. А ты на меня навесила еще и лакокрасочную тему. А что я в ней понимаю? Мне учиться надо.
– Вот и учись. Ты человек интеллигентный, возьми учебник и почитай. Время свободное у тебя, слава богу, есть.
Так кончалась каждая попытка вырваться из рутины, старая жизнь ушла, а в новую их не хотели пускать. И в этом Лиза виновата была сама, ведь когда-то Светлана пыталась сделать на нее ставку, а она не захотела, не смогла перестроиться, расценила это как моральное предательство и вот теперь вышла в тираж. Светлана рассчитала все точно, без рабочих лошадок ей тоже было не выжить, не повернуть лабораторию на новые рельсы. И Лиза была одной из них. Она сдалась, обложилась книгами, учебниками и монографиями, химию она любила, но рядом с учеными трудами стали появляться постепенно и свежие романы, которыми зачитывалась она без зазрения совести, забывая, где она и что происходит вокруг.
Она все чаще думала, как приятно иногда бывает сдаться, прекратить борьбу, плыть, как листок, по течению, поворачиваясь и кружась, где это угодно судьбе. И чем больше она думала об всем этом, тем больше все видоизменялось, становилось с ног на голову, и вдруг оказывалось, что сдаться иногда и значит – нравственно победить, но игра в поддавки была ничуть не легче, чем игра на победу. Плата была все такая же – вся жизнь. Это касалось не только работы, но и многих других вещей, – так сдается женщина перед решительным мужчиной просто потому, что в этом ее предназначение, и слабый, но мудрый сдается на милость глупого победителя, и человек сдается перед непознаваемостью мира. Во всем этом была особая сладость и очарование, время текло между пальцев нежно и незаметно, как ветер или вода. И чем-то это похоже было на религию, потому что ничего не надо было знать точно, а можно было просто верить, что так лучше, и в этой вере был огромный соблазн безволия. Но продолжаться долго это не могло. Упрямая мысль работала, все снова и снова прокручивая заезженную, надоевшую пленку одних и тех же несчастий и неудач. Она жаждала покаяния, исповеди. Для исповеди вера была совсем не нужна, для нее нужно было только понять себя и судить по всей строгости, потому что не было у Лизы другого судьи, кроме самой себя. А значит, не было у нее и никакой веры ни во что на свете: ни в судьбу, ни в прощение, ни в воздаяние. Не было нигде во всей огромной вселенной такого существа, которое могло бы взять на себя ее грехи, заплакать над ними и отпустить их навсегда, положить теплую длань прощения на ее голову. Желанная исповедь не дарила блаженства. Она была слишком рациональна, чтобы найти несуществующий выход. Приходилось возвращаться к прозе жизни. Верить или знать – такой вопрос никогда не стоял перед нею всерьез. Конечно – знать.
Вспоминая теперь ужасные дни, когда впервые она узнала о Жениной измене, она удивлялась, что больше не чувствует прежней невыносимой, терзающей боли. Она почти не понимала себя ту, прежнюю. Из-за чего она билась и изводила себя? Разве сам факт измены что-нибудь менял? Ужасно было предательство чувств, надругательство над иллюзией их единства. Но ведь это была только иллюзия! А кто же из живых людей не соблазнялся в сердце своем? Разве она никогда не соблазнялась? Что же оставалось тогда от всей идеи предательства? Только жалкие встречи, не приносящие единства, потому что его нет и не может быть? Что ж, бывают беды и побольше. И странная уверенность росла в ней, что все это им надо, необходимо было пережить, чтобы оценить то, что они имели на самом деле: дружбу, привязанность и уважение, взаимопонимание, общность взглядов, привычку к общежитию, ценность тихого голоса, приветливой улыбки. Любовь здесь была совершенно ни при чем, ее заменить было бы проще всего остального, если бы они еще и нуждались в этой пылкой подруге ушедшей юности. Те телесные отношения, которые существовали между ними теперь и, наверное, сохранятся еще на долгие годы, – они ведь тоже были совсем не любовью, а естественной формой их земного взаимного существования. А любовь, та, которую знала Лиза в молодости и к которой так страстно тогда стремилась, – она была чем-то совсем другим: помрачением рассудка, подъемом счастливых чувств, нежеланием видеть, слышать, понимать очевидное. И плотскость ее тогда была ложной, гораздо больше была она жаждой игры и обмана. Настоящее телесное общение возникло и выросло у них только сейчас и было ровным, неприхотливым и благодарным. Почему такое значение придавала она когда-то любви? Что потеряла она с возрастом и ушедшей любовью? Только ожидание несбыточного, невозможного счастья, еще одну иллюзию, а потеряв ее, обретала реальность. Вот эта самая тихая жизнь и была ее жизнью, и никакой другой у нее уже больше не будет. Смириться, принять, оценить… Бедный Женя! Как он стыдился и презирал себя тогда! Его страдания были ничуть не меньше, чем ее, уж он-то наверняка куда реже, чем она, вспоминает то лживое время. Бедный Женя! Ему так и не суждено было узнать вкус любви. Она жалела его за это, она почти желала ему любви и почти готова была отступиться – ради него. Ну что ж, и это тоже не самое страшное. Что же тогда? Самое страшное то, что всему на свете приходит конец. И привыкнуть к этому невозможно, невозможно! Счастлив может быть только тот, кто живет сегодняшним или завтрашним днем и не знает, не помнит прошлого.
– Что-то ты, Лизок, совсем опустила крылышки, – говорил ей постаревший, помягчевший Женя, – нельзя так, старушка! Смотри, какая ты у меня еще красавица! Надо же все-таки как-то сопротивляться течению.
– Зачем?
– Да просто чтобы взять штурвал в свои руки и крутануть как следует.
– Ах этот штурвал! Ты считаешь, что мне не удалась жизнь? Да, я не сделала карьеры, но я ведь к ней и не стремилась!
– Я тоже думаю не о карьере. Но я люблю свою работу, она приносит мне удовлетворение, понимаешь?
– Уже не такое, как прежде, Женя.
– Да, уже не такое. Моя работа оказалась неблагодарной, и страданий не делается меньше, и изменить мир мне не по силам. Ну так что же, разве в этом дело? Все равно я ее люблю.
– А я полюбила людей, с которыми работаю. Разве это не одно и то же?
– Нет. И людей этих скоро не останется, ты будешь последняя, ты слишком консервативна, Лизок.
– Консерватизм – это ругательство?
– Консерватизм – это консерватизм. Надо смотреть вперед.
– А мне кажется, надо смотреть шире – и вперед, и назад, и вокруг, надо жить. Делать то, что ты делаешь, как можно лучше, думать обо всем, а то, что придумал, говорить.
– Но тебе же плохо живется, Лиза!
– Да, мне неважно, сама не знаю отчего. Чего-то я, наверное, не умею понять. – Она обежала глазами комнату. И здесь тоже все было не так, не так, как у других, более современных людей, все было немножко непричесано и облезло. Да, она не умела бежать за временем. Не только не умела – не хотела.
* * *
Весной заболела Юлия Сергеевна. Лиза очень встревожилась. Мама никогда раньше не болела, и так странно было видеть ее печальную, побледневшую, с потухшими глазами. Что с ней – никому не было понятно, она чувствовала себя усталой, держалась совсем крошечная, но упорная температура. Женя возил ее в свой институт, и там всячески крутили ее под рентгеном, смотрели и легкие, и желудок и ничего не нашли.
– Просто я устала, – говорила довольная, успокоившаяся Юлия Сергеевна, – надо скорее выбираться на дачу, там мне сразу станет легче. Видишь, я совсем не могу без воздуха…
Но Жене вся эта история не нравилась, он морщился, отмалчивался или говорил неопределенно:
– Надо посмотреть, понаблюдать…
И Лизу тоже мучили страхи, снились какие-то странные сны, в которых мама медленно наклонялась и падала, падала ей на руки, а она подхватывала ее и носила на руках, и мама была невероятно, воздушно легкая, и удивительная сладость была в том, что вот она ее носит и прижимает к себе, что мама такая слабая, и Лиза задыхалась от жалости и любви. Но, проснувшись среди ночи, испытывала она такой ужас, что больше уже не могла заснуть, а все думала, думала и думала, гнала от себя страх и не могла прогнать. Что-то ведь все-таки происходило с мамой. Что? Правильно ли они сделали, что отпустили ее на дачу? И на другой день после работы мчалась она за город и видела мамино удивленное лицо.
– У меня все в порядке, Лиза, не беспокойся, пожалуйста, – говорила ей мама.
И она возвращалась назад посрамленная, но и успокоенная. И тревога постепенно отступала, только сны продолжали сниться самые разные, но кончающиеся всегда одинаково: откуда-нибудь появлялась маленькая растерянная мама и умирала, медленно падая ей на руки. А она, рыдая, торопилась ей что-то сказать и объяснить и не умела, и не успевала, потому что просыпалась взмокшая, в слезах и с колотящимся сердцем.
– Послушай-ка, да тебе самой надо лечиться, – сердито говорил ей Женя, – возьми себя, пожалуйста, в руки. Пока еще, слава богу, ничего не случилось.
И действительно, пока все было в порядке. В сентябре Юлия Сергеевна прислала Лизе открыточку, в которой просила оказать ей любезность и свозить ее на машине куда-то за саженцами. Лиза этой открытке очень обрадовалась: раз дошло до саженцев, значит, все-таки мама поправляется, а потом – так давно уже она ни за чем не обращалась к ней, и все показалось Лизе добрым знаком. В воскресенье она с утра поехала на дачу. День был чудесный, солнечный. Мама уже ждала ее, похудевшая, посеревшая, но бодрая, даже какая-то возбужденная.
– Ты знаешь, – сказала она, – я прочитала объявление в газете, там какие-то люди продают удивительные вещи – амурский виноград, лимонник, пробковое дерево, бог знает что. И мне так загорелось все это посадить у себя! Я уже и места подготовила. А это по другой дороге. Вот пришлось тебя побеспокоить…
Такое удивительное чувство испытывала Лиза, неожиданно оказавшись вдвоем с мамой в замкнутом пространстве машины. Как давно этого с ней не случалось! Когда это было в последний раз? Она напрягала память, пытаясь вспомнить, и не могла. А между тем какой-то другой частью своего «я» все узнавала и помнила. Вот она сидела рядом с ней, и боковым зрением видела Лиза дряблую, такую знакомую щеку, и ухо, и легкие сухие волосы, и запах ее кожи ощущала, такой обжигающе памятный. И сразу в машине образовался другой мирок, и по-другому она к ней обращалась, и видела и чувствовала ее совсем иначе! Мама! Какая сладость еще сохранилась, оказывается, в этом позабытом их единении. Или это опять она одна, без всякого содействия мамы, разводила свои фантазии? Ну и пусть, пусть она и не чувствовала ничего такого, зато на самом деле, а не в мечтах и не во сне была рядом, напряженная, озабоченная своими планами. В руках она держала бумажку с адресом и подробными разъяснениями, как добраться до поселка, и то и дело заглядывала в нее.
– Как ты себя чувствуешь, мама?
– По-моему, нормально.
– А температура? Температура не повышается?
– А! Я ее давно перестала мерить. Какой от этого толк?
– Ну как же так, мама? Это неосторожно. Все-таки врачи велели наблюдать.
– Врачи! А что врачи? Ну буду я мерить температуру – что от этого изменится? Это же не лечение, только нервотрепка лишняя… Вета, а мы правильно едем? Это еще не тот поворот?
Сентябрь был сияющий, ясный, из тех, когда каждое дерево стоит среди осенних просторов полыхающее, как костер, и светит само по себе. Они проезжали еловый лес, и все вокруг словно меркло, но дорога поворачивала, и снова повсюду, среди черных полей и стеной у горизонта и в поселочках, мелькающих по обе стороны дороги, все загоралось разными оттенками желтого, лимонного, рыжего, а обыкновенная зелень да еще малиновые брызги осин и черемух казались в этом золотом буйстве редкими драгоценностями.
Наконец добрались они до места.
– Вам к Волченковым? Так вон их забор, видите, заросший. К ним много ездят…
Они поставили машину на травку и толкнули покосившуюся калитку.
И правда, удивительные тут были вещи. Между огромных желтых листьев, плотно облепивших забор, свисали кисти мелкого черного винограда, дом оплетала лиана, разноцветная, розовато-желто-зеленая, на жилистых ветках которой тут и там прятались продолговатые неизвестные плоды, и облепихи стояли, густо, словно коростой, покрытые оранжевыми ягодами, и еще, еще что-то, каждый кустик, если к нему приглядеться, оказывался необыкновенным.
К ним вышла грузная старуха, с трудом передвигающаяся на больных ногах.
– Ну, проходите, проходите в дом, – сказала она. – Там и поговорим.
Домишко был тоже маленький и ветхий, забитый всяким хламом, который всегда скапливается в старых жилищах, но в комнате было чисто, тепло. Маленький старичок в черной застиранной косоворотке торопливо поднялся им навстречу.
– Вот это и есть хозяин, Волченков Филимон Петрович. А я помогаю. Вы садитесь, пожалуйста, лучше вот сюда, на диван. Я ваше имя-отчество не спрашиваю, у меня памяти никакой, да и бог с ним, что – один раз увидимся и разойдемся. Только вы не загубите саженцы-то. С ними надо хорошенько разобраться и труд большой вкладывать, а я продаю недешево.
– Меня эта сторона не беспокоит, – величественно сказала Юлия Сергеевна.
– Это вам повезло. Да вы не думайте, что мы тоже какие-нибудь дельцы. Филимон Петрович вот лесником здесь работал, в лесничестве, и увлекся сибирской флорой, все картошку сажают, а он – нет, взялся и взялся за свое. Вот и получилось, интересно стало, и столько желающих объявилось на это дело, удивительно даже. Из разных учреждений приезжают, просят. Про нас и «Наука и жизнь» писала, и газеты некоторые, вот посмотрите…
Филимон Петрович уже держал наготове потрепанную стопочку, молчаливо, без улыбки протягивал ее жене. Он был совсем старенький. Лиза рассеянно листала журнал и увидела там фотографию Волченковых, не то чтобы молодых, но еще совсем бодрых, в саду, среди каких-то кустов и деревьев, а Юлия Сергеевна, достав очки, внимательно читала.
– Это же очень интересно, – сказала она потеплевшим голосом, – здесь все написано, как за чем ухаживать. Как же это я раньше не видала, мы ведь получаем этот журнал.
Потом старики копали, заворачивали саженцы в газеты, укладывали и рассказывали, рассказывали, рассказывали про каждое растение и каждую ягоду, бегали в дом, приносили банки с вареньями и компотами – попробовать и объясняли, что от чего помогает и какие где витамины, и когда уже уложили все в машину, получился словно огромный куст прутьев, веток и дрожащих осенних листочков.
Юлия Сергеевна возбужденно оглядывала свои сокровища, записывала что-то на бумажку и снова смотрела, она была совершенно счастлива, даже порозовела.
– Вот, доченька, спасибо тебе, ты мне такое удовольствие доставила. И люди какие любезные, правда?
Осенние дни короткие. Пока Лиза отвезла маму, выгрузилась, попила с ней чаю, пока добралась до города, было уже темно. Целый день она просидела за рулем, даже устала с непривычки. Но на душе было так весело, так радостно!
– Ну, как ты нашла Юлию Сергеевну? – осторожно спросил ее вечером Женя.
– Без особенных перемен. Может быть, похудела немножко. И потом, она говорит, у нее появился какой-то зуд или сыпь, я не знаю, что-то, кажется, кожное.
– Она кому-нибудь показывалась?
– Нет, только Сергею Степановичу, он ведь все-таки тоже врач.
– Вот именно что – тоже. В следующее воскресенье съездим вместе. Я хочу сам ее посмотреть.
– Женя, тебе что-нибудь не нравится? Ну скажи же, зачем ты меня пугаешь!
– Я и не собираюсь тебя пугать, просто спрашиваю…
– Господи! Да неужели же в жизни не бывает покоя? Чтобы просто все было хорошо, все были здоровы и на своем месте! Неужели так не бывает?
– Покой, дорогая моя, в жизни недостижим, а в смерти нас совершенно не радует. Это так, вязанка сена перед носом бегущего осла, вечная, недостижимая цель. Надо бы было тебе уже привыкнуть к жизни на ходу, между двумя поворотами или двумя неприятностями…
– Какой ты, однако, сегодня оптимист.
– Я скучал без тебя. Может быть, это перевесит твои тревоги?
Но нет, не перевешивало, и радость этого дня погасла, казалась экзальтированной, пошлой, поверхностной. Что знает она обо всех этих людях и что ей за дело до них? Наверное, они тоже кого-то обижали и что-то делали не так, жизнь бесконечно сложнее этих случайных, выхваченных мельком впечатлений. Только бы мама… Только бы мама была пусть даже нездорова, просто жива. Пусть мама будет жива!
В следующее воскресенье они снова помчались к ней. Все было спокойно. Капал тихий дождик, мама в плаще и резиновых сапогах возилась в саду, а Сергей Степанович на терраске слушал последние известия. Он их приезду очень обрадовался, суетливо достал из шкафчика зеленую настойку, потащил Женю за собой. Ему так хотелось обсудить все последние международные новости, а Юлия Сергеевна к ним не имела никакого вкуса. Она водила Лизу по саду, показывала, где посадила какой кустик, умилялась и радовалась сама на себя. Про свое здоровье говорить она не хотела, температуру по-прежнему не мерила.
– Ну что ты за человек, Лиза! Забрала себе в голову какие-то глупости, так и правда сделаешь меня больной. Мне ведь не тридцать лет, конечно, устаю. Ну и что же? За мной Сереженька прекрасно смотрит.
Дождь пошел сильнее, и сразу стало по-осеннему холодно и неуютно. Они сидели на продувной терраске, смотрели, как по застывшим стеклам течет и течет вода, пили чай, грея о чашки руки.
– Вот и кончилось лето! – печально сказала Юлия Сергеевна. – Так жалко всегда уезжать с дачи, на полгода прощаешься…
Дождь все лил и лил сплошной стеной.
– Ну, как ты ее нашел? – осторожно спросила Лиза на обратной дороге.
– Да, по-моему, она в порядке. И выглядит неплохо. Только вот щупаться не далась, говорит: надоели вы мне со своими осмотрами. Что ж, это хороший признак.
Они медленно ехали по шоссе, стекла запотели, они то и дело протирали их ладонью, и тогда все делалось удивительно прозрачным, мокрым, серым, расплывающимся. Машины уже зажигали подфарники, и казалось, что эти редкие красные огоньки плывут по реке. Осень! Еще одна осень наступила, и не верилось, не верилось, что все, все, что ушло, невозвратимо, потеряно навсегда.
И снова они говорили о том, что надо все-таки как-то сопротивляться движению жизни, бороться с ее скоротечностью, и снова многозначность каждого понятия путала и сбивала их с толку. К чему они стремились? К тому, чтобы замедлить бег времени и растянуть жизнь? В сущности – к иллюзии покоя. Только и всего? Но зачем? Покой все равно наступит в свое время. Не от него ли они бегут? Достойная ли это задача для мыслящего здорового человека – просто остановить время? Так что же – замереть и жить медленно, смакуя каждое мгновение, или, наоборот, поторопиться? Кинуться в самую гущу и постараться успеть свершить хоть что-нибудь? Или высокомерно презреть суету и быть самим собой, и только? Быть самим собой, не поддаваться, не подчиняться обстоятельствам – это совсем не так просто, и порою на это уходит вся жизнь, и все-таки это только первый сознательный уровень, первое условие, с которого все начинается, и, может быть, им еще предстоит подойти к очередному старту?
Да, так заманчиво было ценить свой возраст как обретение и силу, если бы только твердо знать, что накопленные ими богатства – реальность, а не жалкая попытка сунуть голову под крыло перед лицом грозного образа смерти, пустоты, грохочущего провала в бездну. Только творчество, только результаты труда могут служить хоть какой-то гарантией этой реальности. А вот Лиза так ничего и не нашла в себе, испуганно и нервно следила, как уносится назад время, все быстрее, быстрее, быстрее. Утро сменялось вечером, понедельник – сразу пятницей, весна превращалась в зиму. А все еще ничего не было решено и, наверное, никогда уже не решится.
Незаметно наступила зима.
Елисеев и Лиза возвращались из гостей, было поздно. После жаркой и тесной квартирки так приятно было легкое порхание снега, замутившаяся, неясная даль улицы. Им хотелось пройтись пешком в тишине, покое, задумчивости. Они устали от шума и музыки, и сейчас на улице было так хорошо, что ни о чем не хотелось говорить. Редкие троллейбусы с грузным шорохом обгоняли их, немногие прохожие торопились к остановкам, а они все шли и шли, пока не замерзли окончательно и не побежали вместе со всеми. Троллейбус был почти полон: какой-то плечистый парень сидел, держа на руках спящего ребенка, парочка шепталась, прижавшись друг к другу, одинокая маленькая старушка, выпрямив спину, неподвижным взглядом смотрела вперед, усталая семья с пьяным мужем во главе ехала откуда-то из гостей, а на задних сиденьях бренчала на гитарах и горланила компания молодежи. Лиза оглянулась на них с невольным раздражением и вдруг поняла, они не бренчали и не горланили, они просто играли и пели, в оценках ее подводила легкомысленная привычка отмахиваться от всего, чего она не знала и не понимала, а не знала и не понимала она почти ничего, кроме того крошечного пятачка, на котором жила сама. И смутно вспомнила она, что однажды ей что-то такое пытался втолковать об этом Рома, он говорил тогда о разных слоях, которые годами существуют в обществе параллельно, живут, встречаются ежедневно, но никогда не пересекаются, не смешиваются и как бы не замечают друг друга. Может быть, он говорил и еще что-нибудь важное, но она тогда не слушала его и не понимала, ей это было совсем неважно и неинтересно; тогда ей казалось, что им обоим вполне хватит их собственного прекрасного, обжитого, знакомого мира. Что ей было до остальных? И только сейчас, впервые, стала она догадываться, что мир безграничен и она в нем совершеннейший новичок. Она давно потеряла где-то свой детский дар общительности и общения и жила, словно в безвоздушном пространстве, в своих отвлеченных мечтах и печалях. Общение с людьми – вот в чем был бесконечный запас обновления и открытий! Но она еще не готова была к нему. Ее чопорное, сдержанное воспитание, так выручавшее ее в трудные минуты, в обычной жизни ее подводило, отнимало способность к непосредственному общению. Ей всегда казалось, что лезть в жизнь незнакомых людей – это непозволительная бестактность. И это была оборотная сторона хорошего воспитания. На самом-то деле люди стремятся к общению, жаждут его, ищут друг в друге поддержки и одобрения. А она никогда не умела ни услышать призыв, ни откликнуться на него, ни самой обратиться к другим со своими тревогами и бедами. Нет, воистину – открытиям не было конца.








