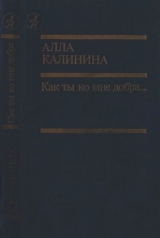
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
Дома все было готово к их приезду, во всем здесь чувствовалась рука Юлии Сергеевны, все блестело и шуршало, а на рояле стоял такой букет алых тюльпанов, что Лиза задохнулась и на мгновение позабыла даже о дочке. Длинные светлые, едва открытые бутоны изгибались на сильных стеблях, наклонялись, но не ложились и словно освещали всю комнату ровным красным пламенем. Девочка спала. Ее положили в новую детскую кроватку, сверкающую светлым лаком, деревянную, и она потерялась там, несоразмерно маленькая, ненастоящая, и Лизе показалось, что все это не всерьез, не навсегда и завтра жизнь начнется такая же, как прежде, и это испугало ее.
Но прежняя жизнь не вернулась. Заботы нахлынули неисчислимой лавиной, кормления, смазывания, кипячения кружились бесконечной чередой, не оставляя места ни для сна, ни для посторонних мыслей. На третий день пришла Юлия Сергеевна купать девочку. Она посмотрела на Лизу и сказала с улыбкой:
– Только не вздумай опускаться, Вета. Что-то ты неважно выглядишь.
Лиза вспыхнула, провела рукой по волосам, она и правда не могла вспомнить, причесывалась ли сегодня, на ней был халат и застиранный передник.
– Я так рада, что родилась девочка, – говорила между тем Юлия Сергеевна, разворачивая ребенка. – Я мальчишек не люблю, с ними всякие сложности, а с вами никогда особенно трудно не было…
– Разве в этом дело? А Женя, например, хотел сына.
– Ну и очень глупо, сын у него уже есть…
Лиза вздрогнула и в изумлении посмотрела на мать. Что это было – бестактность или намеренная жестокость? Неужели их начатая когда-то, забытая война продолжалась? Почему? Столько времени прошло, и отношения установились добрые, ровные. Почему же мать то и дело колола ее, не желая если уж не поддержать, то хотя бы пощадить? Что-то не так здесь было, но она опять промолчала, смешивала кипяченую воду, добиваясь нужной температуры.
Купалась девочка замечательно, не плакала, весело сучила ручками и ножками, поводила головкой, глаза ее плавали бездумно, беззубый ротик был открыт.
– Ах ты, деточка наша золотая, – щебетала Юлия Сергеевна, – какая она у нас крошечная!
– Мама, дай-ка я сама, мне ведь надо научиться.
– Ну, попробуй, попробуй! Только осторожно, смотри не утопи ее.
Девочку назвали Ольгой. Она была спокойная, улыбчивая, ночами спала. И постепенно жизнь стала налаживаться. Приходя из института, Елисеев мыл руки и сразу шел к ее кроватке, играл с ней и сюсюкал, как маленький. Глядя на него, Лиза вспоминала папу, свое далекое, такое прекрасное детство, и сердце ее сжималось от счастья. Как это случилось с ней? Откуда пришел этот покой, почему не находился он раньше? Почему не придумался этот выход, когда она мучила бедного, совершенно теперь позабытого Рому? Просто ли она была тогда слишком молода, или для того, чтобы найти и оценить счастье, надо много страдать? Она не могла ответить себе на этот вопрос; больше того, она понимала – он будет стоять перед ней вечно, как и сам образ Ромы, который сейчас вдруг неожиданно и ярко выплыл в ее душе.
Глава 3
Ирина кончала университет. Она специализировалась по Древнему Востоку и в Средней Азии бывала так часто и подолгу, что коричневый загар въелся в нее и не успевал отходить с осени до весны. Она сама давно к этому привыкла и к исходу полевого сезона начинала уже путать, где она дома, а где в гостях. Она привыкла к кочевому образу жизни, к палаткам, рюкзакам, консервам, дыням, привыкла к желтым глинистым раскопам в пустыне, к верблюдам, пасущимся вдали, и долгому, нудному и мечтательному сидению на солнце перед грудой неведомых черепков, пока еще всегда одинаковых, но все равно манящих и вечно обещающих неожиданности, открытия, тайны. До сих пор ей не слишком везло. Руководитель университетской экспедиции, в которой она работала уже третий год, Барашевский, был человек педантичный, археолог классического, строгого направления. Он не любил фантазий и необоснованных предположений и считал, что гораздо важнее точно классифицировать и подробно и тщательно описать находку, чем впадать из-за нее в дилетантские мечты о прошлой жизни. Этим можно заниматься на досуге в зимнее время, да и то если не найдется более полезного занятия. Раскоп он вел последовательно, настырно, не смущаясь тем, что вот уже третий год интересного материала все не было и не было. Наоборот, он считал, что неинтересный, однообразный материал – это как раз и есть самое интересное, а вот всяческие чудеса и находки – чаще всего просто фокусы недобросовестных исследователей. Нечего и объяснять, что Ирина не просто невзлюбила, а прямо-таки возненавидела Барашевского и давно уже вела с ним тайную и упорную войну. Но Барашевскому это было безразлично, эмоций он никаких не проявлял, Ирину он считал отличной студенткой и добросовестным работником, а остальное его не интересовало. Да и сама Ирина чувствовала, что время зря не пропало, у него было чему поучиться.
Вот так и шли годы, пока не встретила она одного человека, который совершенно поразил ее воображение. Он копал рядом с их экспедицией, в нескольких километрах, приезжал только по воскресеньям с группками школьников, которые ничего не знали, ничего не умели и вообще каждый раз менялись. И все-таки он искал и находил совсем иное, чем они, профессионалы, и работа его была полна какой-то неистовой, бешеной энергии. В сущности, он интересовался только искусством и все, что находил, рассматривал единственно с этой точки зрения. Звали его красиво – Глебом Владиславовичем Троицким, но человек он был странный, ни на кого не похожий и с первого взгляда звучности своего имени соответствовал мало, это уж потом Ирина поняла, с кем ее столкнула жизнь. Был он маленький, субтильный, хилый, со слабым петушиным голосом и жутким характером. Требования его к окружающим были непомерны, и ладить с людьми он совершенно не умел. Почему-то был он уверен, что работа превыше всего, и такие понятия, как выходной день или конец работы, были ему просто непонятны и неинтересны. Сам он жил в городе при краеведческом музее, спал на диване в хранилище, ходил всегда в одних и тех же линялых тренировочных штанах, кедах и ковбойке и только в присутственные учреждения надевал сверху пиджак, неожиданно обнаруживавший даже некоторое изящество покроя. Положение его в городе было какое-то неопределенное, неясное: то ли был он внештатным сотрудником музея, то ли находился в затянувшейся командировке. Так или иначе – к нему прислушивались, и директор музея, человек ленивый и в деле своем случайный, его побаивался, при появлении Троицкого он вставал, считая его большим начальством, и в то же время явно радовался, что есть кто-то, на кого можно перевалить изрядную часть своих дел. Троицкий же этого даже и не замечал, в музее чувствовал себя полным хозяином, в той части, конечно, которая его интересовала, бегал по начальству, выбивая себе средства, а по воскресеньям еще и собственноручно копал в облюбованном им районе.
Познакомившись с Троицким, Ирина ожила. Она словно впервые оглянулась вокруг и увидела республику, в которую ездила уже третий год, но которой не сумела по-настоящему заинтересоваться, потому что не вылезала из своего лагеря. А здесь было интересно, даже очень. И начинался интерес опять-таки с Троицкого. Он собрал у себя такую коллекцию народного творчества, какой она не только не видела никогда, но и заподозрить не могла в этой глуши. А между тем она существовала. Было огромное количество материала, который Троицкий собрал методом сплошного подворного обследования, и метод этот дал сногсшибательные результаты. В хранилище громоздились какие-то невиданные ковры, в которых странным образом сочетались шерсть, шелк и хлопок, вышивка, ткачество и ворсовый ковер, но одно не мешало другому, а, наоборот, развивало и дополняло; переходы были тонки, орнаменты не повторялись. Это было чудо.
– Господи, да где же вы все это раздобыли? – изумлялась Ирина.
– Ничего особенного я не раздобывал. Это еще и сейчас делают почти в каждой юрте, – ворчливо говорил Троицкий. – Но скоро перестанут, вот увидите. А мы ничего не делаем. Видим, как гибнет высочайшее народное искусство, и молчим. Вас не пугает, что культура катится вниз? Цивилизация растет, а культура народного творчества не просто падает, а вообще исчезает, сходит на нет. Вы посмотрите, что они делали! А посуду вы видели? А костюм? А головные уборы? И вдруг нахлынула желанная долгожданная цивилизация – и все стало не нужно? Этого ведь не может быть.
– Наверное, может. Сейчас действительно ничего особенного не заметно, город как город, на столицу не очень похож. И люди как люди. Азия.
– Наверно, вы правы. А мы лезем с нашими московскими мерками.
– Глеб Владиславович! Так вы тоже москвич?
– Конечно, москвич. А вы что думали? Что я так здесь и родился, в хранилище под лавкой? У меня и квартира в Москве. На Гоголевском бульваре. Жена. Но я думаю, она меня скоро бросит, дома я не бываю… Все как-то некогда. Вы же видите, что здесь делается… Ждать совершенно нельзя, все гибнет на глазах. И скажите, Ирина Алексеевна, это правда интересно, то, что я собрал? Вот вам лично как кажется? Это важно?
– По-моему, это потрясающе! Да вы же сами видите. Неужели у вас есть какие-нибудь сомнения?
– У меня – есть. Мне кажется, это вообще никому не нужно. Никто не хочет ничем помогать, никому нет до этого дела. Я бегаю как какой-то проситель. Может быть, все это действительно чепуха… и я сумасшедший? Вот вы… пойдете ко мне работать?
– Я же еще учусь.
– А вы кончайте и приезжайте. Сколько вам еще осталось – год? Год я могу еще ждать, я сам на птичьих правах. Так вы же все равно не приедете…
– Честное слово, приехала бы, но ведь я археолог. Я искусством совсем не занималась…
– А чем вы вообще занимались? Археолог! Вы вообще еще никто! Просто не хотите работать, так бы и сказали… Все бегут: реставратор ушел, два художника ушли, никому не нравится жить в пустыне.
– А может быть, вы тоже немного виноваты, характер у вас, знаете ли… Хорошо, что я не из робких, я семейную школу прошла… А то бы я и правда от вас сбежала. Мало кому нравится, когда их так честят.
– А я никому нравиться и не собираюсь. Что я, красна девица? Неужели я действительно такой страшный?
– Нет, вы не страшный. С вами ужасно интересно, но работать… даже по специальности – я бы десять раз подумала. Вам ведь надо все, с потрохами.
Так началась их дружба, странная, воинственная и захватывающе интересная.
«Вета, я встретила здесь такого человека, который перевернул мне все представление о моей работе, – писала Ирина в письме к сестре. – Он здесь делает совершеннейшие чудеса. Я по выходным езжу с ним копать…»
Но Вета, погрязшая в личной жизни, из письма ничего не поняла, глупо всполошилась, спрашивала, сколько ему лет и разведен ли он с женой. Это было непохоже на Вету и ужасно глупо. Ирина обиделась и отвечать не стала. Но осенью, когда они встретились, Ирина не удержалась и снова стала рассказывать – о коллекции, о прикладном искусстве, о предложении Троицкого приехать в республику на работу. Вета ко всему этому отнеслась холодно.
– Неужели ты не понимаешь, что он просто тебя заманивает? Ну когда ты поумнеешь, Ирка? Уехать легко. А что будет потом? Мне кажется, ты сама говоришь об этом несерьезно.
– Я вообще, Веточка, об этом не говорю, потому что меня оставят в аспирантуре. Вот так. Мне Барашевский сказал. Так что можешь не волноваться. Но вообще ты очень поглупела последнее время. Это на тебя Женька так действует? Я ведь уже взрослый человек, специалист! И довольно неплохой. И вообще я серьезная. А ты только и думаешь что о любви.
– Правда? – печально спросила Вета.
– Ну ладно-ладно, ты не расстраивайся, пройдет, наверное, в свое время. Но вообще-то просто страшно подумать, неужели я тоже такая буду…
Последний университетский год пролетел как во сне и неожиданно кончился. Ирину распределили в аспирантуру, все было решено. Наступил отпуск, и Ирина оказалась на недавно построенной маленькой федоренковской дачке, чтобы на первых порах помочь Вете хлопотать вокруг ее сокровища. Опять получалось так, что им обеим некуда было деваться: Вета привязана была к ребенку, а у нее, Ирины, что-то ни к чему не лежала душа, она сама не решалась себе признаться, что скучает без Средней Азии, без своей экспедиции, без товарищей, без пустыни. Совсем не нужен был ей этот отпуск.
Вечерами, уложив Оленьку, они садились вдвоем на крылечке и разговаривали о всяких пустяках. Мама с Сергеем Степановичем были в санатории, Женя работал и приезжал нерегулярно, поэтому Вета постоянно была в ожидании, прислушивалась, то и дело взглядывала в сторону калитки, она была усталая, счастливая, чужая. Ирина смотрела на нее и почему-то испытывала к ней жалость, хотя все у Ветки наладилось и наконец-то было хорошо. Почему же она ее жалела? Женя Ирине, в общем-то, нравился, был он человек хотя и хмурый, но серьезный, цельный, Ветку он любил, ребенку был рад, работал со страстью и увлечением. Казалось бы, чего еще надо? Но ей, Ирине, все это казалось невыносимо скучным – дача, домашние хлопоты, серьезный муж. Ей не хватало простора, самостоятельности, свободы, южного зноя. Неужели совсем она одичала? Ведь любила же она раньше все это – бледное подмосковное небо, березы на травянистых косогорах, шум вечерних электричек, обрывки музыки, освещенные террасы. Что с ней стало? Это она, а не Вета, оторвалась и улетела от прежней своей жизни, разлюбила ее. Может ли это быть? Она обернулась к сестре:
– Знаешь, Ветка, как только вернется мама, я уеду. Все равно всем вместе нам здесь не ужиться. Да и тесно будет.
– Поедешь к нему?
– Никуда я не поеду. Зазря убила год. Только ты, кажется, так ничего и не поняла. Надо говорить не «к нему», а «туда». У меня работа там, любимая работа, понимаешь? Мне там интересно.
– Это правда? Ты в него совсем не влюблена, в этого твоего князя Трубецкого?
– Он Троицкий, а не Трубецкой. И да, я в него влюблена, как всегда влюбляюсь во всех талантливых людей. Но это не имеет никакого отношения к моей так называемой личной жизни. У меня никакой личной жизни и нет, и бог с ней, и я о ней не скучаю…
– Не знаю, хорошо ли это… Тебе уже двадцать третий год.
– Ты стала совсем как мама, Ветка! Ну что же делать, если я не встретила ни своего Рому, ни своего Женю? Сесть и рыдать? Или выскочить за первого встречного? Не бойся, когда он появится, я его не пропущу. Я женщина деловая.
– Никакая ты не деловая, Ирка, ты спасаешься бегством. Думаешь, это выход? Нельзя же вечно мотаться, когда-то надо остановиться и начать жить… Ой! Кажется, Оленька заплакала, подожди, я сейчас…
– Я и так живу, разве я не живу? – обиженно спросила Ирина ей вдогонку.
Лето было пустое и бесконечное. Ирина не могла дождаться, когда наконец начнутся аспирантские занятия, ей дадут уже ясно очерченную тему и можно будет засесть за работу.
Зимой в Москву неожиданно примчался Троицкий.
– Ну как, надумали? – первым делом спросил он.
– Глеб Владиславович! Я же говорила вам, у меня аспирантура, дел по горло, на три года я выбыла из строя.
– И очень хорошо, и замечательно, получите такую же никому ненужную бумажку, как валяется где-то у меня. Даже не знаю где. Потому что она мне не нужна, с нее никакого нет толку. А могли бы эти три года заниматься настоящим делом. Ну, что я могу сказать, вы – как все.
– А вы думали, что я какая-нибудь особенная?
– Да ничего я не думал. Просто у вас есть какой-то нюх, чутье, что ли, а без этого в нашей работе тоже нельзя.
– Вы про меня прямо как про какую-то ищейку или охотничьего пса…
– Ах, извините меня, ради бога, Ирина Алексеевна. Я действительно стал ужасный человек. Даже домой показываться не стал. Вот живу у друзей.
Комната, в которой он принимал Ирину, и правда была какая-то странная, захламленная и пустынная одновременно, она находилась в огромной мрачной коммунальной квартире, и по всему видно было, что в ней давно никто не жил.
Троицкий вскочил со стула и забегал по комнате.
– Вы знаете, Ирина Алексеевна, а я сюда приехал с выставкой. Конечно, ничего уж такого особенного, но показать можно. Три каракалпакских художника, резьба по дереву.
– Неужели установлено авторство? И в хорошем состоянии?
– Да нет, вы ничего не поняли. Это к археологии не имеет никакого отношения, это современные молодые художники, самодеятельные, одна из них – девица, вот вроде вас…
– Современная? Так вы еще и за это взялись?
– Взялся! – Он остановился перед ней, тоненький как былинка, узкие плечики, руки в карманах, рано залысевший лоб покрыт был желтым загаром, коричневые умные глаза смотрели сердито. – Да, я взялся. И, если хотите знать, это еще не все. Вы же интеллигентный человек, должны понимать! Жизнь нельзя поделить на профессии, специализации. Вот вы, например. Вы ведь только утешаете себя, что вы археолог. А на самом деле – просто бежите от сложностей. А потом выскочите замуж и ни от чего не убежите, будете и стирать, и готовить, и что еще там… бегать по магазинам – ради этого вашего драгоценного мужа, и все это будет – ваша специальность, а в творческой жизни вы хотите на все закрыть глаза? Вот это – мое, а это – не мое. Но ведь это же чушь! Как можно интересоваться древним искусством и не замечать современного? Да я рад без памяти, что я их раскопал. Сидели тихо по домам, ковырялись для себя, один – бухгалтер, другой – черт знает что, а мы-то с вами думали, что народное искусство погибло! Вымерло, как какой-нибудь никому не нужный мастодонт… или как их там зовут, я не знаю…
– А вы уверены, что это именно народное искусство, а не дилетантство?
– Как вам сказать, не знаю: наверное, это и то и другое вместе. Но меня это совсем не пугает. Народное искусство – всегда дилетантство, пока не становится ремеслом, но учтите, что ремесло – это тоже не ругательство, потому что достигает оно порою таких вершин, какие и не снились современному производству. Автомат ведь только копирует высокого ремесленника и никогда не достигает его высот. Он превосходит его только в тиражировании и тем обесценивает. Недаром ручной труд всегда ценится выше. Словом, все это достаточно сложно. Дилетантизм – понятие условное, все зависит от таланта. Меня гораздо больше интересует самобытность и талант, чем школа. Все может прийти изнутри, само, если есть личность. А впрочем… Да не об этом я с вами хотел говорить. Я ведь начал теперь собирать изобразительное искусство среднеазиатских художников, и, конечно, не только каракалпакских.
– Значит, вы собираете всё?
– Да, всё! У древних каракалпаков живописи как раз вообще не было. А теперь есть, слабая еще, но есть! И она развивается под влиянием соседних народов, а на тех влияло другое искусство – русское, персидское, японское, черт его знает еще какое. И очень хорошо, пускай влияет! Мы не собачники, чтобы выводить чистопородных псов, искусству полезны влияния, они его движут! Ах, Ирина Алексеевна, я знаю, что я сумасшедший, но что мне делать, если все это лежит брошенное, никем не открытое и не замеченное. Мы по колено завалены сокровищами, ну не топить же ими печку, как кизяками…
– С вами умереть можно, Глеб Владиславович! А вы еще меня хотели сманить неизвестно куда. Хорошо, что я не послушалась…
– Вот в этом как раз ничего хорошего нет. Вы же умный человек, и я на вас так рассчитывал! Ну вам же все равно придется приехать, посмотреть, что я там собрал. Вы не представляете себе, как это интересно.
– Ах, господи, ну конечно я приеду, я еще тысячу раз там буду, на раскопки буду приезжать и вообще… не могу я уже как-то без нашей пустыни. Представляете себе – скучаю.
– Да я и сам мучаюсь, там скучаю по Москве, здесь – по Нукусу, чепуха какая-то. Я думаю, на это просто не надо обращать внимания, где мы живем, – это, в сущности, абстрактный вопрос, особенно теперь, когда есть авиация. Или, если хотите, это вопрос, касающийся паспортной дисциплины. Но для нас, для нашей души, он не имеет никакого конкретного смысла, мы живем там, где мы живем, где мы работаем, где нам интересно. Земля ведь одна! Почему бы нам и не любить ее – всю…
– Да вы просто какой-то космополит, Глеб Владиславович!
– Какой я космополит! Бросьте! Я самый что ни на есть советский человек. Даже, если хотите знать, старой закалки; вот вам космополит – это смешно, а мне, знаете ли, страшно! Это в наше время была целая катастрофа. Но ко мне это никакого отношения не имеет. Просто я люблю Среднюю Азию. Я же все-таки живописец, а для художника Средняя Азия – это Мекка. Где еще есть такое солнце, такие краски? Да нигде, даже и не ищите…
– Так, значит, вы еще и художник? И у вас, конечно, есть картины, а вы мне их даже не удосужились показать?
– Разве я вам не показывал? Наверное, просто случая не было. Да я и не писал давно, все некогда из-за этой чертовой суеты.
На выставку Ирина ходила четыре раза. И не только потому, что выставка ей понравилась, и не для того, чтобы перетаскать туда всех своих знакомых. Нет, просто она чувствовала, что все это имеет к ней самое близкое и тесное касательство, она тоже давно уже полюбила Каракалпакию, это было ее – часть ее жизни, мыслей, трудов. Она ходила между странных экзотических темных фигур, касалась пальцами дерева, рассматривала орнаменты, прихотливо переменчивые, то переходящие почти в человеческие маски и фигуры животных, то упрощающиеся до креста и круга. Они были полны сложностей, подобий, намеков и в то же время традиционны и наивны. Они были лукавы. И увенчанные орнаментами фигуры от этого приобретали глубину и многозначность. Интересно здесь было, и Ирина удивлялась, как это вся Москва не рвется сюда, не сносит двери, не выстраивается в очередь. Нет, в сущности, все она прекрасно понимала, она знала, что выставка эта была вполне рядовая, маленькая и, наверное, вовсе не всем интересная. Это для нее она означала нечто большее, потому что… Почему? Надо было ехать туда, ехать и разбираться на месте. Но до этого было еще далеко.
А весной Ирина влипла совсем уж в дурацкую историю. Однажды к ней явилась Вета и с места в карьер попросила, не могла ли бы она пока пожить у них, с конца марта Вете надо выходить на работу, а оставить Оленьку не с кем. Жалко ее так рано отдавать в ясли, да и места все равно нет, а у нее, Ирины, работа книжная, сидячая. Оленька девочка спокойная, здоровенькая и мешать ей совсем не будет.
– Ничего себе предложение – без пяти минут кандидата наук усадить в няньки!
И Ирина неожиданно для самой себя согласилась, просто не сумела отказать Вете, совершенно свихнувшейся на своем ребенке. Действительно, не только по закону, но и по делу надо было ей выбираться из дому.
И началась жизнь незнакомая и странная. Ирина приезжала к восьми, было уже светло, открывала форточку, включала радио, пила чай. Оленька, уже накормленная завтраком, сидела в манеже и перебирала игрушки. Она вскидывала плешивенькую головенку, показывала в улыбке все свои маленькие зубки и говорила – «тятя», что означало «тетя». Тетя – это было она, Ирина. Она раскладывала на большом столе свои бумаги, за огромным белым окном светился тихий весенний день. И так легко ей думалось! Хорошо было в тишине пустой чужой квартиры. И невольно, и непонятно для себя то и дело поворачивалась она к Оленьке, улыбалась ей, шевелила издали пальцами, а потом не выдерживала, подходила, поднимала девочку из манежа, сажала к себе на колени. И почему-то так приятно ей было – до щекотания в носу, до глупых слез от прикосновений шелковистой детской кожицы, легких как пух волосиков, от цепкой хватки тоненьких хрупких пальчиков. Ирина потихоньку влюблялась в свою племянницу.
«А как же я? – думала она. – Будет ли когда-нибудь такое у меня?» И тут же отмахивалась от этих мыслей, страшно становилось, тревожно, обидно.
Иногда случались у них и мелкие неприятности: пролитые горшки, капризы, ушибы и царапины, но в общем время бежало ясное, умиротворенное, и даже работа потихоньку двигалась. Все чаще в белом сумрачном небе вскрывались голубые полыньи, и солнце, выглядывая из них, захлестывало комнату, весна накатывала не по календарю, а всерьез. Настроение у Ирины прыгало, менялось, и вдруг ей страстно захотелось на улицу, на волю. Гулять, гулять!

Она подхватила Оленьку, одела, выкатила коляску. Хватит сидеть дома! Ах как хорошо было вышагивать по улице, заглядывая в весенние незнакомые лица! Ирина почувствовала – скоро конец ее великому сидению, как ни привязалась она к этому курносому пухлощекому существу с ее улыбками и ямочками на щеках, с ее воркованием и вертлявыми ручками, вцепившимися в затертые края коляски, этому скоро-скоро придет конец. Больше она не сможет, не сможет, ей пора. Пора за настоящую работу, в библиотеки, в университет, к людям. Она сделала все, что смогла, и пусть Ветка не сердится. Надо наконец встряхнуться и ей, ведь она все-таки не Ветка, а молодая и совершенно свободная женщина.
– Я ведь тебе всего только тетя, правда? – сказала она Оленьке. – Тетя, а не мама. А это большая разница.
Оленька улыбалась и старалась встать в коляске.
Пора было все это кончать и браться за работу, драгоценное время шло, битые черепки, спокойно пролежавшие в земле многие сотни лет, теперь почему-то больше не хотели ждать, они взывали к ней, беспокоили, торопили.
* * *
К концу лета стало ясно, что материала ей все-таки не хватает, надо снова ехать на раскопки, скорее, пока не закончен сезон. И это неожиданно обрадовало и успокоило Ирину. Московская свобода ее утомила, хотелось снова окунуться в привычную, размеренную, тихую жизнь экспедиции. Там тоже была свобода, но она выражалась иначе: простором, протяженностью времени, неторопливостью мыслей. Да, в конце концов, ей просто хотелось туда, хотелось, и все.
Но выехать удалось только в сентябре, оформить поездку было трудно, не было денег, и Барашевский был в экспедиции, там.
Только спустившись по трапу и выйдя ночью на пустой нукусский аэродром, накрытый огромным темным звездным небом, вздохнула она с облегчением. Какой здесь был воздух! Сухой, острый, свежий. Она оглянулась вокруг, плоский город в стороне едва подсвечен слабым заревом. Тишина, покой. Наконец-то она на месте. Ирина закинула рюкзак на плечо и вслед за другими пассажирами вышла на площадь. Пусто было, только двое юношей возились со стареньким «Москвичом».
– Вы в город? – спросила их Ирина. – Не захватите меня?
– Пожалуйста, – смуглое лицо белозубо улыбнулось ей в темноте, – садитесь, пожалуйста, мы сейчас.
На следующий день она добралась до лагеря.
– Действительно, не густо, – сказал Барашевский, полистав ее материалы. – Что же мы с вами будем делать? Боюсь, я тоже ничем не смогу вам помочь.
Он вышел из палатки, распрямился, стоял, отвернувшись от нее, сцепив за спиной руки, смотрел вдаль. Удивительное здесь у них было место. Огромный, далекий горизонт был виден во все стороны, смыкаясь в гигантский круг и вызывая пугающее ощущение: ты, ты один и есть человек на земле. Только с запада чистота линии была нарушена легкими всхолмлениями, голубыми и розовыми, которые нежно светились вдали, словно мираж, колыхались и дрожали в горячих струениях воздуха, словно реяли над горизонтом. Под ногами на пологом склоне холма лежал их раскоп, ослепительно желтый, расчерченный яркими черными тенями, а дальше в зеленом каменистом ложе тек ручей, и путь его прослеживался далеко-далеко зелено-бурыми пятнышками кустарника и ослепительно голубыми взблесками многочисленных соленых озерышек, которые он питал. А с другой стороны, за оплывшими стенами развалившейся глиняной крепости, над всем огромным простором, бушевало солнце, и небо было раскаленно-синим, так что глаза не выдерживали, слепли, и черные, красные, золотые пятна долго еще потом застилали зрение. Хорошо здесь было. Барашевский наконец обернулся:
– Знаете что? Думаю, стоит вам все-таки съездить к Синицыну. У него два раскопа – в Муйнакском районе и возле Усть-Урта. В сущности, у него комплексная экспедиция, там есть палеонтологи, историки, даже один зоолог. Они работают от Ленинградского университета и от Узбекской Академии наук. Лично я Синицына не люблю; по-моему, в нем есть что-то авантюрное. Или это от молодости? Но человек он талантливый и ученый настоящий, этого у него не отнимешь. Поезжайте посмотрите, может быть, что-нибудь для вас и прояснится. Я напишу ему записку, а остальное зависит уже от вас. Попробуйте… Да, жаль, – добавил он печально, – но в конце концов истина важнее. Может быть, я действительно устарел?
Вот это счастье подвалило Ирине, целое путешествие по республике!
В Муйнак она вылетела днем на маленьком самолетике санитарной авиации. Едва они поднялись в воздух и полетели низко над землей, Ирина почувствовала, что полет будет не из легких. Их болтало. Внизу по зеленым и желтым, четко расчерченным квадратикам полей, подпрыгивая, ползла их крестообразная тень. Самолет накренялся, проваливался и снова выплывал, было душно. Ирина решила не смотреть в окно. В приоткрытой двери кабины, которая моталась со скрипом, то открываясь, то закрываясь, виден был молоденький пилотик, который сидел, держа руль коленями, и сосредоточенно размечал что-то в толстой пачке ведомостей. Похоже было, что этого занятия хватит ему на всю дорогу. Ирина судорожно глотала, желудок подступал к самому горлу, еще, чего доброго, она осрамится. Она осторожно, искоса оглядела своих попутчиков. Женщина с сумками в ярком цветастом платке что-то равнодушно жевала, глядя в окно; дальше спал старик, открыв рот и выставив вверх жидкую бороденку так, что видна была коричневая жилистая шея. Пожилая докторша, которую Ирина узнала по чемоданчику переносного кардиографа, сидела, уткнувшись носом в какую-то книжку. А сзади нее вдоль стены тихо разговаривали трое смуглых парней, один из которых особенно выделялся и сразу привлек внимание Ирины. Он был необыкновенно красив, высокий, гибкий, с крутыми нежными скулами, тонкими ноздрями и идеально очерченным ртом. И взгляд его был хорош, он скользнул, вернулся и встретился с ее глазами.
– Что, тяжело? – спросил он по-русски и совершенно без акцента. – Это потому, что мы поздно летим, до одиннадцати еще ничего, а днем пустыня прогревается и начинается эта болтанка. Видите, мы уже над Аралом, здесь тяжелее всего, но зато посмотрите – какой красавец!
Ирина выглянула в окно. Море лежало на желтом песке, как весенняя лужица, и было видно все целиком, с песчаными языками и косами, только вдали горизонт плавился в слепящем сиянии. Оно и правда было прекрасно.








