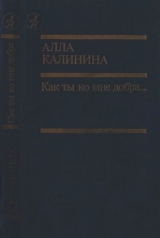
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
– Значит, теперь скоро?
– Да. Вон, видите, там, впереди, поселочек. Это и есть Муйнак. Сейчас пойдем на посадку, потерпите еще немного.
Парень в пилотской кабине, суетливо сунув ведомости под мышку, тянул на себя руль. Ирина почувствовала, что пропадает, и сжалась в комок, закрыв глаза. «Сейчас, сейчас будет легче», – уговаривала она себя. Но легче не стало. Самолет, едва чиркнув по земле, снова взмывал вверх. Ирина открыла глаза, все сидели, вцепившись в ручки кресел, желтые, как пергамент. Неужели и она выглядит так же?
В водительской кабине произошло какое-то движение, юнец с ведомостями встал, и на его место протиснулся человек поплотнее, постарше.
– Промахнулся наш стажер, – улыбаясь, сказал ей красивый парень, – досталось нам. Ну, ничего, Дамир сейчас посадит.
И снова они пошли в пике, с ужасом ожидала Ирина нового приступа, но опытный пилот повел машину мягко и плавно, тяжесть в затылке уменьшалась, и комок в горле начал медленно таять. Мгновение – и вот уже самолетик запрыгал по бетонной полосе, они приземлились.
– Ну пот и все, – сказал приглянувшийся ей попутчик, – а дальше вам куда?
– Сама не знаю. Я ищу одну экспедицию, может быть, вы слышали? Там ведутся раскопки…
– Неужели к Синицыну? Вот это здорово! Я ведь тоже с ним работаю, только в другой группе. А сейчас еду к нему. За мной и машину должны прислать…
Так Ирина встретилась с Камалом. Правда, потом он утверждал, что знал ее гораздо раньше, еще давно, что видел ее в музее у Троицкого и сразу влюбился, но Ирина в это не верила, у нее у самой была недурная память на лица, и не заметить Камала она не могла, это казалось ей просто смешным – пройти мимо него и не заметить.
Роман их начался стремительно и неотвратимо, он нахлынул на Ирину счастливым душевным валом, захлестнул, накрыл. Она потеряла голову. Она ловила себя на том, что постоянно ищет его глазами, что постоянно всем своим существом повернута в ту сторону, где маячит или только должна показаться его высокая гибкая фигура. И самое сладостное в этой забытой игре было то, что она то и дело ощущала ответные волны, которые все чаще достигали ее, обдавали горячим, радостным жаром. Прикосновение его руки было для нее ощущением невыносимым, почти запредельным, она постоянно должна была держать себя в руках, чтобы не сказать при всех какую-нибудь глупость или пошлость или, чего доброго, не грохнуться в обморок. Но шила в мешке утаить было нельзя, над ними добродушно подшучивала вся экспедиция, и Ирина с ужасом понимала: ее репутация как ученого безнадежно испорчена.
По ночам она не спала, ворочалась на кошме, потом тихонько выходила из юрты. Ночи были уже холодные, с резким острым воздухом; аральские пески, голые и бескрайние, призрачно голубели под луной; огромная, как океан, тишина сводила с ума. Ирина стояла без мыслей, не смея двинуться, обхватив себя руками за плечи, пока холод не прохватывал ее всю, до костей, и тогда она тихонько возвращалась назад.
Объяснение произошло через неделю, перед отъездом Камала.
– Ты приедешь? – спросил он, сжимая руки Ирины в своих горячих тонких руках.
Ирина кивнула:
– Да. Только дай мне разобраться в делах, хотя бы прочитать отчеты, я ведь до сих пор ничего не успела.
Она пыталась работать и не могла. Ничего до нее не доходило, словно она была отгорожена от мира непроницаемой стеной. Синицын, закрученный хмурый человек в выгоревшей тюбетейке, поглядывал на нее иронически.
– Уезжали бы вы, Ирина Алексеевна, – сказал он ей однажды, – ну если уж вам так необходимо, берите отчеты с собой, Камал их мне потом переправит. Что же делать, бывают в жизни такие моменты… Даже я это понимаю, представьте. Ничего особенного. Мы еще с вами поработаем…
И Ирина умчалась на Усть-Урт.
Все было решено. Она не думала сейчас о будущем, не думала о том, во что конкретно выльется эта грянувшая над ними любовь, она чувствовала и понимала только одно: они с Камалом, этим сокровищем, этим чудом природы, должны быть вместе. И это был единственный путь к последующей трезвости, к раздумьям, рассуждениям, к нормальной жизни.
Осень была холодная, ранняя, народ разъезжался, работы в экспедиции сворачивались, но Ирине все это было безразлично, она была заворожена своей любовью. Сонные дни были одним сплошным страстным ожиданием ночей, когда становилось возможным все: полет, парение над пустыней, жаркие сбивчивые разговоры, мечты и безумные прожекты, когда она могла смеяться, плакать и щебетать, как птица, тело ее было лишено веса и материальности. Она была свободна, свободна! Но всюду, куда бы она ни оборачивалась, куда бы ни стремилась, – всюду был Камал, и это было прекрасно, потому что в нем-то как раз и крылась волшебная разгадка нахлынувшей на нее свободы, он был ее воздухом, ее жаром, ее восходящей силой, и каждое прикосновение к его сухой коже, похожей на ощупь на кожицу лука и горько пахнувшей осенью и пустыней, каждое такое прикосновение пробуждало в ней ответные силы, и силы эти были доселе ей незнакомы и безграничны.
Едва опомнившись через месяц, Ирина написала домой письмо, что она выходит замуж.
Глава 4
Прошло уже больше года, как Лиза вышла на работу, а дела ее налаживались медленно, старую тему наконец закрыли, как объяснила Света, – списали на покойного Валентина Федоровича, а новую за ней не сочли нужным закрепить, так она и делала – что прикажут. Ей не нравилось бессмысленное и суетливое течение ее рабочего дня, когда ничего от нее не зависело, ничего не требовалось, никто не спрашивал ее мнения, и оказывалась она тише и послушнее Светы, которая хоть и была лаборанткой, но зато кончала университет, знания у нее были свеженькие, и то и дело то один, то другой заворачивал к ней спросить, как идет эта реакция или может так быть, чтобы процесс пошел не туда, какой-то странный вышел опыт, а искать справочники и учебники неохота. И Светка бойко отвечала, нисколько не смущалась. А вот к ней, Лизе, никто не обращался, никто у нее ни о чем не спрашивал, только просили: возьми эти материалы, составь бумагу; или: возьми мне в буфете полкило сосисок. Так не могло, не должно было продолжаться дальше, надо было за что-то браться, но только вот за что? С вечера Лиза много думала об этом, разбирала разные варианты, принимала решения, а утром оказывалось, что ровно ничего не изменилось, и варианты ее никуда не годятся, и решение было принято несерьезное, и вообще все это выгодно было коллективу, потому что если не на нее, то на кого-то другого надо было спихнуть всю кучу мелких, неблагодарных и скучных дел, от которых даже Света ловко умела отвертеться, а она, Лиза, не сумела, по собственному желанию забралась в них по уши. Надо было идти к заведующей лабораторией и о чем-то просить. Теперь эту должность занимала сдавшаяся после длительной осады Марина Викторовна, женщина знающая и ироническая, перед которой особенно не хотелось предстать Лизе в невыгодном свете. В качестве заведующей Марина Викторовна повела себя своеобразно, от кабинета отказалась, сразу пустив изолированную келейку Валентина Федоровича под окрасочную камеру, которая давно и мучительно нужна была лаборатории, сама же осталась за старым своим столом в общей комнате и вообще делала вид, что ничего не произошло, никакое она не начальство и все это шуточки. Но дела заворачивала она круто, по-своему, ни с кем не советуясь, и, посмеиваясь, поглядывала из своего угла, ожидала реакции. А реакции никакой не было. Умные, тертые во всяких водах, пройдошистые женщины тоже затаились, ждали, насколько все всерьез, устойчивы ли перемены и стоит ли перестраиваться, а пока тоже делали вид, что ничего не переменилось. Лизу-то все это мало касалось, но момент для разговора был неприятный, и соблазн отложить решение был слишком силен. Так все и шло, пока Марина Викторовна однажды сама не остановила ее, прихватив за рукав:
– Ну так что, Лиза, будем работать или дурака валять?
Лиза вспыхнула, но тут же сдержала себя.
– Работать, Марина Викторовна. Я давно хотела поговорить с вами.
– Вот бы и поговорили…
– Как-то неудобно было начать…
– Бездельничать неудобно, а работать всегда удобно. Вы какую хотите тему, трудную или диссертабельную?
И снова Лизе пришлось собраться, прежде чем ответить, – не хотелось ей опять совершить ошибку и выглядеть глупо перед этой уверенной в себе, насмешливой женщиной.
– Мне не кажется правильной такая постановка вопроса, – как могла спокойнее сказала она, – да, мне хотелось бы взять именно диссертационную тему, но при том условии, конечно, чтобы она была полезной, интересной всем, чтобы ее потом можно было внедрить в производство…
– Мало ли кто чего хочет! – вздохнула Марина Викторовна. – Такие темы на дороге не валяются. А я думала, вы скажете, что вас это не интересует…
– Наоборот – интересует.
– Вы что, всегда говорите правду или у вас это случайно вышло?
– Да нет, стараюсь всегда – правду.
– Жаль, что я этого раньше не знала.
– Почему?
– Ну, может быть, что-то у вас сразу по-другому бы пошло. Мне кажется, знаете, в чем ваша беда, Лиза? Слишком хорошо вам живется, вот что. Какая-то вы не такая, как все. У нас все больше неудачницы подобрались – старые девы, брошенные жены, даже одна есть несостоявшаяся певица, у нее, знаете, характер застенчивый, в училище пела, а на сцене не могла, голос со страху пропадал, вот и переквалифицировалась. И знаете, что самое интересное? Никакой застенчивости не осталось, как рукой сняло, ездит в командировки, горло дерет, как все, хороший работник. Неужели не знаете, о ком я говорю? Странно, очень странно. Вот я и говорю, горя вы не знали, а счастливая женщина работе отдаваться не может, слишком мало места в ее жизни занимает работа, разве что только честолюбие какое-нибудь неуемное, но вы, по-моему, не из этих!
– А вы? – спросила Лиза. – Вы почему работаете? У вас же все хорошо: муж – доктор наук, сын, трехкомнатная квартира… Правильно я осведомлена?
– Ох, Лиза! С ума с вами можно сойти! Ну что вам сказать? Я и правда работу свою люблю, а спросите, за что, – сама не знаю. Ну что хорошего – с утра до вечера крутишься как проклятая, мысли мужские, и ведешь себя как мужик. Я вот специально волосы не стригу, утром как косу начну заплетать, так и вспомню, что все-таки я женщина, и так, знаете, даже приятно станет. Кстати, муж у меня инвалид, на двух костылях ходит, неужели не знали? Или прикидываетесь? Только зачем вам это надо, не пойму…
– Извините меня, я не знала. Только, мне кажется, все это совершенно не имеет отношения к делу. Просто вы, наверное, правильно выбрали профессию. Вот вы говорите, что все вы здесь невезучие, а по-моему, наоборот, вы все попали в точку, а я одна ошиблась, поэтому я вам и кажусь чужой, вот и вся разгадка. И семейные дела здесь совсем ни при чем, я и правда мало что знаю. Я не любопытная.
– Очень, знаете ли, редкая черта. Может быть, вы просто равнодушная?
– Надеюсь, я просто ненавязчивая, а впрочем, может быть… я не знаю.
– Интересный у нас с вами получился разговор. Скажите, если вы не любите свою работу, зачем тогда попросили тему? Хотите обзавестись степенью, чтобы с паршивой овцы хоть шерсти клок?
– Зачем же так? Просто я считаю – если уж работать, так как следует, в полную силу. Почему же – не диссертация? Я в этом ничего плохого не вижу.
– Я тоже. – Марина Викторовна вздохнула, крепко растерла ладонями большое усталое лицо. – А вы, оказывается, крепкий орешек, Лиза. Получается, зря я вас взялась воспитывать?
– По-моему, зря. Честно говоря, мне кажется, что воспитывать взрослых людей вообще неудобно, да и ни к чему. Никогда не знаешь, кто кого, в сущности, воспитывает. Вот меня, например, больше всего воспитывала моя младшая сестра, только у нее это и получалось, это не от нее и не от меня зависело. Просто я, наверное, неблагодарный объект для воспитания. А с вами, знаете, еще хуже, у меня на начальство ужасная реакция, какой-то взрыв чувства собственного достоинства, так что вы меня, пожалуйста, извините.
– Да ради бога! Тяжело вам будет, Лиза. Хотела вам помочь, да не знаю как. Ну что же, давайте тогда поговорим о делах?
– Давайте. Это, наверное, будет лучше.
И они поговорили. И постепенно нашелся между ними какой-то новый язык, спокойный, деловой. И тема для Лизы тоже нашлась, задел по ней уже был, начинать с нуля не приходилось, и Лиза ходила не то чтобы довольная, но удовлетворенная. Она понимала, что победила не только себя, но и предубеждение против себя. Одно только огорчало ее в этом начинании – то, что Женя отнесся к ее планам равнодушно, без всякого интереса, только спросил:
– Стоит ли с этим связываться? Ну, смотри сама…
И всё. Это показалось Лизе и странно, и обидно, ведь своей-то работе он придавал очень большое значение, увлекался, горячился, нервничал, почему же тогда он не хотел понять ее? Почему ее никто не понимал? Ведь раньше так не было. Что изменилось за эти годы? И чего она, в сущности, хочет? Быть как все или хранить свою обособленность, свое «я»? Она запуталась в трех соснах. Значит, она не такая, как все? Какая же она? И хорошо это или плохо – быть не как все? Чего ей не хватает? Работы? Вот и работала бы, что ей мешает? Тема у нее теперь была – по лужению вкладышей, и даже срок был оговорен и проведен через ученый совет, но от этого мало что изменилось, и на душе делалось все неспокойней. Может быть, все дело в Жене, в том, что он совсем не думает о ней? И больше никаких сложностей нет? Неужели он ее не любит? Женя – ее?
Так впервые однажды ночью пришла к ней эта простая и очевидная мысль. И что в ней вначале показалось таким удивительным? Нет, конечно, это было неточно сформулировано, он ее по-своему любил и привязан был к ней и к Оленьке, но что-то в этой любви было не то и не так, как ей бы хотелось, чего-то в ней не хватало. Чего? Какое место она вообще занимает в его жизни? На этот вопрос было страшно себе отвечать, потому что она знала – почти никакого, он был весь в себе, Женя, он ее почти не замечал.
Вот так новость она себе открыла! Вот так напридумывала страхов только оттого, что он обмолвился одной неудачной фразой. Она лежала в тишине, в темноте, без сна, боясь пошевелиться. Было жарко, тоскливо, страшно. Было одиноко. Лиза пыталась думать о самом безопасном, о самом хорошем и добром – об Оленьке, но мысли не слушались, упрямо текли в другую сторону, словно нарочно выискивая потери, раны, утраты. И с мучительной, не остывшей еще болью опять стала думать Лиза об отъезде Ирины, о ее странном, необъяснимом поступке. Четко, почти дословно выплыло в памяти ее письмо:
«Дорогая, милая моя Вета!
Хочу рассказать тебе о радостном событии, которое произошло в моей жизни. Я встретила человека, без которого не мыслю своего существования. Не бойся, сестренка, это не очередной мой „вывих“, на этот раз все обстоит по-другому. Он действительно заслуживает самого лучшего, может быть, даже большего, чем я могу ему дать. Для ясности сообщаю тебе формальные данные. Он на два года старше меня, зоолог, кандидат наук, говорит без акцента на четырех языках и еще три знает, как нам с тобой не снилось. Сказать, что он красив, – этого мало, он прекрасен. Это самый умный, сильный, тонкий и цельный человек из всех, кого я встречала в жизни…
(„А папа? А Рома? А мы все?“ – смятенно думала Лиза, каждый раз на этом месте ее сковывал ужас. Неужели она потеряла и Ирку? Этого не может быть!)Вета! В нашей жизни было множество предрассудков, и один из них – эгоцентризм. Слишком часто нам казалось, что мы – это и есть центр вселенной. Только встретив Камала, я поняла, как глубоко мы заблуждались, какими порой мелкими страстями жили. Одним словом, ты, наверное, уже поняла, что единственное „но“, которое стоит между мною и моим мужем, – это то, что он не русский. Я не скрываю от себя, что все это непросто, но ведь не страдаем же мы, черт возьми, оттого, что мы не англичане, не французы, не шведы! Мы то, что мы есть, и любим друг друга…»
Дальше еще было пять страниц Иркиного размашистого детского почерка с множеством восклицательных знаков, но какое это все имело значение? Лиза понимала из этого возвышенного сумбура только одно: Ирка уехала, Ирки больше нет рядом, ей, Лизе, не на кого опереться, некому пожаловаться, не с кем поплакать.
И вот она плакала одна, ночью, стараясь не издать ни звука, не выдать себя, не открыть свою тоску. Сдержанность – это забытое качество всякого воспитанного человека – была теперь ее единственным оружием и единственной защитой. «Горя вы не знали…» – сказала ей глупая Марина Викторовна с глупой самонадеянностью. Гордится она, что ли, своим горем как некоей избранностью? Подумаешь – костыли! А вот она, Лиза, от своего горя отказалась бы в один миг, пусть бы оно все исчезло, словно не было его, как в сказке, и снова она была бы сонной девочкой с золотыми кудряшками в прозрачном цветном воздухе детства. И снова были бы у нее добрый, любящий, непедагогичный папа и Рома, окружавший ее волшебной сферой поклонения и нежности. И пусть бы он был хоть на костылях, она постаралась бы, постаралась бы быть хорошей, не такой, какой была тогда на самом деле… Но что это? А где же место Оленьки и Жени? И она еще смела обвинять Женю в том, что он ее не любит! А она-то сама, что же она? Нет, две жизни текли в ней рядом, как две реки, и не смешивались, не могли. И в этой жизни, которую проживала она теперь на самом деле, в этой мрачной и суровой жизни не было у нее никого ближе и дороже этих двоих. Осторожно повернулась она на бок и увидела Женю, который спал в смешной позе бегущего мальчика, и всмотрелась в его лицо, уже ясно видное в сером свете начинающегося утра: твердые скулы, даже во сне сведенные брови, крепкий упрямый рот. Женя вздохнул и, не открывая глаз, спросил:
– Что, не спится? Спи. Все будет хорошо…
И голос у него был такой ясный, даже будничный, словно он и не думал спать, а всю ночь ее караулил, охраняя от мрачных мыслей и глупых скороспелых выводов. Милый Женя! Чего она хотела от него? Чего ей не хватает? Лиза потянулась, вздохнула, свернулась клубочком, сон был уже совсем рядом, утренний, облегчительный, блаженный. Она закрыла глаза и тотчас увидела себя на белом песке в солнечный ясный день, все взблескивало и сверкало кругом, и Ирка бегала с кем-то вдали по кромке воды. Лиза так хотела рассмотреть их обоих получше, но невозможно было, солнце мешало, било ей в глаза, только черные силуэты были видны. «Неужели он негр? – в изумлении подумала Лиза. – А в Африке, оказывается, так хорошо, какое веселое солнце…» Вдруг откуда-то вылез Сергей Степанович в белом халате и потащил ее танцевать. Она отпихивалась от него сначала со смехом, потом с досадой, но он не отставал, все тащил и тащил ее и вдруг сказал Жениным голосом: «Вставай, Лизок, на работу опоздаешь». Она открыла глаза и сразу увидела дождь, серый, затяжной, унылый, он стекал по пыльным стеклам. А рядом на кровати, свежевыбритый, веселый, сидел Женя и тормошил ее за плечо.
– Ну, что это у тебя была за ночь раздумий? Смотри, а то начну кормить тебя снотворными.
– Что, уже поздно?
– Поздно, – сказал он и вдруг обнял ее, прижал к себе.
И сразу Лиза все вспомнила – по тому, как замерла, по тому, как потянулась к нему вся: да она же любила его, любила! Какая глупость была – все эти детские ночные рассуждения: любит – не любит, уважает – не уважает, да вот же она, любовь, в коже, в руках, в губах, в том, как глаза сами собой застилаются тьмой.
– Женька, ты меня любишь?
– Угу.
– А почему же ты тогда совсем, ни капельки, не интересуешься моей работой?
– А потому что я люблю не работу, а тебя. И потом – я интересуюсь. Вот, например, если бы я сейчас тебя не разбудил, ты бы опоздала. Ну что, правда или нет?
– Правда. – Она помолчала. – Женя, а ты когда возьмешься за диссертацию?
– Я? – Он повернулся и удивленно посмотрел на нее. – А, собственно, кто тебе сказал, Лизок, что я собираюсь заниматься этой чепухой?
– Почему же чепухой? – Лиза растерялась. Вот и опять она что-то перепутала, чего-то не поняла. Целый день она думала об этом, все валилось у нее из рук. Она должна поговорить с ним серьезно, разобраться, понять. Нельзя же жить рядом и настолько не знать друг друга. Но разговор начался опять не так.
– Я боюсь, Лиза, что произошла какая-то ошибка. Может быть, ты приняла меня за кого-то другого? Но пойми, я не твой папа и не твой Роман, я другой. Если ты искала во мне степеней, успехов, свободных денег, красивой жизни, то ты ошиблась. Я всего этого не хочу. Я рад, что ты так горячо любишь науку. Но о моей, медицинской, науке ты имеешь хотя бы отдаленное представление? Нет? Представь себе, я тоже. Потому что не уверен, что она вообще существует. Как ты не понимаешь, что мы еще близко к науке не подходили! Это за тысячелетия ее существования. То, что мы называем наукой, – это обыкновенные заводские испытания. Это так – тебе дают препарат, или инструмент, или прибор, ты это данное испытываешь на каком-то там количестве объектов и пишешь отчет или каким-нибудь боком участвуешь в создании этих самых инструментов, приборов и лекарств. Разве это наука? Да на любом заводе или даже в армии все это делается постоянно, ежедневно, и никому в голову не приходит величать это наукой. Наука есть наблюдение за процессом, вскрытие его сущности, глубинных, основополагающих закономерностей. Ты согласна со мной?
– Нет, не согласна. Зачем делать из науки что-то божественное? Люди делают, что могут. Разве они виноваты, что медицина сложнее других наук? Это трудно, да, ужасно трудно. Ну так что же? Сдаться?
– Нет. Называть вещи своими именами. Медицинская наука – дело экспериментаторов, меня она не касается, у меня есть медицина, и вот эту медицину я глубоко уважаю. Наука – пища только для ума, а медицина питает мое нравственное чувство. Я горжусь собой, понимаешь? Я чувствую себя полезным, я облегчаю страдания людей. Наука, может быть, в принципе делает то же, но не сама, а опосредованно – через меня! И меня это вполне устраивает.
– Я не понимаю тебя, Женя. Это какая-то слепота. Ну при чем здесь все это? Ведь есть же вокруг тебя профессора, доценты, ассистенты, а ты из одного только принципа на всю жизнь останешься маленьким скромником, окруженным многочисленным начальством?
Женя хмыкнул.
– В этом ты, может быть, и права, находиться внизу не очень-то приятно. Но что же делать? Я – оперирующий хирург, и мне это нравится. Что я должен сочинять? Новый шов? Использование какого-нибудь там лоскута, чтобы потом всю жизнь доказывать, что я прав, и совать его где надо и где не надо? Да я ведь и так на каждой операции все сочиняю заново, это получается само собой! Вот это и есть творческая работа! И на сочинение чепухи мне просто-напросто жалко времени.
– Ах, время все равно уходит. Ты заметил, тебе пошел уже тридцать седьмой?
– Наверное, ты несчастлива со мной, Лизок. Я думаю, в этом все дело. Я не даю тебе того, к чему ты привыкла. Пойми меня, не потому, что не хочу, не могу, так я устроен. Конечно, мало денег, и работаю я как лошадь, днем и ночью, и голова вечно занята. Я говорил тебе, я плохой муж, но я не умею иначе. Что же мне делать?
– Может быть, учиться? – Лиза смотрела на него серьезно, отчужденно. – Учиться замечать меня, приспосабливаться ко мне, находить общую – среднюю – платформу, на полдороге между мною и собой. Чем ты гордишься? Что ты такой, какой ты есть? А я какая? Ты думал об этом? У тебя на это нет времени? На самое главное в жизни, в твоей жизни, на твою жену и твою дочь? А как же твое нравственное чувство? Оно молчит? Конечно, я понимаю, диссертация – это твое дело, но время – оно принадлежит и мне. По праву и по закону. Я хочу жить, общаться с тобой, разговаривать, хотя бы так, как сегодня, хотя не очень-то веселый у нас получился разговор…
– Может быть, ты и права, даже наверняка права. – Он ходил по комнате взад и вперед в голубоватом свечении сумерек, света они так и не зажигали. – Конечно, я эгоист, я тоже когда-то хотел иначе, но жизнь отучила меня от этих семейных нежностей. Даже у Юрки не помню когда уже был. А ведь его я обделил больше всех…
И снова замерло Лизино сердце. Кто это, с кем говорила она сейчас? Неужели это и есть самый близкий ей человек? Единственный на всем свете и навсегда? О чем он думает? Что она знает о нем? Как странно, как одиноко!
Они молчали. В открытое окно доносились привычные летние звуки, шум проносящихся мимо машин, шорох шагов, тихий смех. Там шла чужая жизнь, отдаленная от них так, словно она текла в другой галактике, и странным казалось Лизе поверить в ее реальность. А ведь действительно – кругом жили люди, знакомые и незнакомые, и Женин сын Юрка где-то сейчас, может быть, вспоминал отца, и другие события происходили. Москва кипела, жила, и здесь, под окном, совсем рядом, влюбленные шли в кино, бабушки прогуливали детей, проносились на машинах занятые люди. Что отделяло их, почему они были одни?
Она подошла к выключателю, зажгла свет. И сразу все вернулось на место, знакомая комната, привычный быт. И все страшное ей только померещилось, просто расходились нервы. Она посмотрела на Женю: нет, и в его лице не было ничего особенного, ни раздражения, ни отчуждения, все это ей показалось.
В конце августа привезли Оленьку, и все сразу изменилось. Она так замечательно выросла за лето и стала уже не младенчиком, а маленькой, беленькой, курносой девочкой, которая без конца болтала звонким голоском, смеялась и вертелась перед зеркалом. Играя с ней, Женя совершенно менялся, становился другим. Самым любимым их развлечением была игра на рояле в четыре руки. Поднималась страшная какофония, грохот, визг, оба они что было мочи лупили по клавишам. С Оленькой в дом вернулась жизнь.
Но никакие семейные радости не отвлекали Елисеева от его забот. То, о чем они говорили с Лизой, было гораздо серьезнее, важнее, он думал об этом постоянно. Все менялось вокруг, его любимая хирургия раскалывалась, на глазах расползалась на части, ее растаскивали по кускам. Львиную долю отхватили анестезиологи, они теперь настаивали на том, что состояние больного вообще не касается хирурга, его дело будто бы только кроить и шить. Если больной выживал и шел хорошо, это была их заслуга, если же начинались осложнения, оказывался виноватым хирург. При такой постановке дела хирургия становилась банальным портняжным ремеслом. Переливание крови теперь тоже обособилось, антибиотиками занималась отдельная лаборатория, диагностику оттяпали себе рентгенологи; что же, черт возьми, осталось им? А ведь это было только начало. Стремительно шла специализация, сосудистые хирурги отделялись от сердечных и рубились с урологами за обладание почкой; акушеры, войдя в брюшную полость и встретив малейшее осложнение, в панике вызывали хирургов, потому что не желали прикасаться ни к чему в животе, кроме того, с чем привыкли иметь дело. Это была катастрофа. Титаны, великие хирурги, которые могли оперировать все – от маковки до пят, и все с одинаковым блеском, – отходили в прошлое. Они не только не находили себе достойных преемников, дело обстояло куда сложнее, теперь они не могли уже выдержать конкуренции. Молодые хирурги, вгрызаясь когтями и зубами в какую-то одну узкую область, становились в этой области недосягаемыми и тем разрушали, дробили славу великих, нанося им непоправимый моральный урон. Титаны становились ненужным анахронизмом. И это тоже было еще не все. Стирался с лица земли целый слой безвестных, но блестящих сельских врачей, которые прежде тоже могли все, и не потому, что были они так уж удачливы, а потому, что жизнь их к этому вынуждала, не было у них другого выхода, как только все брать на себя. И они брали, и были среди них такие, что могла бы позавидовать им и столица, потому что талантами никогда земля не скудела. Но вот нерентабельными стали сельские больницы, невозможно их было насытить современным оборудованием, препаратами, кадрами, прошедшими должную специализацию, и стали их закрывать одну за другой, выкидывая с насиженных мест растерявшихся, несовременных, безымянных корифеев, и они исчезали, растворялись, превращаясь в запуганных статистов, а то и вовсе в покрытых сивой щетиной пенсионеров. Зарастали крапивой дорожки, ветшали кирпичные особнячки и рубленые пятистенки, а в новых типовых больницах хозяйничали уже новые кадры, неопытные и самоуверенные, потому что им и думать-то ни о чем не надо было, сложный случай – вези выше, вот и вся премудрость. И не было ничего страшнее такой постановки дела, потому что она создавала естественный, законом разрешенный, дефицит качества, районная больница становилась хуже областной, областная – хуже республиканской и так далее, и так далее…
Обо всем этом без конца говорили и спорили в ординаторских, но ни до чего доспориться не могли, что было делать? Никто не выдумывал этих процессов, их породило время. Елисеев думал: неужели хирургический идеал обманул его и не принесет желанного удовлетворения, уверенности в себе и в правильности выбранного пути?
К нему приходил знакомый парень из анестезиологии, сманивал к себе.
– Ну что ты здесь имеешь, сколько самостоятельных операций в неделю? – говорил он. – Вот то-то. А у нас простор. Хочешь пять операций в день? Будешь иметь. Нам нужны такие парни, с характером. И перспективы у нас – сам понимаешь! Новая наука, да какая – философия современной медицины! За что ни возьмешься – готовая диссертация. Ну?
– Надо подумать, – хмуро отвечал Елисеев и честно и долго думал, пока не решил: нет, это не для него. Сам он не знал почему, но не для него. Мучило его чувство верности и долга, не мог он изменить хирургии. И вдруг – новое событие: отделение по пересадке органов. И опять его звали. Елисеев разозлился: да что же это такое, неужели он не на месте? Что все он да он? И снова он отказался, а потом не спал ночи, злился: а не свалял ли он дурака, ведь какое дело, захватывающее, новое, свое!
В лабораторию искусственного сердца его уже и не звали, все привыкли, что он общий хирург, и все. Точка. Он успокоился. Оперировал с удовольствием все, что удавалось урвать; он не подбирал себе тематических больных, как другие, и на него постепенно пошел целый поток операций, неинтересных для других хирургов, случайных, редких. Он слыл чудаком, но чудаком полезным. А это было уже кое-что. Его уже знали в клинике, и скоро пошла добрая молва: грыжи, аппендициты, операции на щитовидке – только к Елисееву, отличные руки, работает без фокусов, чисто, добротно, больных выхаживает, не гнушается ни клизмой, ни судном, приезжает в выходные и по ночам. Даже лицо у Елисеева изменилось, он не ошибся, все было правильно.








