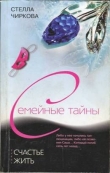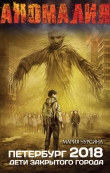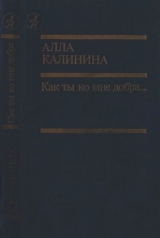
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц)
Глава 2
Женька проснулся под теплым овчинным тулупом. Было еще совсем темно, но в маленьком черном угловом окне уже играли красные летучие отблески огня – бабушка топила печь. Он ворохнулся на лавке неосторожно, и тяжелый тулуп сполз на пол.
– Баб! А пышки поставила? Успеешь испечь-то?
– Одна я, – грустно сказала бабушка, – и скотину покормить, и прибраться, и сготовить, и за тобой присмотреть. За водой бы хоть сходил на колодезь.
– Мне нельзя, – нарочно хрипло объяснил Женька, – я хворый.
– О-хо-хо-хо-хо, – вздохнула бабушка, кочергой загребая в печке уголья, развернулась неслышно, мягко и начала ухватом уставлять в печь горшки. – Ну попей молочка, – сказала она, – вон ломоть каравая остался вчерашний.
Женька натянул штаны, сунул ноги в валенки и поплелся в сени – ополоснуться. Он сразу замерз, и сделалось ему так тоскливо и скучно от этой зимней тьмы, холода и своей заброшенности здесь, в деревне, где никак не мог он обжиться.
Он вернулся в избу и прижался щекой, животом, ладонями к теплому шершавому боку печи.

Окна только чуть заголубели сквозь намерзшие узоры внешних рам. Пора уже было идти, до школы топать и топать. Но Женька задумчиво поскреб себе затылок. «Вообще-то можно бы и остаться», – лениво подумал он, ведь он был второгодник, и учиться по второму разу после города было ему нудно и неинтересно. Но дома-то сидеть с бабушкой еще скучней.
Он услышал, как в сенях скрипнула дверь и там кто-то затопал. Неужели уже Васька пришел? И правда, это был Васька Нос, веселый и румяный с мороза.
– Ну идешь, што ль? – спросил он, громко хлопая рукавицами.
Они вышли по узкой тропке, прорытой в синих сугробах. Было холодно, изо рта валили круглые клубы пара. Деревня просыпалась, слабо сочились желтеньким светом окошки, тянулись к небу жидкие серые дымы, а над фермой висел блестящий медный серпик с зеленой звездой, только весь перемерзший.
Женька жил здесь давно, с весны, а все никак не мог привыкнуть. Он был из маленького, но все-таки настоящего города, с мостовыми, автобусами и магазинами, со старинной красивой школой, библиотекой и настоящей большой больницей. С этой-то больницы все и началось. Однажды после школы он играл во дворе, взмок, очень хотелось пить; пока дошел до оврага, до дому, несколько раз приложился Женька поесть снежку, застудился и слег. Обложило, заболело горло, начался жар. Женька бредил, метался, а когда очнулся – уже был в больнице. Маленький, веселый, хитрый доктор Иван Нарциссович сказал ему, что он чуть не умер, а теперь у него осложнение на сердце и придется пролежать в больнице долго. В больнице Женьке очень нравилось. Здесь было много книжек и игрушек, в которые дома в свои уже полных десять лет играть бы он постыдился. А здесь как будто бы было можно. Вечерами приходили родители, приносили гостинцы – то моченых яблок, то леденцов на палочке, то постного сахару.
Мама очень переживала, губы у нее тряслись, и она все гладила, и гладила, и гладила его по голове, пока ему не делалось щекотно и неприятно и волосы не начинали сами собой ерошиться. И тогда он говорил:
– Да ну тебя, мам! Будет!
А папа один раз принес ему сделанный из деревянных планочек аэроплан. И с этим своим аэропланом Женька целыми днями валялся животом на половичках и играл с малышами в войну. С малышами играть ему было интересно, потому что можно было ими командовать.
Приходил доктор, хитренький, веселый, разговорчивый, а иногда немножко пьяный. Он слушал Женьку деревянной трубочкой, выстукивал коротенькими белыми мягкими пальцами его худые ребра и узенькие торчащие лопатки, а потом еще слушал – ухом, будто на несколько мгновений засыпал. Эта игра повторялась часто и все никак не могла кончиться. Наконец Иван Нарциссович услышал, наверное, то, чего добивался, и перестал слушать Женьку.
– Поедешь на годик к бабушке в деревню, – сообщил он, – это тебе, голубчик мой кисонька, будет очень полезно.
И Женьку увезли. Родители приезжали к нему летом. Оба они работали на швейной фабрике, отец бухгалтером, а мама швеей-мотористкой, и у них был отпуск. А потом они уехали, и Женька остался с бабушкой. Главным другом его здесь был Васька Новский, высокий, беленький, носатый, отчего его благородная фамилия превратилась в не очень-то приятную кличку. А Женька так и остался Женькой – Елисеевых здесь было полдеревни.
За зиму он поздоровел и окреп, одна только была у него беда – он не рос. Другие ребята, хоть и моложе его, ходили в смешных коротких штанах, руки вылезали из обношенных узких рукавчиков, а Женька оставался все такой же – маленький, аккуратненький, точно по своей одежонке, только что поплотнее, посбитей, чем раньше.
Приближалось лето. Женька наконец был успешно переведен в четвертый класс. Начиналась самая приятная в деревне летняя веселая пора, когда можно было удирать всей компанией на речку, ловить рыбу на самодельные крючки, а вечером увязаться за большими ребятами жечь на высоком берегу костры и слушать разговоры. Но разговаривать по-настоящему интереснее всего было все-таки с Васькой. Удивительный он был выдумщик.
– Знаешь, Женьк, – сказал он ему однажды, – а я когда вырасту – художником стану, как мстерский дядя Мирон.
– Это еще зачем? – удивился Женька.
– Понятное дело, коробочки расписывать.
– Какие еще коробочки?
– Обыкновенные, ай не видал? Они, конечно, вначале только обыкновенные, а потом делаются все черные, ясные, блестят, и по ним узоры разные, какие хошь! Какой узор художник удумает, такой и нарисует. Здорово?
– Здорово! – сказал Женька. – И машины там всякие можно? И пушки, и аэропланы?
– Все можно!
– А выйдет у тебя?
– Выйдет! У них там школа особая есть, вот меня и выучат. Хочешь, сходим в выходной к дяде Мирону, обсмотрим все?
– Больно далеко, – сказал Женька.
– А мы пораньше выйдем, по зорьке.
– Ну ладно, – согласился Женька.
Они долго шли по туманным росным лугам, по лесным тропинкам и полевым дорогам, пока не завиднелись впереди на холмах первые домики Мстеры.
Здесь, в Мстере, и застала их война. Они вернулись в деревню запыленные, перепуганные, голодные.
Бабушка металась по избе, собирая Женьку в дорогу.
– Ты давай-давай, внучок, – бормотала она, – отца-то и не увидишь, не распростишься.
– Как это не увижу? – удивлялся Женька. – Что ж он, без меня уйдет?
Бабушка оказалась права, отца Женька не застал дома, он был в казармах и дожидался отправки на фронт, Война уже неслась по своим рельсам, внезапная, неостановимая и грозная.
Первое, с чем пришлось столкнуться Женьке, был госпиталь. Он был в той больнице, где еще совсем недавно Женька, лежа на животе, играл в аэроплан. И хитренький веселый старикашка Иван Нарциссович стал вдруг военврачом и деловито носился по коридорам, тесно заставленным койками. И на этих койках, забинтованные, заросшие, злые, лежали, стонали и хрипели солдаты.
Женька сам не знал, зачем сюда приходил, но приходил часто. Он становился возле кровати, невысокий, нахохленный, серьезный, не в силах отвести взгляда от этих лиц, от бинтов с запекшейся черной кровью.
– Дяденька, может, надо чего? – бубнил он тихо.
Иногда ему давали задание, иногда прогоняли. А Иван Нарциссович, однажды заметив его, рассеянно обнял за плечи и спросил:
– Ну как дела, голубчик мой кисонька, как сердечко?
– Хорошо, – сказал Женька и угрюмо высвободился, – здоровый я.
Ночами, лежа в своей кровати в маленьком домике над оврагом, он все ломал себе голову, как ему попасть на фронт, как сделать так, чтобы скорее перескочить через свой возраст, через свой дурацкий несолидный рост и оказаться там, на переднем крае, и бить проклятых фрицев, и отдать свою жизнь и всю свою кровь до последней капли.
Так он и жил. Извелась, почернела на работе мать, на фронте без вести пропал отец, а он вместе с другими ребятами учился, рыл траншеи, сажал картошку, дежурил на крышах и обучался военному делу.
Война откатывала все дальше, все легче было надеяться и все труднее терпеть, но в госпитале раненых прибывало и прибывало, словно там, вдали, была огромная фабрика по их производству, а не война. И хитренький старичок Иван Нарциссович вдруг совершенно неожиданно умер от сердечного приступа.
Его хоронил весь город, и все плакали по нему, по двум его недавно погибшим сыновьям, по тысячам других сыновей. А жена его, тетя Стеша, бледная, в черном страшном платке, все шептала, качая головой:
– Голубчик ты мой, голубчик мой кисонька!
Война кончилась, а об отце все не было никаких сведений. Женя окончил седьмой класс. Он был все такой же небольшой, ладный, темно-русый, с узкими серыми глазами на хмуром мальчишеском лице. Учился он неплохо, но больше нажимал на точные науки, с литературой же, историей и другими такими вещами не очень-то у него ладилось, он был немногословен и упрям.
– Ну Татьяна, ну Онегин, чего рассусоливать-то, – тихо бубнил он себе под нос, – и так все ясно.
Он хотел скорее вырасти, скорее уйти во взрослую настоящую жизнь, но мама сказала ему:
– Женя, что теперь-то школу бросать, война кончилась, отец придет – что скажет? Он ведь у нас ученый был. – Она уж и сама не знала, ждет отца или нет, все у нее перепуталось, но Женю никак нельзя было упускать. – Учись да учись в такое-то время, – твердила она, – уж как-никак проживем.
И Женя остался в школе. Он хорошо знал теперь, чего хочет и куда будет пробиваться потом – в военное училище, обыкновенное, пехотное, строевое, без всяких там штучек. Его увлекала не техника, он искал другого – простоты, ясности отношений, дисциплины и строгости к себе. Он жаждал бескорыстия, нравственной чистоты и служения, и армия казалась ему единственным подходящим для этого местом.
Весной сорок восьмого года он получил наконец аттестат зрелости и послал документы в пехотное училище. Его вызвали.
– А что, Елисеев, – спросил его молодой черноглазый капитан, – отец-то твой где?
– Пропал без вести на фронтах Отечественной войны.
– То есть как это – пропал? – удивился капитан. – Откуда же ты об этом узнал?
– Извещение было. – Женька смотрел так же прямо, не понимая, куда клонится разговор.
– А вы-то с матерью, наверное, искали, расспрашивали?
– Нет, – сказал Женька, – ждали просто, да не дождались.
– Так-так-так-так…
Они молчали, Женька тянулся в стойке «смирно», капитан рылся в бумагах.
– Тут вот какое дело, Елисеев, – сказал наконец он, – оказался твой отец изменником, сдался, понимаешь ли, в руки врагу.
Женька шатнулся, на мгновение потеряв равновесие, серые глаза его блеснули, сузились еще больше, желтая бледность поползла по скулам.
– Неправда, – хрипло сказал он, – не может этого быть. Он в первый день ушел на войну, даже меня не дождался. Он воевал, погиб, а вы про него говорите такое…
– Говорю, говорю… – Капитан все так же задумчиво улыбался. – Говорю потому, что жив твой отец. Вот видишь – Елисеев Иван Митрофанович, девятьсот первого года рождения. Правильно? – Он повертел каким-то сизым листочком. – Жив, а ты вроде и не рад?
– Покажите!
– Ну вот еще! – засмеялся капитан и глянул на Женю, как будто он сказал невесть какую чушь. – Показывать не положено.
– Где же он теперь?
– И этого я тебе, Елисеев, не скажу. Отбывает, вот и все тут. Так что уж не обессудь, забирай свои документы, сам понимаешь – не время.
Женька кивнул, постоял еще немного, раздумывая, и спросил хрипло, с усилием:
– А где я могу узнать про него?
– Не знаю, не знаю, сам соображай, скажи спасибо, что я это-то тебе сказал, мог и не говорить, правда? Мог выслать тебе документики по почте, и гулял бы ты… А что, мать замуж еще не вышла?
И снова Женька побледнел.
– И что вы все смеетесь? – с ненавистью сказал он. – Я еще вернусь сюда, вот увидите, – и он вышел, твердо прикрыв дверь.
Отца освободили через два месяца. Он пришел худой, заросший грязной седой щетиной, с налившимися кровью воспаленными глазами и бешеный.
– Не отбывал я! – кричал он надсадно, мотаясь по комнате как затравленный волк. – Не отбывал, а подвергался проверке и перепроверке… Проверяли меня! Почему не сдох? Почему меня немцы не расстреляли? Почему контуженый, без сознания сдался в плен, а не застрелился, к чертям собачьим? И если под пулями уцелел и у немцев не сдох, то не надо ли меня сейчас на всякий случай пощупать?
– Ваня, не трави ты себя, Ваня, – рыдала мать, – живой ведь все-таки выбрался, простили тебя, медали вон вернули…
– Да за что меня прощать, за что? Я медали честно заслужил, а в том бою – так, наверное, и орден. Был бы я мертвый – так наградили бы меня посмертно. А я, дурак, жив остался, чего захотел!
– Полно, Ваня, что ты? Вон сколько солдат-то вернулось и живых-здоровых, и раненых, и всяких. А кто не вернулся – так разве ж лучше?
– А может, и лучше, – говорил отец, – может, и лучше. – Он стучал по лбу сжатым кулаком, скрипел зубами. – Дай-ка, мать, стаканчик, пить хочу, будь оно все трижды проклято!
Он много и тяжело пил эти дни, а напиваясь, успокаивался, засыпал и просыпался тихий, почти спокойный. Осенью он уехал в деревню, к бабушке, и застрял там надолго, до самой зимы. И снова Женя с матерью остались вдвоем в старом домике на склоне оврага, заросшего липой, черемухой и ивой, оврага, который так мешал, перерезая городок надвое и в то же время придавая ему такую неповторимую прелесть.
Женя снова ездил в военное училище, в военкомат, но все без толку. В училище прием давно закончился, и надо было ждать следующего года, а от армии была у него отсрочка – еще тянулась долгая послевоенная демобилизация.
Отец вернулся, когда уже выпал первый ноябрьский снег. Он приехал усталый, глубоко ушедший в себя.
– Надо матери подсобить, – говорил он каким-то новым, далеким голосом, – а то дотянет ли до весны, не знаю, теперь в деревне прокормиться хуже, чем в городе. На трудодень совсем ничего не выходит. Старая она, страшно…
– Может, сюда ее позовем, Ваня? – Мать тревожно заглядывала ему в глаза. – Хочешь, позовем?
– Не поедет, – тихо качал головой отец, – я звал, дома, говорит, помру, где жила. Ох, до чего же дошла деревня, Нюра, если бы ты знала, – дотла, до зернышка, это ж хуже, страшнее… – Он посмотрел на мать удивленными далекими глазами. – Страшнее, чем на войне. – И неожиданно он заплакал, жалко, с подвыванием и всхлипами.
Через неделю он пошел наконец устраиваться на работу, на старое место в бухгалтерию. Взяли его сразу, без особых проволочек и трудностей. Подошла и Женина очередь. Не то было время, чтобы сидеть на шее у родителей, не мог он больше и тоже пошел на фабрику – рабочим.
И год покатился неожиданно тихо и ровно, что-то было в нем новое, какая-то успокоенность, какая-то слабая надежда на то, что страшное и трудное, что мучило их всех, кончается, вот-вот кончится совсем и снова наступит нормальная жизнь, такая, как раньше, до войны, почти такая же, а может, еще лучше. Уже отменили карточки, и на три зарплаты они были сыты и смогли наконец справить себе одежду и крепкую обувку; бабушка была жива, на улицах горели фонари, в кино шли новые веселые фильмы – война уходила назад.
А в сорок девятом году Женя надел курсантский погоны. Он был серьезен, нацелен, немного угрюм. Он не хотел проводов, не давал матери плакать и желал разлуки простой и скорой. Он не знал, что уходит из дома надолго, навсегда, как когда-то ушел из деревни его отец, но он еще не понимал этого, не понимал, что в жизни никогда и ничто не возвращается. Ему думалось, что он будет совсем рядом, рукой подать, но это «рядом» оказалось в другом измерении.
И все-таки детство еще до конца не оставило его. Оно бурлило, вскипало где-то на донышке его зажатой в кулачок души и вдруг расцвело, раскрылось в училище наивной, простой, здоровой радостью. Все было радость – сытная еда, товарищи, форма, четкий распорядок дня, ясные, захватывающе интересные занятия и собственный окрепший голос.
Ему было хорошо здесь и весело, и все выходило ладно. Он вместе с другими ходил в увольнительную в город, пил газированную воду, крутился в вальсе на танцплощадке в парке. Он оттаивал и открывался, а однажды написал письмо незнакомой девушке в самую Москву по адресу, который раздобыл у товарища. Ответ ошеломил его. Надо же! Значит, действительно письмо дошло, и она существует, эта девушка, и письмо ей показалось интересным. И он, всегда такой сдержанный и даже угрюмый, сделался вдруг в письмах хвастливым и многословным. Он старался писать остроумно, легко и весело, чтобы там, в Москве, знали, что они здесь тоже кое-чего стоят, и лично он, Евгений Елисеев, не просто так, а отличный курсант, будущий офицер.
А девушка Таня отвечала все короче и растерянней, и видно было, что она по уши влюбилась. Прислала фотографию: молодая, совсем еще девчонка, Два круглых глаза, косы с бантами. Товарищам она не очень понравилась, а Жене нравилась, она такая простая была, глупенькая еще, и не гордилась нисколько, а, наоборот, очень его уважала и писала ему как старшему и главному, и это очень было приятно.
И, подперев кулаками крепкие загорелые уже скулил и уставив в пространство узкие волчьи глаза, рассеянно мечтал Женя, как однажды, когда-нибудь, приедет он в столицу и будет ходить повсюду и все смотреть, и будет он там не совсем чужой, потому что есть у него в Москве своя собственная хорошая знакомая, и как она встретит его на вокзале – с цветами, наверное, с бантами в косах, подойдет к нему и скажет: «Здравствуйте, товарищ лейтенант!» Или, может, лучше: «Здравствуйте, Евгений Иванович!»
А он ей козырнет и ответит: «Здравствуй, Таня!» – и возьмет ее под руку, и пойдут они вдвоем кружить по Москве. А что будет дальше, пока он не хотел думать.
Глава 3
Вета вошла в свой подъезд. Двое мальчишек привязывали к хвосту кошки веревку, кошка орала и вырывалась.
– Эй вы! Ну-ка отпустите, живо! – прикрикнула на них Вета, и мальчишки кинулись к дверям, а кошка – наверх, по ступенькам.
Лиза, Лиза, Лизавета,
Я люблю тебя за это,
И за это, и за то,
Что целуешь горячо… —
пропел, дразнясь, один из мальчишек, но Вета только сделала вид, что сейчас побежит за ним, и он исчез, тяжело грохнув парадной дверью. А она потащилась наверх, обтирая плечом стенку.
Открыла мама, очень веселая.
– А нам телефон поставили, – сказала она, целуя Вету.
– Телефон? Здорово!
Он висел на стене в коридоре, черный, торжественный, Вета сняла тяжелую трубку, сдвинула ею шапку и приложила к уху. Там, в глубине, в шорохах услышала она длинный гудок. Темно было в коридоре, низко висел над столом в столовой оранжевый абажур, и мало от него было света, а по углам комната тонула в полутьме. «Папе, вот кому можно было позвонить!» И Вета стала торопливо сдвигать тонким пальцем тяжелый диск, и он с тугим жужжанием упруго возвращался назад. Снова слушала Вета в трубке далекие равнодушные гудки, и вдруг щелкнуло что-то и возник измененный и холодный папин голос.
– Папа, это я, Вета! У нас телефон поставили, – кричала она в трубку, и голос отца сразу изменился – и улыбчивый стал, и добрый.
– Знаю. Я скоро буду, Вета. Что я тебе достал!..
– Что, папа, что?
– Увидишь, пока секрет.
И Вета повесила трубку. И закружилась по комнате, еще не раздетая, еще с портфелем.
– Ирка! – кружась, кричала она. – Твоя молодость будет протекать при более благоприятных условиях, чем моя. Подумать только – личный телефон!
– Ты, Уланова, – хихикнула Ирка, – шла бы лучше уроки делать. Чего растанцевалась?
– Эх ты! Ничего ты не понимаешь, – сказала Вета и вздохнула.
Она переоделась и умылась, но обедать отказалась – она папу ждала. И пока ждала, незаметно успела сделать уроки, а папа не шел все, и она села и стала рисовать Зойкин портрет по памяти. Ничего получалось, прямые, как стрела, брови, гладкие черные волосы, серые веселые глаза, только гордая ее и дерзкая улыбка не получалась, и Вета терла все и терла, пока вовсе не испортила рисунок.
И тут наконец пришел папа и вынул из кармана маленькую трепаную серенькую книжечку.
– Ты это еще не читала? – спросил он. – По-моему, тебе должно понравиться…
И Вета схватила книжечку и сразу, с лету, стала смотреть.
«Последние дни мне думается, думается о незакатном дне северного лета,
– читала она. –Все не идут у меня из головы это лето и лесная сторожка, где я жил, и лес за сторожкой, и я решился кое-что записать, чтоб скоротать время и так просто, для собственного удовольствия. Время идет медленно, я никак не могу заставить его идти поскорей, хоть ничто не гнетет меня и я веду самую беззаботную жизнь. Я совершенно всем доволен; правда, мне уже тридцать лет, но не так уж это много. Несколько дней назад я получил по почте два птичьих пера, издалека, от человека, который вовсе не должен бы мне их присылать, но вот поди ж ты – два зеленых пера в гербовой бумаге, запечатанной облаткой. Любопытно было взглянуть на эти перья, до чего же они зеленые…»
– Ой, папа, – сказала Вета, – как хорошо! Что это?
– Угодил? – смеялся довольный папа.
Вета обедала и все косила глаза в растрепанную книжечку. Как во сне добрела она до комнаты.
«Бывает, и дождь-то льет, и буря-то воет, и в такой вот ненастный день найдет беспричинная радость, и ходишь, ходишь, боишься ее расплескать. Встанешь, бывает, смотришь прямо перед собой, потом вдруг тихонько засмеешься и оглядишься. О чем тогда думаешь? Да хоть о чистом стекле окна, о лучике на стекле, о ручье, что виден в это окно, а может, о синей прорехе в облаках. И ничего-то больше не нужно».
И читала-читала-читала она. Все давно уже спали, а она все не могла погасить свет.
На следующий день она принесла книжку с собой в школу, совсем немного осталось ей. Она положила ее под учебник, загородилась локтем и забыла обо всем. Зойка пихнула ее в бок:
– Что там у тебя?
Но Вета не ответила, только слабо махнула рукой, и, когда дочитала, такая грусть ее взяла – как же так, кончилось это блаженство, этот томительный сдержанный ритм, тайная наполненность, тягучая красота, необходимость каждого слова. Она огляделась вокруг. Была перемена. Дрались, визжали, скакали по партам. Но она не могла больше так.
И впервые она подумала, что стала уже взрослой, девушкой. Такое любопытство шевельнулось в ней к себе, и захотелось серьезности, понимания.
Она подошла к окну. Волнующее было небо, тревожное, серое, облачное. Над крестами Елоховской церкви, здесь, рядом, кружили вороны, и влажно зеленели купола. Голые верхушки лип жестко клонились, качались от ветра, и пятнами сох асфальт дорожки. Конечно, уже чудилась, чувствовалась весна.
– Хватит воображать, – сказала ей Зойка, – интересное что-нибудь у тебя?
– Интересное.
– Дай почитать.
Так жалко было Вете расставаться с книжечкой, еще и еще бы читала. Только и думала теперь достать, прочитать все, от корочки до корочки, до последнего словечка.
– На, – сказала она Зойке, – только аккуратнее, видишь, какая она старая.
Еще потянулись к книжке руки, но Зойка двинула локтем:
– Брысь, малявки! – И пошла было прятать книжку в портфель, но тут Лялька Шарапова вдруг загородила ей дорогу.
– Дура! – крикнула она. – Ну до чего же ты самовлюбленная дура! Привыкла всеми командовать.
– Ты чего это? – удивилась Зойка. – Плохой сон приснился?
– Отстань. Правильно девочки говорят, что ты умираешь от зависти к Логачевой.
– Чего-чего? Чего это я должна завидовать?
– А то, что ты впереди нее только по алфавиту стоишь, а во всем остальном – сзади.
– В чем это я, интересно, сзади?
– Отвяжись, не хочу с тобой разговаривать.
Девчонки стояли вокруг молчаливой толпой.
– Чего это с тобой, Лялька? – спросила расстроенная Вета. – Мы же не ссоримся.
– Это потому, что ты ей все спускаешь, – Лялька стояла красная, маленькая, толстая, чуть не плача от злости.
– Дура ненормальная, – холодно бросила ей Зойка. – Она в Логачеву влюбилась.
Наконец-то прозвенел звонок и разошлись все по местам. И тихо-тихо было на географии, как никогда не бывало, и Гога даже поглядывал на них подозрительно: не затевают ли они чего…
* * *
После школы Вета с Лялькой Шараповой зашли в церковь, просто так. Странно было, и почему-то боялась Вета, что ее выгонят, и спрашивала у Ляльки:
– А креститься надо?
– Не знаю, – отвечала Лялька, – наверное, надо, все крестятся.
– А ты умеешь?
– А чего уметь? Только надо правой рукой в лоб, в живот, туда-сюда…
И все-таки не поднималась у Веты рука.
– Ну его, глупости… – шепнула она.
Золотой таинственный свет был в церкви, приглушенный, но и солнце где-то в высоких окнах чувствовалось, почти невидимо горели тоненькие свечки перед иконами, много их было, сияли цветные огоньки в лампадах, золотились оклады темных икон. И запах стоял какой-то особенный, запах воска, дымной сладости. Народу немного было в церкви, несколько черных старушонок да поп копошились в углу. Девочки прошли туда. И ужасное увидели они. Там, в боковом приделе, на возвышении, похожем на длинный стол, в гробу лежал длинный восковой покойник. Цепенея, не веря себе, смотрела Вета на острый нос с длинными холодными ноздрями, на запавшие глубоко, вдавленные закрытые глаза, на седую бороденку и тяжелые прозрачные руки со свечечкой, сложенные на груди, на торчащие ноги в ботинках. Это в первый раз видела Вета мертвеца. Она хотела бежать, но странное, незнакомое раньше любопытство остановило ее, и еще ближе подошла она и смотрела. Вот она какая, смерть. И никто не удивлялся, не ужасался, не бился в рыданиях. Просто все было и не страшно, а тягостно и тоскливо.
– Пойдем отсюда, – шепнула Лялька, и Вета пошла послушно к выходу, но все оглядывалась назад. Неужели и она когда-нибудь будет вот так же неподвижно лежать на столе, и кожа такая будет, что если поцарапать ногтем, то соскребется воск.
А на улице была благодать, воздух, ветер, девчонки скакали в классы, прыгали, вертелись. И не верилось, что здесь, рядом, в двух шагах, смерть.