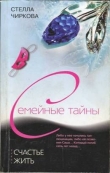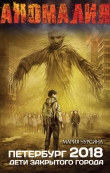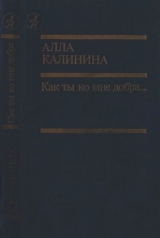
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Глава 18
Летом Юлия Сергеевна слегла окончательно. Лизы в Москве еще не было, и Сергей Степанович сам кое-как перевез ее в город и уложил в больницу. И только тогда стал понемногу проясняться тот печальный факт, что многочисленные и странные недомогания Юлии Сергеевны имели одну общую причину, и причиной этой, по-видимому, была опухоль поджелудочной железы, диагностировать которую было очень трудно. И хотя точных доказательств этому не было до сих пор, у врачей практически не оставалось сомнений; сомнение, а вернее сказать, надежда на чудо жила еще в Сергее Степановиче, и он целыми днями топтался в больнице, добиваясь всяческих высоких консультаций, в которых не было никакой нужды, время для операции все равно было упущено, и оставалось только ждать того неизбежного, что уготовила им судьба. Поэтому вскоре Юлию Сергеевну выписали из больницы, назначив ей усиленное белковое питание и снотворное, и, когда Елисеевы вернулись из отпуска, Юлия Сергеевна была уже снова дома, исхудавшая, ослабевшая, равнодушная ко всему.
Это был страшный удар для Лизы. Она заметалась по городу, не зная, с чего начать, за что хвататься раньше. Прежде всего маму надо было кормить, но аппетита у нее совершенно не было, и, чтобы заставить ее съесть две ложки творога, приходилось тратить час. Наверное, проще было пока вовсе переселиться к ней, но Юлия Сергеевна этого не хотела, она смотрела на Лизу с выражением скуки и усталости и то и дело подзывала к себе Сергея Степановича, чтобы отдохнуть на нем взглядом. Пришлось написать Ирине длинное, растерянное и неясное письмо. Через три дня Ирина позвонила и снова удивила Лизу, спросив с непостижимой простотой:
– Ты думаешь, это конец?
– Не знаю, – сказала Лиза и заплакала.
Ирина помолчала немного, потом сквозь шорохи и треск дальнего пространства снова донесся ее голос:
– Я постараюсь приехать. Не знаю, как у меня это получится, но я постараюсь. Слышишь, Лиза? Слышишь? Постарайся взять себя в руки. Рано или поздно нам придется через это пройти…
Да, теперь и Лиза понимала это ясно, это страшное время пришло, и от него некуда была спрятаться и некуда деться. Юлия Сергеевна худшала с каждым днем. В сентябре начались боли и теперь ничем уже не снимались, даже морфий давал облегчение на час-два, а потом она снова начинала метаться, оставляя на подушке клочья тонких серебристых волос. Причесывать ее было страшно, и страшно поддерживать костистую влажную и бессильную спину, когда Лиза пыталась маму накормить. Спина качалась и гнулась, как стебель слишком тяжелого цветка, и, сделав несколько мучительных глотков, мама валилась в подушки и, обливаясь потом и закрыв глаза, долго потом отдыхала от этого непосильного труда, ей хотелось спать, но забытая за едою боль снова набрасывалась на нее с прежней силой, и опять она металась, выгибалась, кричала, и это отнимало у нее самые последние запасы жизни. Потом она не могла уже даже кричать, а только неподвижно лежала на спине, челюсть у нее отвалилась, и изо рта вырывалось только редкое хриплое дыхание. Это было совсем не ее лицо, желтое, туго обтянутое прозрачной и влажной кожей, с длинным носом и маленькими ввалившимися глазами, но она все еще слышала и страдала, и никогда еще Лиза не любила ее так мучительно и сильно, никогда так не жалела и не дорожила каждой ее минутой. Она всей душою чувствовала, что теперь жизнь ничего не давала маме, кроме невыносимых страданий, и по всем человеческим законам должна была желать ей только скорейшей смерти, но она этого не могла, не могла! И как скряга дорожила каждой минутой, и, сжимая мамину руку, панически боялась конца. И однажды она была наконец вознаграждена – мамин рот зашевелился, медленно подтянулась непослушная челюсть, и, задыхаясь, вместе с хриплым дыханием она вытолкнула из себя: «Спасибо… дочка… не надо… переживать…» – и из закрытых ее глаз выкатились и побежали к вискам две мутные холодные слезинки. Лиза зарыдала в голос, захлебываясь и зажимая себе рот. А мамина жизнь все длилась и длилась вопреки всякому смыслу и милосердию, у Юлии Сергеевны было слишком здоровое сердце, и оно никак не хотело умирать.
Ирина приехала за неделю до маминой смерти и сразу приняла на себя все заботы по хозяйству, а Лиза теперь целыми днями сидела на стуле возле маминой кровати, гладила ее невесомую ледяную руку и бормотала ласковые, баюкающие слова, иногда она засыпала сама и вскидывалась в ужасе, что мама могла умереть без нее, но тихий редкий хрип все никак не мог оборваться.
Умерла мама двадцать девятого ноября, ночью, когда все вокруг спали, измученные этой непрекращающейся пыткой. И сразу все невероятно изменилось в доме – другими стали голоса, по-другому хлопали двери, другое стало выражение лиц; жизнь, прервавшаяся и замершая на долгие месяцы, вдруг двинулась и пошла словно с того же места, и застоявшееся время помчалось наверстывать свое.
На следующий день прилетел из Нукуса тоненький, невероятно повзрослевший Бахрам, да невестка Сергея Степановича, Галя, специально приехала помочь с поминками. У Бахрама пробивались уже над губой черные усики. Он держался строго за Ириной спиной, не оставляя ее ни на минуту, и, глядя на него, Лиза в первый раз по-настоящему пожалела, что не было у нее сына. Ее-то Олю саму надо было защищать от всех нахлынувших событий, она перестала бывать у бабушки задолго до ее смерти, и стоило при ней только заговорить об этом, как вся она страшно бледнела и выбегала из комнаты. Что это было, чувствительность или эгоизм, – Лиза не могла разобрать, да и не до этого сейчас было. Еще одна проблема мучила Лизу: следовало ли похоронить маму рядом с папой, где вполне достаточно было для этого места? Но дело ведь было совсем не в месте. Должна ли она была вообще лежать там, или забытый их брак давно потерял свое значение?
– Этот вопрос должен решить Сергей Степанович, – твердо сказала Ира. – Я бы, будь на его месте, не согласилась…
Но Сергей Степанович ни на что не был годен, он рыдал, обнимая мамины иссохшие ноги, и его невозможно было оторвать от нее. Неожиданно все разрешилось само собой. Оказывается, Галя давно уже обо всем договорилась, она оформляла место на Ваганьковском кладбище, и даже Женя был уже в курсе дела. Место было куплено – на двоих.
– Чего уж! – рассудительно объясняла она. – Наш дед уже тоже на ладан дышит, хоть меньше будет хлопот…
На похороны собралось совсем немного народу – семья, две старушки, соседки по даче, одна пожилая чета из маминого дома, да в последнюю минуту прибежали несколько новых Лизиных друзей. Все они молча постояли минуту над свежим холмиком и медленно побрели по голой замерзшей земле домой. Лизе все время хотелось оглянуться, вернуться, словно что-то очень важное забыла она сделать, чего-то ей не хватало, но умом она понимала, что не хватать этого будет теперь всегда, ей не хватало мамы, отставшей от них, потерявшейся неизвестно когда и где.
Ирина с Ромкой должны были уезжать на следующий день. Все были вялы, подавлены, говорить не хотелось, и все-таки Лиза выдавила из себя:
– У тебя нет такой мысли, Ира, чтобы попробовать вернуться в Москву? Это ведь была твоя квартира, и за Сергеем Степановичем тоже нужен присмотр…
– А! За него ты можешь не беспокоиться. Видишь, его семейка уже выслала полномочного представителя, теперь они не оставят его своим вниманием, будут караулить, он ведь у нас богатый старичок. Ну а что касается меня… поздно. Спасибо, Лиза, что ты об этом вспомнила, в мечтах я, конечно, полетела бы, но в реальной жизни – нет, мой дом – там. Это уже навсегда. А теперь, со смертью мамы, еще больше. Ты только не обижайся, ладно? Но мама – это все-таки мама…
– Да.
– Ты обиделась?
– На что тут обижаться, Ира? Мы уже не дети. Мне очень понравился Ромка, он так вырос, совсем взрослый мужчина.
– Да. Ведь он же скоро приедет в Москву поступать в университет. Его, как и отца, волнует Арал, это такая беда… Да я не об этом начала, я о детях. Они, конечно, хорошие ребята и приносят нам много радости… И все-таки, знаешь, отношения с ними какие-то совсем не такие, как были в наше время. Наверное, теперь мы гораздо ближе со своими детьми, я хочу сказать – расстояние между нами гораздо меньше. Но это ведь не только хорошо, это немножко и плохо. Словно мы не имеем права быть их родителями, они ведь умнее.
– А мне показалось, он так заботится о тебе…
– Так я же и говорю тебе, ему кажется, что я нуждаюсь в заботе. А мне ведь, Лиза, всего тридцать пять, и нуждаюсь я совсем в другом… Да, впрочем, не время сейчас.
И они уехали, а Лиза погрузилась в позабытый уже покой, в домашний уют, тишину. И снова рядом с нею был только Женя, теперь самый близкий ей человек из всех живущих на земле. С ним обо всем можно было говорить, даже о самом трудном и самом страшном, и за него можно было держаться, потому что он был надежный и сильный человек. И с ним, только с ним, могла Лиза говорить о том, что мучило ее сейчас больше всего, – о смерти, о своем ужасе перед ней и неприятии ее. Какую роль играет она в жизни, почему так страшно венчается каждая человеческая судьба? Как примириться с этим? И, ласково обняв ее за плечи, Женя утешал ее, как мог, медленно и упорно клоня к одному: страх смерти говорит только о том, что она неправильно живет и не понимает жизни. Конечность отпущенного времени – вот что надо понять, она не постигает великой сущности времени. А смерть… к смерти надо относиться просто.
– Но как это возможно, когда все вокруг делается черно и больше ни о чем невозможно думать… И запоздалые сожаления терзают.
– Вот-вот, запоздалые сожаления – это как раз то, о чем я говорю, но только, Лиза, ты ни в чем не виновата перед ней, скорее уж – она перед тобой. Но тогда, в самом конце, и это тоже не имело уже никакого смысла и никакой цены, там человек сосредоточен только на себе, умирать – это трудная работа, говорю это тебе как врач…
– А я надеялась, Женя… Мне казалось – она меня простила…
– А она и простила. Там все обиды – такие пустяки.
– Ты говоришь так, как будто знаешь…
– Я знаю. Все очень и очень просто, не больнее и не труднее, чем инфаркт или сломанная нога, просто гораздо важнее и поэтому поглощает умирающего целиком, и ему уже нет дела ни до кого и ни до чего, он уже один и весь сосредоточен на том, что происходит внутри него. А мы склонны все путать, все валить в одну кучу – свои страдания и его. А это ведь разные вещи, совсем разные! И обычно чем большие эгоисты родственники, тем больше они горюют. Но они ведь горюют о себе! Тот, кто думает об умершем, знает, что для него уже все закончилось и никаких страданий нет. И Юлия Сергеевна успокоилась, ей тяжело досталось, тяжелее, чем многим, но сейчас-то все уже позади.
– Наверное, ты прав, но я не могу, не могу чувствовать так. Значит, я тоже ужасная эгоистка. Я хочу прощения – себе, за все, что было не так, за то, что она не любила меня, за то, что я не сумела…
– Не мучай ты себя, Лиза! Ты не исключение. У тебя, как и у всех, есть в жизни темные места. Ну и что же? Это нормально. Почему ты чувствуешь себя виноватой? В чем? Комплекс вины – ужасная, губительная вещь, его нельзя себе позволять, с ним надо бороться. Какая бы ты ни была, хорошая или плохая, Юлии Сергеевне суждено было пройти через эти страдания, это не от тебя зависело, скорее уж от каких-нибудь там генов, которые достались ей от ее родителей. Так что, они тоже виноваты? Нет. Вообще удивительный мы народ, такие отчаянные материалисты, когда принимаемся что-нибудь объяснять, но стоит только дойти до дела – куда что девается! Вдруг оказывается, что важнее всего бескорыстие, нравственный долг, ложь во спасение, честь – все, что угодно, только не грубая истина. Так материалисты мы или нет?
– Ах, Женя!
– А разве она сама не знала? Конечно, знала. А вы только рождали напрасные надежды, сомнения и длили ее муки.
– А ты разве поступаешь не так же?
– Я – другое дело, у меня это – профессиональный долг, я не имею права отойти от больного до конца, мне еще есть что делать, это ведь не старые времена, я и после смерти еще обязан провести реанимацию, даже если знаю, что это бессмысленно. Впрочем, иногда случаются и чудеса, смерти ведь бывают разные, и сейчас по земле ходит куча народу, которая побывала там.
За бесконечными этими разговорами незаметно приближалась весна. В марте Оле исполнилось шестнадцать лет. Вот уже и не было в их доме ребенка, а была высокая молчаливая девушка, довольно миловидная.
Она была общительна и дружила ровно, со всем классом. Как это у нее получалось, не вполне было Лизе ясно. А вдруг это обыкновенное безразличие, равнодушная всеядность? Вовсе не со всеми людьми на свете стоило дружить. И почему-то вспоминала Лиза своего ненавистного поклонника Колю Лепехина, наглого, самоуверенного, тупого, как она пряталась от него, а он, не различая тонкостей, сопротивление женщин понимал единственно как кокетство и не отставал, пока однажды Лиза не сказала ему на его дурацком петушином языке:
– Послушай, Лепехин, отвалил бы ты от меня, а? У меня другая сфера интересов.
И Коля сразу понял, радостно засмеялся:
– Понятно! Ну ты молодец, Лизочка, все шито-крыто! С Коростелевым, да? Я сразу тебя почувствовал, мы ведь тоже не дураки! Но товарищам дорогу не переходим!
Он был добрый парень, просто духовно нищий. А Лиза и не знала толком, кто такой этот Коростелев, только потом, из любопытства рассмотрела своего спасителя. Зато Коля отстал прочно, только, встречаясь с ней, заговорщицки подмигивал ей и всхохатывал.
Почему же воспоминания об этом дураке связывались у нее в душе с мыслями о дочери? Чем она могла быть похожа на него, такая тихая, сдержанная, молчаливая? Нет, просто мучила ее мысль: а вдруг Оле тоже все будет безразлично и не будет она различать грани между добром и злом, между серостью и талантом, между легкими замыслами и тяжким их исполнением? Вот Ирина же говорила, что дети приносят ей много радостей и даже навязывают свою волю. А она? Могла бы она сказать что-нибудь подобное про Олю? Вряд ли. Она пыталась проникнуть в ее школьную жизнь, уловить в ней что-то, какую-то цель, какое-то направление, но не находила ничего. В школе все было обыкновенно, ни подвигов, ни провалов, день шел за днем. В школьной жизни было какое-то заманчивое, прекрасное однообразие. Но ведь Оля кончала уже девятый класс. Что будет с ней? Какое поприще она себе изберет? Пока все это было неясно, и даже думать об этом было страшновато. Оля – взрослая, Оля – студентка нелюбимого института, Оля – скучающая лаборантка…
– Как ты думаешь, – спросила однажды Лиза Женю, – она пойдет в медицинский?
– Не знаю, не думаю.
– Как же, Женя, разве ты не считал всегда…
– Да, считал, всегда считал… А сейчас вот засомневался. Нет, ты не подумай, что я недоволен своей жизнью или разочаровался в чем-то, нет. Я счастлив своей работой, я уважаю себя, а потом – я делаю доброе, чистое дело. Нет, со мной-то все хорошо, а вот Оля…
– Что – Оля?
– Понимаешь, для женщины обязательно нужно, чтобы работа несла в себе нравственное начало, иначе трудно. Женщины хуже мужчин переносят абстрактное.
– Но разве медицина не самая нравственная из профессий?
– Да, так было когда-то, только не теперь. Теперь все изменилось. Мы больше не встречаемся, врач с ненаглядным своим больным, который поглощает целиком все его мысли и в то же время полностью зависит от него одного. Наверное, слишком много стало людей. Это современные крольчатники! Что жилища, что больницы – все слишком огромное, а человек слишком маленький, он никому не виден. В день идет до двадцати операций. Даже в реанимации – толпа больных, когда же нам заметить отдельно взятого маленького страдающего индивидуума, когда нам его пожалеть? Не то что имени-отчества, мы и фамилии путаем с теми, что были вчера, позавчера, месяц назад. Тут не до лирики! У нас ведь конвейер, и требуются от нас совсем не чувства, а только профессионализм. Да и статистика мутит душу. Ну что нам делать, если известно, что смертность при простейшей сердечной операции должна быть семь процентов? То есть семь процентов – это очень хорошо. А ведь это семь человек из сотни, ты понимаешь? Конечно, лучше бы этого не знать, но мы ведь знаем и заранее догадываемся, кто кандидат, и отпускаем их с миром. Вот по поводу десятого или пятнадцатого из сотни мы волновались бы куда сильней, и не потому, что эти люди – другие, а потому, что превышение процента означает уже нашу собственную ошибку, наш непрофессионализм и нашу собственную неприятность. Может быть, людей вообще нельзя считать на проценты? Нет, я понимаю, конечно, что все это ерунда, не всякого больного можно вылечить. Просто я говорю о том, что нравственное начало почти уже вытеснено из медицины, во всяком случае – вовсе не является ее основой. Я сам предпочитаю иметь на операции не чувствительного и доброго, а ловкого ассистента, так их и подбираю. Что поделаешь? Такое время, да, как это ни печально, такая и профессия. Я-то ее люблю, и другой мне не надо. А Оля с этой ее рассеянной холодностью… Во что она превратится через несколько лет? У нас сколько хочешь таких вот молодых скучающих страдалиц. Они говорят: «И вот на эту рухлядь, на этих несчастных развалин должны мы тратить свою единственную жизнь?» Что ж, это тоже аргумент. Нет, я вовсе не думаю, что в медицину должны идти какие-то там особенно душевные люди; совсем наоборот, в медицине нужны мужественные и стойкие, такие, кто может отключиться от чужих страданий, но при этом не перестает быть добрым.
– Неужели ты думаешь, что с Олей может случиться что-нибудь подобное?
– Нет, конечно, Оля совсем не такая, но в данном случае я ведь думаю не о больных, а о ней. Что ей делать в медицине? Нельзя же выбрать специальность только потому, что не знаешь, чем еще можно заняться!
Этот разговор растревожил, взволновал их обоих, одна только Оля пребывала в безмятежности, тихо мурлыкал в ее комнате проигрыватель, тихо исчезала она по вечерам.
– Ну что ты волнуешься, мама? Честное слово, все будет прекрасно. Все будет очень-очень хорошо.
А Лиза из деликатности не умела спросить ее, что она под этим подразумевает.
И снова Елисеевы подолгу шептались синими майскими вечерами, замолкали, глядя в потолок и представляя себе то, что может случиться в самые ближайшие годы. Однажды Оля придет и преспокойно заявит им, что она вышла или скоро выходит замуж, они не сомневались, что будут последними, кто узнает об этом. Но с другой стороны, разве дело в них? Рано или поздно все равно это случится. И они уже заранее немножко мечтали об этом. Только бы у Оли все было хорошо, а у них в доме опять могут появиться маленькие дети. Неужели они уже готовы к этому? Нет, конечно, пока все это было только весеннее брожение мыслей – то ли мечты, то ли сны, во всяком случае что-то очень еще далекое и неясное. Реальна пока была только Оля и ее странный таинственный характер. Чувствовала ли она себя одинокой или просто независимой?
– А это ведь в каком-то смысле одно и то же, – сказал Женя. – Видишь ли, просто должна быть какая-то мембрана, которая отделяет человека от всего остального мира, чтобы он сам мог почувствовать и понять себя. Немножко одиночества нужно каждому человеку.
– И тебе тоже?
– И мне, – сказал он, подумав. – Только ты не беспокойся, я его имею вполне достаточно, когда ты, например, вот как сейчас, уплываешь куда-то в мечтах, и я не знаю, где ты и с кем. Разве ты всегда со мной, Лиза?
– Нет, не всегда. – И снова она увидела серое намокшее шоссе, глухой лес по сторонам и Рому, одиноко стоявшего на обочине дороги. Да, она тоже то и дело уплывала в свои миры, которые другим были непонятны и неинтересны, а для нее несли неизъяснимую сладость воспоминаний. Куда уносилась она, с кем встречалась, кого любила? Никого это не касалось, кроме нее. Какое счастье, что никто не посягает на это ее право!
После маминой смерти прошло уже больше полугода, и жизнь постепенно стала налаживаться. Сергей Степанович переехал на дачу, и к нему туда снова нахлынули родственники. Всю зиму Лиза раз в неделю ездила к нему готовить и убирать, но теперь забота эта отпала. Даже больше того, без мамы ездить на дачу было просто неудобно, словно она пыталась предъявить какие-то права, которых у нее не было и не нужны они ей были.
И в квартире маминой тоже все теперь переменилось. После отъезда невестки Сергея Степановича, Гали, квартира отвратительно опустела, исчезли старые вещички и безделушки, поредела посуда в буфете, даже мамины платья исчезли, всюду, куда бы ни обращала Лиза взор, зияли мучительные пустоты. Галя выхолостила дом старательно и планомерно, оставив только самое необходимое для жизни. Она знала цену вещам. Одно только утешало Лизу – то, что Сергей Степанович не хотел и стыдился этого разбоя. Противостоять Гале он не мог, но после ее отъезда так страдал и прятал от Лизы глаза, что впервые за всю свою жизнь подумала Лиза, что мама с ним не ошиблась, он был славный человек, добрый и честный и так любил маму. Медленно и постепенно оба они, Лиза и Сергей Степанович, привыкли к голым стенам и треснувшим кухонным чашкам, к ненужному простору и линялым залатанным полотенцам. В сущности, им обоим ничего здесь и не было нужно, Сергею Степановичу все теперь было уже безразлично, его жизнь кончилась, а Лиза жалела только о нескольких мелочах из старых, папиных еще, времен, но мелочи эти все равно безнадежно исчезли. Ей остались только два картонных ящика писем, лоскутков, фотографий и лекарств, которые так и стояли посреди маминой комнаты. А может быть, Галя сбросила туда заодно и обыкновенный мусор?
Сергей Степанович, отекший, неряшливый, обросший седой щетиной, целыми днями бесцельно слонялся по комнатам. Каждому приходу Лизы он радовался необыкновенно, торопливо трусил ей навстречу, шаркая стоптанными тапочками.
– Дочка, – говорил он, – ну что ты себя мучаешь зря? Все у меня есть… И посуду я помыл. Ну чего ты опять тащишь? Чаю поставить?
Они вместе пили чай, разговаривая о всяких пустяках. Про Юлию Сергеевну они не говорили почти никогда, и незаметно за разговорами Лиза переделывала всю ту убогую домашнюю работу, которую можно еще было здесь найти, подтирала полы, мыла мусорное ведро, варила какой-нибудь импровизированный суп, и ничего уже здесь не напоминало ей о детстве. Только после отъезда Сергея Степановича смогла она приняться за мамино наследство. Она разбирала какие-то затертые бумажки, исписанные знакомым почерком, рецепты пирогов, записки для памяти, сведенные на один листок дни рождения и день папиной смерти, обведенный карандашом. А снизу лежала стопка их с Иркой детских каракулей и рисунков, перевязанная выгоревшей ленточкой, открытки от их детей, все вместе, рецепты, дед-мороз, аккуратно вырезанный из поздравительной открытки. Зачем она вырезала его, для кого? И вдруг все прорвалось, хлынуло, вспомнилось! Мама! Ведь это была ее мама! И такая незнакомая, такая острая боль пронзила Лизу по этим безответным, трогательным, беспомощным маминым призывам. Значит, она пыталась, хотела пробиться к ним, хотела и не могла! Значит, это о ней она думала, собирая вырезки из «Вечерки», и красивые открытки, и этого нелепого деда-мороза, – о ней! Но не смогла! Не сумела сказать, не сумела пробиться через ее, Лизину, угрюмую сдержанность, через их упрямый необъяснимый разрыв. Бедная мама, значит, она тоже знала одиночество, тоже страдала от него? Как тяжело, как страшно было ей примириться со старостью и смертью, неся в себе эту боль поражения, потому что ведь дети – это для нее была единственная надежда на продолжение, а мама с детьми потерпела неудачу, в сущности – крушение. Ее связь с ними прервалась, и жизнь оказалась бесплодной, напрасной. Бедная мама!
Впервые после ее смерти Лиза открыто плакала, громко, никого не стыдясь, не думая о своем некрасивом, перекошенном, покрасневшем лице, не помня о нем. Ах, как безнадежно она была виновата перед ней! Безнадежно, непоправимо! И вдруг с ужасом вспомнила Лиза, как совсем еще недавно думала про себя, что прошлое потеряно навсегда и больше не у кого ей просить прощения. А мама тогда еще была жива. Жива! И все еще можно было исправить, и все ей сказать! Но тогда их отношения казались ей такими ясными, она не умела думать о живых, не могла ценить того, чем владела… И снова плакала она, прижимая к груди старые мамины тапочки, лежавшие на дне коробки, и так ясно видела перед собой стройные круглые мамины ноги, знакомые до каждого ноготка, до каждой родинки, до голубого дышащего венозного узелка под коленкой. Неужели уже никогда…
А потом миновал и этот горестный, полный раскаяния день, и чем дальше он уходил, тем яснее становилось Лизе, что и эти чувства тоже были непозволительной роскошью, которую жизнь вовсе не собиралась оставлять ей навсегда, все остывало, забывалось, уходило, она не получила прощения, но больше и не ждала его, все притуплялось, исчезало в прошлом, мама медленно таяла, как будто так и должно было быть. И от всего этого Лиза вдруг невероятно и стремительно постарела, не лицом, конечно, а всем своим существом. Они с Женей теперь были старшими в своем роду.
И по-новому, осторожно и бережно, думала Лиза о муже. Она смотрела в его серые волчьи непонятные глаза и думала, как же трудно, оказывается, дорасти до осознания обыкновенной человеческой благодарности – за верность, за дружбу, за долгие годы. Как же трудно было понять цену таким простым и ясным вещам! И ничего не надо было ему говорить, только улыбнуться, только прикрыть веки, и все ясно – судьба одарила ее счастливым браком. Она оплатила его своими страданиями и потерями, юношеским пылом, терпеливой надеждой, и теперь, только теперь наконец обрела во всей полноте, надежно защищенный от мелочности и заблуждений, от предрассудков и неверия – свой собственный мир. В нем не могло уже быть ни измен, ни предательства, только общее горе и общие радости… да еще – смерть.
Такой радостью теперь вспыхивало Лизино сердце, если она приходила с работы, а Женя был уже дома, громыхал кастрюлями на кухне, телевизор орал на полную мощность, чтобы ему там было слышно, или бесконечно долго говорил по телефону с больными и родственниками больных, знакомыми родственников и только кивал ей и приветственно шевелил пальцами. Или сидел за столом, зарывшись в свои бумаги. Его жизнь была полна, и вечно он кипел новыми делами и планами. Но в каждой мысли своей и в каждом своем деле был он чист, и ясен, и прям, и честен перед собой. И, замирая, думала Лиза: «Как могло мне так повезти, за что?»
* * *
Осень была дождливая, сырая. По воскресеньям они, натянув сапоги и плащи, уезжали в лес. Оля редко ездила с ними, в лесу ей было скучно, грибов она не видела и обижалась.
– Стоило ехать в лес, чтобы утыкаться глазами в землю!
– Ну погуляй так…
– Я гуляю. Только мне здесь не очень нравится…
– А где тебе нравится, Оля?
– Я не знаю. Бывают такие места, что выйдешь на них и сразу понимаешь: вот здесь ты хотел бы остаться, поставить избушку и жить до старости…
– Это ты-то?
– Ну нет, конечно, не я… вообще. Я о красоте говорю, а ты не понимаешь. Какая-то ты со мной странная, мама, вот с папой ты совершенно другая. Неужели ты не понимаешь, я уже взрослая!
Наверное, Лиза не понимала, знала, но не принимала душой, все боялась за Олю, все хотела ее научить и подправить, не умела сопоставить ее жизнь со своей. Ведь сама она в это время уже прощалась с детством, с любимой своей школой, уже собиралась замуж, мечтала о будущем. Время слушать нравоучения давно прошло. Вот и Оля не впитывала больше ее уроков, с удивлением смотрела на смешные ее старания и осуждала ее неумелость и непонимание. Нет, всему надо было знать меру, девочка выросла. И они перестали напрасно таскать Олю за собой. И, если уж говорить честно, вдвоем им было еще лучше.
Они брели, разговаривая, по осеннему лесу. Листья упали, просторно, тихо было.
В ельниках держались еще чернушки, почти не заметные глазу, присыпанные прелой хвоей, серовато-сухие на сломе. А на обратной дороге, когда вышли они на зеленую, еще травянистую просеку, в зарослях папоротника мелькнули фиолетовые рядовки. Это были замечательные грибы, действительно фиолетовые, даже изнанка была у них яркая, и шелковистые шляпки отражали слабый осенний лесной свет. И удивительно было думать Лизе, что когда-то, в ее детстве, в царственной грибной Тарусе, даже не слыхали они о таких грибах, не замечали их, не признавали. Тогда все искали боровики, да поддубовики, да прекрасные, поражающие воображение подосиновики, а столько чудес, и не только грибных, пропускали мимо себя! Вот в чем было огромное преимущество нового их возраста: они знали, видели, ценили то, что раньше беспечно пропускали мимо, они стали богаче. Так хорошо им было брести по осенней просеке. Дождя не было, воздух был холоден, легок, чист. Они то проваливались в раскисшие колеи, то на ходу обмывали сапоги в желтых стоячих лужах, стылая вода приятно холодила ноги, и от этого словно прибавлялось сил и хотелось идти и идти так без конца, слушать тишину, печальный шорох хвои и угадывать за чащобой серых стволов пасмурные поляны, луга, вырубки, нежную поросль молодого сосняка. Хорошо было.
А с середины недели зарядили уже настоящие дожди, и никуда они больше не успели; потом выпал ранний, жидкий слякотный снег, началась сырость, насморки, надоедливые простуды, пришла зима. И никто не думал поначалу, какой грозной она окажется, мороза ждали как спасения, а он пришел, катясь как волна, со странным гулом и треском подступая все к новым и новым территориям. И всюду, куда он приходил, разом все замирало и останавливалось. Температура в считанные минуты падала с нескольких градусов тепла до тридцати с лишним мороза. Еще живая, полная соков кора рвалась и лопалась на деревьях, обмерзала, чернели тонкие ветки и однолетние побеги, старые подмосковные сады погибали. Деревьям, оказывается, тоже отмерен свой срок. В детстве Лиза думала, что деревья растут так медленно, гораздо медленнее людей, но вот и ей довелось увидеть предел их жизни, а ведь сады эти были моложе нее, они поднялись после таких же страшных морозов сорок первого года, когда все вокруг вымерзло и только позже уже, после войны, посажено было вновь. Вот какую огромную меру времени вмещала она теперь в себя. Леса сменялись. На месте сгоревших сосен поднималась поросль берез, ольхи и осин. В березовых лесах стеной вставал когда-то мелкий ельничек. Что ж, с этим тоже приходилось мириться. Но еще оставалось у нее время увидеть, как вырастет еще одно, новое, поколение деревьев и людей. Людей тоже. Бегали когда-то по лестницам их дома маленькие девочки, вырастали, выходили замуж, таскали младенцев на руках и в колясках, и эти младенцы тоже постепенно превращались в больших уже мальчиков и девочек, которые вылезали из детских комбинезончиков, надевали ранцы, брали в руки коньки и нотные папки, стремительно вырастали. Летело, летело ошалевшее безжалостное время. Жене перевалило уже за пятьдесят. Жене! Но он оставался все таким же, только как-то незаметно для себя защитил докторскую диссертацию и был теперь заведующим своим отделением. Как, когда это случилось? Изменилось ли что-нибудь от этого? Наверное, все-таки изменилось. В том смысле, что все стало теперь на свои места. Женя давно заслуживал этого. Он говорил: