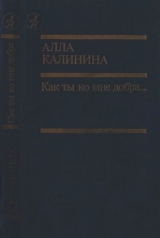
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
Глава 8
Сергею Степановичу исполнилось семьдесят. Мама была вся в хлопотах, шила себе новое длинное платье, ездила в ресторан согласовывать меню, волновалась за Сергея Степановича, чтобы торжества не подействовали на него слишком сильно и он бы не заболел от радостных переживаний. На ученом совете его славословили, называли одним из старых могикан, хирургическим энциклопедистом, столпом. Наносили огромную груду тяжелых поздравительных папок, в которых разной тушью и разными шрифтами написано было много прекрасных слов в стихах и прозе; поликлинику, где он теперь работал, всю завалили цветами, все пили шампанское, и когда они с Юлией Сергеевной, растроганные и счастливые, уезжали домой на такси, машина тоже вся была доверху набита цветами и подарками.
– Видишь, видишь – воздают! – гремел Сергей Степанович. – Все-таки ценит народ! Потому что я верой и правдой…
Лиза была у мамы, с часу на час ждали Ирину с семейством, в доме у Юлии Сергеевны все сияло, она расставляла цветы в вазы, розы к розам, гвоздики к гвоздикам, было даже несколько орхидей от одной больной, удачно соперированной когда-то Сергеем Степановичем, но больше всего было хризантем, огромных, желтых, рассыпающихся по сторонам тонкими перистыми лепестками, и темно-золотых, тугих и плотных, и волнистых белых, их поставили в банки прямо на пол, и комната от них волшебно преобразилась, стала незнакомой, наполнилась горьким прохладным запахом, радостным предчувствием близкой зимы.
Уже темнело за окнами, но свет не хотелось зажигать. Мама волновалась, почему запаздывает Ира, то и дело отрывалась от увлекательного чтения поздравлений, чтобы прислушаться, не звонят ли у двери. Сергей Степанович был в новом коричневом стеганом халате, подаренном ему сегодня Юлией Сергеевной. Взволнованный и счастливый, он кружил по квартире, заговаривал с Лизой.
– Вот ты, дочка, всегда на меня обижаешься, а я ведь прав! Думаешь, я все это не заслужил? Думаешь, просто так? Нет, все правильно, все своим горбом заработано. И – признали. А другие… кто ушел в безвестность, – значит, были к тому свои причины, были, не нам судить. Дыма без огня не бывает. А ты меня слушай, я зря не скажу, я же к тебе как родной отец. Боюсь я за тебя. Ну дай поцелую…
Наконец за дверью раздалась возня, серия быстрых нетерпеливых звонков, и румяная Ирина, возбужденная до слез, ступила в квартиру, порывисто обняла маму, потом кинулась к Лизе, а за Ирининой спиной, безукоризненно одетый и спокойный, стоял Камал, держа за руку коренастого невзрачного мальчика. И вот это и были самые близкие Ире люди? Лиза видела Камала впервые. Он и правда был красив – высокий, тонкий, смуглый, лицо у него было великолепно вылепленное, скульптурное, впалые щеки с легкой вертикальной складкой подчеркивали высоту и крепость румяных скул, нос был тонкий, с трепещущими узкими ноздрями; рот в меру пухлый и в меру твердый, открывал ровные сахарные зубы, подбородок был круглый и сильный, тонкие брови эффектно взлетали к вискам, лоб широкий и чистый, прическа совершенная, узкие черные ясные глаза сияли желтыми огнями, но взгляд при этом оставался безмятежным, по-восточному отстраненным и непостижимым, и невозможно было понять, о чем он думает и видит ли их вообще.
– Ну вот мы наконец и встретились. Здравствуй, Камал! – Лиза протянула ему руку, и в лице его сразу, в одно мгновение, что-то неуловимо распустилось, оно стало простым и приветливым.
– Здравствуй. Я так рад. Поздравляю тебя с юбиляром. Как ты поживаешь?
– Прекрасно.
Совсем не то ей хотелось услышать от нового родственника – близости, сообщности, чего-нибудь более живого и сердечного, какого-нибудь знака, но ничего этого не было, она ошиблась, приветливое лицо ничего не значило, он по-прежнему был закован в броню, да и с чего она взяла, что он вот так сразу откроется, доверится ей? Он был бесконечно далек. Лиза присела на корточки и заглянула в лицо племяннику:
– Ну, а вот это и есть наш маленький Бахрам?
Камал что-то быстро и ласково сказал ребенку, и он тотчас послушно оторвался от отца, сделал короткий шажок и ткнулся в Лизины объятия.
– Здравствуй, тетя, – сказал он тоненьким чистым голоском, темные глазки его были опущены, руки висели.
Что в нем было от Ирки с ее порывами, лукавством, дерзостью? Ничего. Лиза похолодела, осторожно прижимая к себе ребенка.
– Где он, где он, – уже ворковала за ее спиной мама, – где моя любимая крошечка? Ты меня не узнаешь? Я же твоя бабушка! Ах ты, какой хорошенький, какой черноглазенький! Ну пойдем, пойдем, я тебе покажу всякие игрушки, я тебе покажу, что сегодня надарили твоему дедушке. Ну, поздоровайся с дедушкой, поздравь его, у него сегодня день рождения…
Лиза засмеялась и быстро взглянула на Иру, но Ира не заметила ее взгляда, она говорила с Камалом, а Камал расстегивал чемоданы. Какая она была незнакомая и далекая, Ирина, как она переменилась!
Позже, в течение вечера, это острое, болезненное ощущение не исчезало; наоборот, Лиза словно начала к нему привыкать. И только Женя, как ни странно, единственный, казалось, не чувствовал никакого напряжения с новыми родственниками. На банкете они с Камалом сидели рядом. Лиза не слышала за общим шумом, о чем они там говорили, но им было весело, они смеялись, перебивали друг друга, и Женя даже размахивал руками, что-то объясняя Камалу, а Камал слушал, кивал, соглашался. Дети тоже нашли постепенно общий язык. Оленька, на правах старшей, увлеченно ухаживала за Бахрамом, а он грыз яблоко и болтал ногами. Только Лиза с Ириной все никак не могли разговориться. Что-то необъяснимое, неприятное стояло между ними, какая-то невидимая преграда, и Лиза понимала, что преграда эта воздвигнута ею, а Ирина только из гордости и обиды не помогает ее разрушить, не хочет. Что же это была за преграда, что Лизе мешало? Ревность к незнакомой Ириной жизни, ко всему, чего не могла она разделить с сестрой, или тайное пренебрежение к этой ее жизни? Наверное, было и то, и другое сразу, и ревность сразу отметала Лиза как совершеннейшую глупость, а вот свое высокомерие… На чем основывалось оно? Неужели на том только, что был Камал не русский? Или просто Ирина рядом с ним вдруг показалась ей совсем притихшей, провинциальной, скучной? Да, все это вместе путалось, мешалось в ее душе. Лиза понимала, что это гнусно, неправильно, нечестно, но чувствовала именно так и ничего не могла с собой поделать, ей было жалко Ирину до слез, и больно за нее, и стыдно! Но отчего же, отчего? А оттого. В их круге существовали правила, которые Ира нарушила. По этим правилам жениться и выходить замуж надо в своем круге, а если уж не в своем, то деревенские должны стремиться в город, провинция – в Москву, а москвич – держаться за столицу изо всех своих сил. И это было правильно, потому что таким хоть и пошлым, но все-таки верным способом осуществлялось движение вперед, люди росли, это было направление эволюции, прогресса. Ирина же нарушила все и поэтому потеряла, конечно же потеряла! Она шла против движения, назад! Вот в чем была ее ошибка! Здесь, в Москве, все бы выглядело иначе.
И против Камала Лиза совершенно ничего не имела, по-видимому, он прекрасный человек и умница. В сущности, она не признавала в нем только одного – его упорного неприятия той схемы мира, которую она считала единственно возможной. Все, что противоречит этой системе, – ошибка. Или… или ошибается весь мир, и одна только Ира шагает в ногу?
Лиза оглянулась на мужа. Теперь он слушал Камала серьезно, повернув к нему напряженное, внимательное лицо и подперев голову рукой. И вдруг подумала Лиза, что Женя, в сущности, тоже неисправимый провинциал, он так и не научился находить особый пикантный вкус неповторимой столичной жизни, да и знал ли он вообще, что это такое, догадывался ли о существовании таких материй или отметал все чохом как нелепое мещанство, архаизм, бабьи выдумки? Одна была разница между ним и Камалом, он-то, Женя, поступил нормально, он стремился и приехал в Москву, он двигался в общем потоке, а Камал держался, держался за свое.
Лиза подцепила вилкой кусочек лососины, одиноко лежавший у нее на тарелке, и попыталась вернуться на банкет, в шумный зал ресторана «Прага». Здесь все еще говорили речи, прославляющие Сергея Степановича, но чувствовалось, что ораторы начинали уже повторяться, да их и не слушали больше, гости говорили и смеялись вразнобой, официанты разносили горячее. Сергей Степанович был уже навеселе и все время пытался что-то сказать, а раскрасневшаяся мама удерживала его, что-то нашептывая ему на ухо. Словом, пир был в разгаре. В соседнем зале гремела музыка, и гости то и дело вставали, чтобы немного размяться и потанцевать.
– Подумать только, – вдруг сказала Ира, – они с мамой вместе уже четырнадцатый год…
– Неужели так много? Какие же мы стали… старые!
– Да, конечно. В сущности, люди становятся старыми в тот день, когда начинают чувствовать родителей своими детьми. Так что, наверное, ты права, Лиза.
И Лиза вздрогнула, потому что впервые сейчас сестра изменила ее старому детскому имени, назвала не Ветой, а Лизой. И это был ответ на вставшее между ними отчуждение, она не стала ни притворяться, ни лгать, ни даже замалчивать того, что происходило, она просто поставила точку на детстве, отодвинула его, отныне и навсегда прошлое уходило назад.
– А ты? – тихо спросила Лиза. – Ты совсем уже привыкла там? Все хорошо?
– Нет, Лиза, у меня, наоборот, все очень плохо, даже еще хуже, чем плохо. У меня настоящая беда, потому что дорогой мой шеф товарищ Синицын закрыл экспедицию, совсем. Ты понимаешь – он закончил, перебирается куда-то в Крым, будет изучать греческие поселения. У него какие-то планы с космической разведкой древностей с помощью спутников. А моя-то жизнь продолжается! Что я буду теперь делать – без работы? Ты и представить себе не можешь, чем была для меня эта работа, в ней был весь смысл моего пребывания там, я ею жила. А теперь? Для чего я нужна? Что мне там делать, да и какой им с меня толк? Я в обузу превращаюсь, ты понимаешь?
– Что за ерунда! Да какая еще обуза, ты что выдумала? Найдешь себе работу…
– Да не в этом дело, Лиза. Я не о способе зарабатывать деньги говорю, я о форме существования, о смысле своей жизни, я по призванию работала, понимаешь? А Нукус – это не Москва, там других археологов сейчас нет. Да и к кому пойдешь после Синицына? Я у него там, конечно, мелкая сошка была, но он-то гигант, и я с ним возносилась. А теперь все, конец, распустили нас…
– Что же теперь делать. Пойдешь в музей, к своему любимому Троицкому.
– Думаешь, это легко – на старости лет переучиваться, все начинать сначала? Обидно все это и страшно – ни профессии, ни родной земли под ногами. Начну вспоминать – вся обольюсь слезами, а подумать о возвращении – нет, это ведь одни мечты, поздно уже. И все равно иногда, знаешь, размечтаюсь – и начинает казаться, что даже этого хочется: попробовать все сначала, словно заново родиться… Люблю рубить сплеча, жечь корабли, переходить рубиконы и заниматься всякими такими делами. А что мне плохо – так что ж, сама себе выбирала такую судьбу.
– Но ведь можно ее и повернуть?
– Не получится. Знаешь, ехала сюда и всей душой надеялась уговорить Камала остаться, даже ссорилась с ним, а вот говорю сейчас с тобой и сама понимаю – ерунда все это, несерьезно. Да и сама я этого уже не хочу, поздно. Я уже далеко ушла вперед.
– А не назад ли, Ира?
– Нет, не назад. Я об этом много думала. Дело ведь не в месте, не в том, что республика – это не Москва, дело во мне самой. А я сама выросла, я отошла от вашего стереотипа, сделала самостоятельный шаг, у меня есть цель в жизни, была цель, но это все равно, потому что цель эта связана с судьбой республики, и сейчас на мне остался долг и желание этот долг выполнить. Этому я научилась у Камала, и это поднимает меня, делает мое существование осмысленным, высоким. Можешь ты сказать то же самое о себе? Да нет, Лиза, я тебя ни в чем не упрекаю, ты ничего такого и не можешь – здесь ты в толпе, ты как все, что от тебя зависит? А я уже хлебнула простора, воли! Понимаешь, при всем восточном женском бесправии, именно там, в маленькой республике, я – личность. А ведь ты меня взялась жалеть, я видела. Ведь жалела же, верно? Что живу в тмутаракани, что муж у меня узкоглазый, и ребенок не чета твоему, думала ведь так, правда? Ну что ты прячешь глаза? Ты на меня смотри. Это ведь все такая ерунда!
С банкета они выходили все вместе, не спеша, по ночному осеннему Арбату, сыро было, блестели огни, ветер задувал в спину, подгоняя шаг. Камал шутил, смеялся, гибко наклоняясь к невысокому Жене. И с удивлением слушала Лиза его точную, чистую горячую речь – об отступлении моря, о кораблях, застрявших в песках, и о древнем городе, найденном на морском дне под Усть-Уртом. Женя ежился, поднимая плечи: он был без шапки. И все перепуталось, перемешалось. О чем они говорили сейчас с Ирой, что их тревожило? Все пустяки. Мир такой прекрасный, стоит только чуть-чуть прищурить глаза, чуть-чуть убавить трезвости. Зачем же мучить себя неразрешимыми вопросами?
* * *
Зима в Нукусе выдалась ветреная, крутая, но весна, едва начавшись, разом перевернула песочные часы, время потекло уже другое, полное солнца, синевы, цветения. Цвела пустыня, цвели молодые, недавно посаженные в плоском городе деревья, хилые из-за солончаков, на деревьях вспархивали и щебетали птицы, сверкала мраморная крошка, которой начали облицовывать центр города.
В апреле Ира родила дочку и назвала ее Катей, Кутькой. Кутька получилась крупная, спокойная, толстая, и Ирина была счастлива, что теперь их будет две женщины в семье. Она вообще была счастлива, что-то переменилось в ней, все воспринималось и чувствовалось по-новому, радостно и просто.
Она шла по весенней улице, по солнечной стороне и катила перед собой коляску, в которой спала Кутька, рядом шагал веселый Ромка, вертя головой во все стороны, то отставая, то забегая вперед, а кругом шевелился город, жил своей жизнью: женщины в черных платках с яркими узорами и золотыми блестками входили и выходили из магазинов; мальчишки, отчаянно звеня, крутили педали велосипедов, машины проносились мимо, шли степенные старики в халатах, протрусил осел, запряженный в тележку, на которой сидела, болтая ногами, целая пестрая куча ребятишек, на углу у лотка стояла очередь за свежей рыбой. Ирина тоже на мгновение загорелась – купить рыбы, такая она была розовая, тяжелая, влажная, так жирно поблескивала в авоське у женщины, что отошла сейчас от лотка и держала покупку с напряжением в оттопыренной короткой руке, чтобы не запачкать ярко-синего цветастого платья. Но и терпения стоять в очереди не было, и Ирина, не замедлив шага, прошествовала мимо, подставляя лицо солнцу. И было ей так хорошо! Ей нравился этот город, он был теперь не только привычный, свой, он был красивый. И весна была такая яркая, горячая, сверкающая. И избыток свободы оттого, что больше нигде она не работала и ни к чему не была привязана, все то, что так пугало и угнетало ее еще недавно, – все это сейчас волновало и пьянило как вино. Этот город, Азия, солнце – все было как в волшебном сне, как в забытом кино про багдадского вора, которое она видела в детстве.
Она очнулась от своих мечтаний на углу, на центральной площади против памятника Ленину, и вдруг осознала свое лукавство. Нет, не случайно шла она по этой улице, не напрасно любила эту дорожку. Прямо у ее ног начинались широкие мраморные белые ступени, которые вели к парадному угловому входу музея. Усмехнувшись, она обогнула его и вкатила непослушную розовую коляску во двор, в широко открытые ворота, прошла под деревьями, мимо знакомого грузовика, который стоял сейчас сломанный, скособоченный, подпертый кирпичами, мимо лохматой неухоженной клумбы, на которой бушевало что-то розовое и лиловое, к низкой пристройке. Здесь она поставила коляску в тень, погрозила Ромке пальцем, чтобы смотрел за сестрой хорошенько, и, наклонив голову, вошла. Она протискивалась между ящиками и глиняными кувшинами, рулонами бумаги и какой-то огромной картиной, стоявшей вверх ногами и изображавшей летающих людей. Наконец она попала в комнату, заставленную столами, как заправская канцелярия, и в этой комнате сидел Троицкий, исхудавший, загорелый, и тонким голосом ругал трех молодых женщин, которые при этом смотрели на него с обожающими улыбками.
Обернувшись, он увидел Ирину, вскочил и пошел ей навстречу.
– Ну ладно, – сказал он женщинам, – это все потом, потом. Идите сейчас. – И снова повернулся к Ирине: – Я рад вас видеть. Какими вы судьбами, Ирина Алексеевна?
– Специально к вам, – сказала Ирина, сама себе удивляясь.
– Неужели решились?
Она пожала плечами.
– Пойдемте во двор, Глеб Владиславович, покажу вам свои вериги.
– Ах, знаю я, знаю, – он замахал руками. – Ну и что? Дети будут расти, а вы работать… Ну пойдемте, пойдемте посмотрим.
Во дворе стоял рев, Ромка изо всех сил тряс коляску. Ира взяла тяжелую Кутьку на руки, повернула дочь покрасневшим орущим лицом к Троицкому.
– Ну вот, – сказала она, улыбаясь и удивляясь все нараставшей в ней радости, такой странной и острой, что хотелось зареветь вместе с Кутькой, – ну вот такие мы и есть, хотите – берите, хотите – гоните.
– Чего он орет? – испуганно спросил Троицкий. – Может, его надо покормить?
– Не знаю, Глеб Владиславович, она сейчас перестанет, это девочка…
И Кутька послушно перестала, замолчала; привалившись к Ирине, водила черными любопытными глазами.
– Вот и прекрасно, – сказал Троицкий, – прямо не знаю, с чего начать. Вы когда могли бы приступить к работе?
* * *
Большие события в жизни иногда начинаются так незаметно! Через три месяца она уже работала, сначала на полставки, а потом и полный день. Все оказалось так просто. Она тащила детей переулками к дому свекрови, толкала калитку, проводила их по бетонной дорожке мимо роющихся в соломе важных индюков и пестрых кур, мимо желтых дынь, лежащих на земле; потом она поднималась на крыльцо, разувалась в полутемном прохладном коридоре, вводила детей в комнату, застеленную коврами.
– Пришли? – спрашивала свекровь. – Ну, иди, дочка, иди, не беспокойся…
Почему этот способ раньше казался ей невозможным, удивлялась Ира, застегивая в коридоре босоножки, что смущало ее, что было не так? Дети будут накормлены и ухожены, будут играть в саду под виноградным навесом, будут знать язык и впитывать в себя воздух и быт своей родины. Что же в этом плохого?
А потом она торопилась по улицам, бежала, летела мимо глинобитных домиков, садов, заборов, под пыльными деревьями, старый город весь был глинисто-желтый, мягкий, в горячем зное и сухих и горьких ароматах пыли, потом выворачивала она к центру и здесь уже шла обыкновенным быстрым шагом, чтобы не привлекать к себе внимания, деловая, легкая, одна среди многих, так же, как и она, спешащих утром на работу. Но как сложна была эта простота, каких требовала трудных решений, какого смирения и в то же время какой высочайшей степени свободы. Но теперь она больше не думала об этом, она жила и не переставала удивляться, что работа может быть такой – на три четверти состоять из наслаждения, из бездумного, непосредственного общения с прекрасным. Она и раньше любила свою профессию, уважала ее, гордилась ею, но археология требовала терпения, долгого скрупулезного труда, выдержки, здесь же все начиналось и кончалось искусством, а писание бумаг, таскание тяжестей и другие подобные дела были только необходимой передышкой, трудовой разминкой, не более того. До сих пор не могла она поверить, что так бывает. А хитрый Троицкий к археологическим работам ее не очень и подпускал.
– Нечего, нечего, – говорил он, – вам только дай волю, а вы потом скажете: я археолог, остальное меня не касается. Да! И мне нужен помощник по всем моим делам, мне нужен заместитель, на которого я могу оставить музей, когда помру. И что вы ни черта еще не понимаете в искусстве, меня не волнует, научитесь, что-то в вас все-таки есть. Не зря же я за вами бегал столько лет.
А Ирина и не возражала, она влюблена была в свой музей, влюблена пылкой, восторженной любовью, которая озаряла все, что она делала здесь, заготовляли ли сотрудники уголь, сколачивали рамы, или ругались по телефону, пытаясь выбить запчасти для своего развалившегося грузовика, или с трепетом снимали папиросную бумагу с нового рисунка, который привез Троицкий из своих постоянных рысканий по Союзу. Ах, что это были за дни, когда он, нагруженный и счастливый, возвращался в Нукус! Дни открытий, восторгов, сомнений, когда хотелось еще и еще смотреть на новые сокровища, сравнивать, говорить, стесняясь себя, какую-то дилетантскую чепуху, и она, эта чепуха, к великому удовольствию и утешению Ирины, оказывалась уже не чепухой, а по крайней мере непосредственной зрительской точкой зрения, а иногда даже чем-нибудь большим, потому что Троицкий доверял ее вкусу и прислушивался к ней. И от этого она дурела, ей хотелось сказать еще что-то и еще, но она сдерживала себя, боясь, что он ее высмеет, и мысли накапливались, грудились, и однажды она поймала себя на том, что сочиняет в уме искусствоведческую статью. Это была уже наглость. Но Троицкий, узнав про это, потребовал статью эту предъявить в письменном виде, раскритиковал ее в пух и прах так, что от нее не осталось и строчки, и заключил неожиданно:
– Что ж, вот вы и становитесь самостоятельно мыслящим человеком. Я рад.
Незаметно промелькнуло время, Кутьке было уже полтора года, Ромке исполнилось пять. Вечерами, когда Ирина приводила их домой, сытых и полных впечатлений от встреч с козочками, собачками и барашками, их здоровое естественное детство пугало ее своей беззаботностью и беспроблемностью. Все было так хорошо и просто. Детей окружали своими заботами любящие бесхитростные люди, живущие в достатке и довольстве, дети жарились на солнце, ели истекающие соком спелые фрукты, бегали босиком по коврам и безмятежно смотрели, как бабушка Зивар сворачивает головы их любимым курам. Не слишком ли обильны были эти дары? Но она вспоминала свой дом и свое детство, то, далекое, когда еще был жив папа и Лиза жила дома и была хорошенькой девчонкой с золотистыми кудряшками над гладким лбом. Вот тогда Ирина тоже испытывала это чувство надежности и защищенности, из которого навсегда вынесла уверенность в своей ценности и значимости для мира, в своем праве на собственное существование и собственное мнение. Она, Ирина, начиналась оттуда, пусть теперь и ее дети чувствуют, что они любимы и обласканы всеми, что они приносят радость и что им на этой земле хватит солнца, воды и пищи.
Камал смеялся над ней, когда она путано и сложно пыталась объяснить ему свои сомнения.
– Не волнуйся, – говорил он ей, – заботы обязательно будут, просто у нас с тобой еще слишком мало детей, чтобы заметить от них беспокойство.
– Ах, не дразни ты меня, пожалуйста, я говорю о детях, а не о себе.
– Просто ты не можешь поверить, что жизнь прекрасна. Для того чтобы это понять глубоко, надо очень долго жить на Востоке. Ты еще не научилась.
– Я учусь. Я начинаю понимать, начинаю – и мне тут же делается страшно…
– А ты не бойся, отбрось все, доверься себе. Я ведь с тобой, ты помнишь? Помнишь?
Любовь их с Камалом оставалась все такой же пылкой, постоянные отъезды Камала подогревали и будоражили ее, и Ирину все чаще охватывало ощущение, что ей безмерно повезло в жизни. Она вспоминала Лизу и пугалась. Как она живет там одна, неуверенная в себе, молчаливая, сдержанная, живет и не знает, чем будет жить завтра.
Осенью Лиза с Женей прилетели к ним в гости, ненадолго, всего на неделю. Город им не понравился. Ирина не знала, чего они ожидали, но на лицах у них было написано разочарование. Они оживлялись только при виде юрт, ишаков и верблюдов, но, видимо, экзотики было маловато на их вкус, а остальное выглядело просто бледно. Какое счастье, что Ирина научилась смотреть на все совсем с другой стороны! Они с Камалом старались как могли – возили гостей на соленое озеро, на раскопки в пустыню, на охоту в плавни, где в сумерках слышна была угрюмая возня кабанов и утки целыми стаями тянули в бледном небе над голубыми зеркальцами озер. Этот вечер был, пожалуй, самым лучшим. Осенний воздух был прохладен и чист, и кругом была такая тишина, что даже шорох камыша, пышные метелки которого чернели на светлом небе, казался избыточным, излишним, красота была тоже излишней, ненатуральной, и только тогда, когда они вышли из плавней и в темноте пробирались к машине между корявыми кустарниками, перестало у них замирать дыхание и они смогли говорить. Они спотыкались, холодный песок попадал в туфли, влажные ружья отяжелели и пахли гарью. Охота не удалась, уток они настреляли мало, не было ни лодки, ни собаки, но они об этом и не думали, совсем другое их волновало – ночная жизнь пустыни, шелесты, движения, звуки, треск насекомых, вспыхивание чьих-то глаз в темноте. Неожиданно они набрели на бахчу. Присев на корточки, резали и ели холодные ароматные дыни, а кто-то из охотников вдруг выкатил в свет фар огромный белый арбуз, и они обрадовались ему, как диковинке, и, побросав дыни, упивались его темной сахаристой плотью с мелкими блестящими черными косточками. Ирина радовалась удаче этого вечера, она видела, как притихли Лиза и Женя, как изменились у них глаза, стали рассеянными и отвлеченными, ей так хотелось, чтобы они что-то поняли. Но на следующий день опять был обильный пир по полной программе местных обычаев, с индюками и баранами, с лапшой, мантами и пловом, с чаем вначале и дынями в конце, и Ирина просто отчетливо видела, как глаза у сестры снова бледнеют, тускнеют, лицо делается несчастным, речь скованной.
– А ты не ешь, – шепнула она Лизе на ухо, – положи на тарелку и сиди, есть совсем не обязательно.
– Не могу, вкусно, – ответила Лиза с мученической улыбкой.
Потом их одаряли подарками, на Женю надели огромный полосатый халат, в котором он утонул, и каракулевую папаху; Лизе накинули на плечи цветастый платок, потом долго прощались у калитки.
В музей Ирина привела сестру только в самый последний день, накануне их отъезда. Женя вообще идти не захотел, уехал с Камалом смотреть плотину, а Лиза послушно пошла, но Ира видела: в музей она тоже не верит, и не почему-нибудь такому, а просто потому, что их столичная логика исключала саму возможность существования чего-то действительно неординарного так далеко от центра. И поэтому, когда она поднялась наверх по шаткой деревянной лестнице и ступила в первый зал, лицо у нее вдруг стало совершенно растерянным, брови взлетели, а рот открылся, как у маленького ребенка. Ирина отдавала ей должное: в чем, в чем, а в живописи она разбиралась неплохо. Ирина с удовольствием наблюдала за ней, как она торопилась из зала в зал, потом возвращалась, кружилась, снова шла вперед.
– Ира, такого нет нигде, ни в Третьяковке, ни в Русском, – растерянно сказала она, – где он их набрал? Этого не может быть…
– Может, как видишь. И в экспозиции у нас жалкие крохи. Ты же видишь, какое помещение, закуток от краеведческого музея…
– Но откуда он раскопал этих художников? Я даже фамилий таких не слышала, а это большие, настоящие художники.
– Значит, поняла? Вот то-то. И все это богатство – наше. Смотри, изучай, исследуй – пожалуйста!
– Ты знаешь, как я назвала бы эту коллекцию? Неизвестные шедевры советского искусства!
– Может быть, и так. Пожалуй. Только ты ведь еще почти ничего не видела. Графику, например, мы вообще пока не экспонируем. Было бы время, я бы тебе показала, но видишь – завтра вы уезжаете.
– А мы тратили время на эти дурацкие сидения за столом! Я так рада за тебя, Ира. Не знаю, как там твоя археология, но сейчас вы делаете удивительное дело. Может быть, не меньше, чем сделал когда-то Третьяков. Я рада, что ты к этому причастна.
– Ну, я-то здесь совершенно ни при чем. Просто нахожусь рядом с великим человеком, вот и все. Ты знаешь, как это ни странно звучит, великих людей совсем не так мало. Они рядом. Они вокруг нас. Синицын тоже был из таких. А мы себе не доверяем, все шутим, все острим, ничего не принимаем всерьез!
Утром Елисеевы улетали. Дул сильный ветер, выбивая из глаз слезы. На аэродроме было пустынно и холодно, но провожающих собралось много, все хотели сделать гостям приятное. Их нагрузили дынями, яблоками, дичью. В глазах у Лизы стояли слезы, но все они плакали от этого чертового ветра, плакали, придерживая шапки и воротники, пыль несло по полю серыми волнами.
Потом они улетели, и проведенная с ними неделя повисла в воспоминаниях как что-то цельное, но отдельное от жизни и ничем с ней не связанное.








