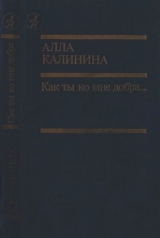
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Глава 20
В понедельник Вета приехала в институт рано с твердым намерением начать новую серьезную жизнь. Первая лекция была по допускам и посадкам, предмет, который она не удосужилась посетить еще ни разу, и от этого было у нее на душе тревожно, даже во сне снились эти проклятые допуски, черт его знает, что это такое, а ведь ей придется потом сдавать экзамен, и по книгам его не сдашь, обязательно нужны будут лекции. Словом, она решила: хватит валять дурака, пора отвлечься от своей любовной одури, учиться так учиться. Ах, эти добрые намерения! Одно досадное обстоятельство выявилось сразу же: оказалось, что лекцию читают не всему потоку, а только трем группам. В маленькой аудитории остаться незамеченной было трудно, и Вета приготовилась к неприятностям. Она села сзади, раскрыла тетрадь и принялась с интересом рассматривать лектора. Прежде она его никогда не видела. Это был маленький человечек с круглой веселой плешивой головой, в больших очках. Голос у него тоже был веселый, сильный, с какими-то самоуверенными игривыми всплесками в конце фраз. Вета безмятежно смотрела на него, но ей было не по себе, она ничего не понимала из того, что он объяснял, какая-то сплошная математика, а кроме того, ей показалось, что он заметил ее и несколько раз взглянул в ее сторону вызывающим цепким взглядом.
– Кто он? – спросила она у ребят, сидевших впереди.
– Горелик. Доцент с машиностроения. Мировой мужик.
«Мировой мужик» шел по проходу прямо на Вету смешной танцующей походкой. Брюки у него были широкие, как флаги.
– Здравствуйте, – сказал он, – с вами мы, по-моему, еще не встречались? Надолго к нам?
Вета усилием воли заставила себя не вскочить.
– Как понравится, – сказала она, леденея от ужаса.
– Ага. Зайдете ко мне после занятий. – Он с шиком развернулся и пошел по проходу назад, скрипя желтыми ботинками.
В аудитории гоготали, шептались. Вета сидела, уткнувшись в тетрадку. Все это было глупо, но ведь надо же было когда-то сюда прийти, надо было, в конце концов, расплачиваться за собственную глупость.
После лекции она догнала Горелика в коридоре. Он весело оглядел ее, подумал и сказал:
– Нет, мы же с вами договорились – после занятий.
Он принял ее только поздно вечером. В лаборатории никого не было, горел яркий свет. Горелик удобно сидел в кресле, у него были невероятные желтые ботинки на толстой подошве и яркий галстук.
– Та-а-ак, – протянул он, снова внимательно и дерзко разглядывая Вету, – значит, на лекции вы не ходите. Может быть, у вас оформлено свободное расписание?
– Нет, не оформлено.
Вета вздохнула. Что еще за допрос? Какое все это теперь могло иметь значение?
– Действительно, все дела, дела. Надо же когда-нибудь и отдохнуть, – Горелик улыбнулся. – Ну что, пошли гулять?
Так вот куда он клонил! Вета хотела рассердиться на него и не смогла, слишком он был неожиданный. И смешной.
Институтская дверь тяжело хлопнула за ними. Летел снег, и было совсем непохоже на весну. Ледяной ветер разом прохватил Вету. Она понимала – сейчас он будет стараться произвести на нее впечатление. Он говорил, а она слушала. Он начал рассказывать – о себе, о том, как он мальчишкой приехал в Москву, как строил «Шарикоподшипник» и остался работать на нем, стал фрезеровщиком, как впервые влюбился в девятнадцать лет. Вета слушала его с любопытством, он был прекрасным рассказчиком. Он говорил без перерывов, и все получалось у него интересно. Он волновался, забывал все вокруг, останавливался, размахивал руками, менял голос. Он сразу же начал говорить Вете «ты», и оба они не заметили, как это произошло.
Незаметно они забрели в ресторан, ели какой-то диковинный салат, запивали его красным вином, и Вета чувствовала себя такой легкой и свободной, какой не была уже давно. Они танцевали. Горелик был на полголовы ниже Веты, но их обоих это совсем не смущало. Вета слушала.
– Дальше… Что было дальше?
– Дальше собирался в Испанию, – ответил он, весело подпрыгивая в ритме фокстрота. – Не успел. Кончил курсы, представляешь – изучил испанский язык, и все зря, пока я собирался, у них там все кончилось, – он развел руками. – А потом уже сорок первый год. В общем-то, в нашем цеху вся молодежь пошла добровольцами. И попали мы тогда не в армию, а в ополчение, ну ты понимаешь. Это было ужасно. Наш эшелон разбомбили сразу же, возле Смоленска. Я выскочил из теплушки через крошечное окошко под потолком, вот такое. Как я в него протиснулся, до сих пор не пойму. Да еще с ранцем на спине. Я был связным, и у меня в ранце лежали ракеты. Словом, они у меня там все разом и взорвались. Со мной всегда происходят какие-нибудь чудеса, у всех людей нормально, а у меня – бог знает что. Подобрали меня через два дня. Если бы не телогрейка на меху и ватник, мне бы не выжить. А так ожога сильного не было, только контузило. Отправили меня в тыловой госпиталь в Томск. А как раз туда наш «Шарикоподшипник» и эвакуировали, надо же – такое везение! Только, знаешь, это очень длинная история, так просто не расскажешь. А тебе ведь, наверное, пора домой, правда? Двенадцатый час. Ты замужем?
– Да.
– Ну, вот видишь, тем более. – Он вздохнул и сразу же засмеялся. – А здорово мы повеселились, правда? Я тебе потом все дорасскажу, мы с тобой, как выберется время, еще куда-нибудь закатимся, ладно?
Дружба с Гореликом неожиданно захватила Вету, ей было с ним легко, он обладал удивительным даром жизнелюбия и непосредственности, умением отбрасывать от себя все, что мешало ему жить, веселиться, дышать, как ему нравилось. Он был чудесным приобретением. В институте он не скрывал их дружбы, ловил Вету в коридорах, весело подхватывал под руку, а на лекциях, на которые она теперь аккуратно ходила, без зазрения совести обращался только к ней и вообще не отрывал от нее глаз. Это сразу же стало темой беззлобных анекдотов его любили.
Они встречались чуть ли не каждый день, болтали, бродили по улицам, подолгу засиживались в кафе и ресторанах, в которых Горелик знал все ходы и выходы и всегда доставал столик. Вета возвращалась домой все позднее. Она хотела и не умела рассказать Роману об этих забавных отношениях, что-то в них было все-таки не так, и она боялась, что Роман ее не поймет. Но она не делала ничего плохого, просто ей было весело и интересно в этом театре одного актера, который обращался только к ней и старался для нее одной. Она, конечно, понимала, что вечно так продолжаться не может, но к чему было думать об этом сейчас, вот так сразу…
Однажды Горелик таинственно потащил Вету в глубину темных и гулких коридоров.
– Я хочу о тобой поговорить, – шептал он. – Слушай, как мы с тобой будем встречать Майские праздники?
Вета смутилась.
– Да что вы, Борис Захарович, в праздники я занята. У меня семья. Ну, чего же вы обиделись? У нас впереди вся жизнь.
– Ах, брось! Это только так кажется – вся жизнь. А потом хватишься, а все уже кончено, ты опоздал…
– Куда опоздал?
– Откуда я знаю – куда? Куда-нибудь. Когда не ценишь того, что посылает тебе судьба… Сейчас я расскажу тебе одну историю из моей жизни. Пойдем-пойдем, я тебя провожу.
Они вышли из института. День был сияющий, ослепительный, почти жаркий, в синем небе плавились легкие белые облачка, и сразу захотелось расстегнуться, зажмуриться, подставить лицо солнцу, ни о чем не думать.
– Благодать какая, – сказал Горелик, – видишь, как хорошо, что я тебя вытащил. Ну так вот, слушай. – Он подхватил ее под руку. – Все началось на выпускном вечере. В те времена я преподавал в техникуме, и выпускники у нас были совсем еще мальчишки и девчонки, по семнадцать – восемнадцать лет. Из преподавателей они позвали только двоих – меня и еще одного, мы были у них любимчики. На столе были закуски, обязательный винегрет и даже водка. Ребята окружили меня толпой и усиленно подталкивали к одной девчушке, такой черненькой и довольно милой. А, надо сказать, в те годы я ушел от жены и гулял холостяком, но все-таки ухаживать за этим ребенком мне просто не пришло бы в голову, Я даже спросил ее: «Тебе не скучно будет весь вечер сидеть со мной?» А она ужасно покраснела, вскинула голову и сказала: «А я только из-за вас и пришла». И я целый вечер болтал с ней, но принял все за шутку. А потом я вообще забыл о ней.
Но в сентябре она вдруг пришла в техникум. Мне сказали, что меня ждут. Я вышел из лаборатории и увидел в темном тупике в конце коридора девичью тень. Не знаю уж, каким чутьем, но я сразу понял, что это она. И она мне сказала очень сердито: «Мне надо с вами поговорить». И я ответил ей: «Иди на улицу и жди меня там. Я скоро кончу и выйду».
Когда я вышел, она ходила под забором взад и вперед и сжимала сумочку своими тонкими пальцами. «Вы, наверное, спешите домой, – сказала она, – я вас немного провожу». И мы пошли рядом по улице.
«Зачем ты пришла?» – спросил я ее, и она мне ответила: «Вы же знаете, я вас люблю». – «Это все глупости, девочка, милая, – сказал я, – ты так, наверное, влюблялась в школе в учителя рисования». – «Да, влюблялась, – ответила она, – но не так, и я не девочка, я любила и знаю, что такое любовь». – «Но ведь я женат, – ответил я в смятении, – у меня жена и дочка». – «Я знаю, – говорит она, – но, может быть, вы полюбите меня больше, у вас ведь не все ладится, правда?» – и она посмотрела на меня чистыми детскими серыми глазами. И скажу тебе честно, она мне очень нравилась. Мы ходили с ней в театр, потом несколько раз в ресторан, и она все смотрела на меня и ждала – слова, жеста, взгляда, чего-нибудь, чтобы прильнуть ко мне и любить меня. А я не мог, мне казалось, она не понимает, что творит, она была на семнадцать лет моложе меня, вдвое моложе, и я берег ее. Но ты думаешь, это было ей нужно? Она смеялась надо мной, она ругала меня и ненавидела, и наконец я сдался. И тогда она спросила меня: «Скажи, зачем тебе надо было так долго мучить меня?» И я ничего не мог ей ответить, я не знал, я не понимал этого. Вот так!

Пока Горелик рассказывал, все вокруг переменилось, сгустились облака, солнце заволоклось серой пеленой, подул ветер, холодный, колючий, и снова Вета увидела мелкий, стремительный, искристый снег. Она вздрогнула зябко и застегнула пальто.
– По чести сказать, я не поняла, к чему вы мне сейчас все это рассказали. И какой был конец у этой истории?
– Самый простой. Она вышла замуж. – Горелик улыбнулся, снял очки и протер их. – Ты знаешь, это было для меня большим горем. Мне казалось, что она обманула меня. Но она сказала, что была мне верна. «Просто я поняла, что ты никогда не женишься на мне», – сказала она. «Но ведь ты знала это с самого начала». – «Ничего я не знала, я надеялась». – «Мы еще увидимся?» – спросил я. «Может быть», – ответила она. Но больше она не приходила. Я ее потерял, вот в чем вся соль. Понимаешь? Я ее потерял!
– Господи, Борис Захарович! Какое странное направление приняли наши беседы. Не надо, прошу вас, не надо, я слишком дорожу нашей дружбой. Мы прекрасно встретим праздники в кругу семьи, а потом вы мне расскажете еще сто историй, всю вашу жизнь, день за днем. Ну, не сердитесь. Ну! До завтра?
Она довольна была, что вот сегодня придет домой пораньше.
Едва она открыла дверь, Роман вышел ей навстречу и встал в дверях, прислонившись плечом к притолоке, высокий, узкоплечий, серьезный.
– Вета, я хочу с тобой поговорить.
– Да?
– Только ты не подумай, что это минутное настроение, я давно все обдумал. Ты знаешь, как я люблю тебя, это неизменно, но для того чтобы тебя сохранить… для того чтобы что-то сохранить, нам надо на время разъехаться…
– Как – разъехаться?
– Конечно, я мог бы уйти сам, но здесь мама, вы с ней не особенно ладите, поэтому, я думаю, лучше тебе пока побыть у Юлии Сергеевны… И тогда, если ты почувствуешь… если ты захочешь вернуться… тогда мы попробуем начать все как-нибудь по-другому… Пойми меня, я больше так не могу жить. Я знаю, у тебя кто-то есть, какое-то увлечение, я не осуждаю тебя; наверное, в нашей безрадостной жизни это тебе необходимо…
– Рома, что ты говоришь?
– Не перебивай меня, я боюсь, что у меня не хватит мужества, но я должен сейчас все тебе сказать, все, что я думаю об этом. Я знаю, ты ко мне хорошо относишься… по-своему… Но мне этого мало, я хочу другого, я хочу…
– Рома, у меня ничего нет с этим человеком, это чисто дружеские отношения, поверь мне, мне просто с ним интересно, вот и все. Я в любую минуту могу это прекратить…
Роман вдруг застонал, сжал зубы и стал катать головой по дверному косяку.
– Я не хочу, чтобы ты прекращала, я хочу, чтобы ты жила, как тебе нравится, чтобы ты была счастлива, потому что я… больше жизни, больше жизни…
– Рома, прекрати. Хорошо, я уеду, раз ты так хочешь. Только, честное слово, это все ужасная глупость. Ну хорошо, я уеду, ты успокоишься, и тогда я тебе все расскажу, я тебя познакомлю с этим человеком, и ты увидишь, что ты был не прав, это просто очень интересный человек, но он совсем…
– Вета! Ради бога…
– Хорошо, хорошо… Ужасно, что мы не понимаем друг друга и не можем договориться.
– Вот именно.
– Что же мне делать? И что я скажу маме?
– Правду, иначе все это ничего не стоит…
– Какую правду? Хорошо, как хочешь, но это же все глупость!
– Пусть глупость. Я больше не могу ждать тебя вечерами, заглядывать тебе в глаза… я больше не могу.
– Вот так бы и сказал, что это тебе нужна свобода! Тебе, а не мне!
– Вета!
– В сущности, ведь ты меня выгнал из своего дома, ты это понимаешь?
– Ты не имеешь права так говорить, здесь все принадлежит тебе, все. И я тоже… как вещь, как вещь…
– Прекрати истерику и дай мне чемодан. Ты хотя бы отвезешь меня?
– Извини меня, я вызову такси. Извини меня…
Вета укладывала вещи, оглядывалась растерянно. Ей казалось, что все это сон, какая-то дурацкая мелодрама, в которой они выкрикивали чужие роли. Ей было стыдно и жалко себя, и какое-то ужасное чувство возникло у нее к Роме, чуть ли не брезгливости, – истерика, глупая ревность, нелепый спектакль… Неужели это он, ее Рома, всегда такой нежный, такой верный? Он прав, им надо разъехаться, надо прийти в себя. Она оглянулась на него. Он сидел бледный, отчужденный, уперев тяжелый подбородок в кулаки, и смотрел мимо.
И вот она снова оказалась дома, на своей старой квартире, в одной комнате с Иркой, которая не желала с ней разговаривать и даже смотреть на нее, как будто это она, Вета, была во всем виновата. И мама молчала, боясь завести опасный разговор.
И снова единственной отдушиной стал милый, веселый, легкомысленный Горелик, который понятия не имел, какую ужасную шутку сыграла с Ветой их невинная дружба, и рассказать ему об этом было совершенно невозможно – Вета выставила бы себя в самом дурацком свете, – поэтому оставалось слушать его нескончаемые истории и ждать.
Прошли Майские праздники. Роман не звонил. Началась зачетная сессия. Вета занималась равнодушно, вяло, в группе она чувствовала себя чужой, все события, все отношения как-то проскользнули мимо, она ничего не знала про своих ребят, а спрашивать теперь было неудобно, кто где живет, кто чем увлекается. И к ней относились ровно, приветливо, но без интереса. Как это случилось, что она оказалась одна? Может быть, здесь тоже сыграл свою роль Горелик? Кто знает, что о ней думали и говорили? Но нет, не в нем было главное дело, главное было в том, что она не любила свой институт. Ей было страшно подумать, что всю жизнь, всю жизнь она должна будет заниматься вот этим: строить эти ужасные диаграммы состояния, рассматривать эти рентгенограммы, читать эти толстые, нудные, мертвые книги, мертвые для нее одной, а для остальных – интересные и вполне живые.
– Знаешь, почему у тебя все эти глупые мысли? – сказал ей однажды Горелик. – Потому что ты не слышала моей вводной лекции. Если бы ты ее слышала, ты бы сразу поняла, что ты дурочка. Хочешь, я тебе ее прочитаю? Одной тебе, с вариациями.
– Это по допускам и посадкам? Дорогой Борис Захарович, ваш курс – это единственное из нашей программы, что я знаю твердо, и то потому, что привыкла смотреть вам в рот. Но ведь это ужасная скука, и, честно говоря, я удивляюсь, как это вы, такой… такой живой человек, могли выбрать себе такую сухую профессию. Я понимаю, вы ее, наверное, и не очень выбирали, так повернула жизнь…
– Правильно, так повернула жизнь. – Горелик обиделся. – Но профессия у меня – удивительная! Не просто основополагающая, об этом я тебе еще расскажу, но вершина технической мысли, совершенство, к которому будет вечно стремиться человечество и никогда его не достигнет.
– Борис Захарович! Побойтесь бога. Это из вашей лекции?
– Это вариации. Но это абсолютная правда. Хочешь, я тебе сейчас все объясню? Что такое допуск? Очень просто – это разрешение на ошибку, плюс-минус, которые можно сделать при изготовлении той или иной детали. Например, ты делаешь молоток. Нужно тебе, чтобы он сиял? Нужно, чтобы размеры сходились до третьего знака? Конечно, нет. Это будет просто пустая трата сил, тут даже и понятия такого, как допуск, не нужно. Другое дело, если ты фрезеруешь какую-нибудь там шестеренку. Тут уж извини! Тут уж я тебе не то что миллиметра – микрона не прощу, уж потрудись, рассчитай! Это в отношении точности. А чистота поверхности? Может быть на шестеренке заусенец? Ну, заусенца, положим, и на молотке быть не должно, но шестеренка? Ты мне поверхность обработай, зачисть, отшлифуй, надо – полируй, надо – отхромируй или там отфосфатируй, это от технологии зависит, но она должна быть как игрушечка. А иначе это никакое не производство, а артель шараш-монтаж, каменный топор в руках первобытного человека. Есть моя наука – есть современное производство, а нет – закрывай лавочку, в наше время тяп-ляп не пройдет.
Теперь – посадка! Когда одна деталь, тут и ошибка одна, а если их надо соединить, насадить одну на другую, что тогда? А то, что одну ошибку надо делить на двоих; значит, каждую детальку изволь изготовить вдвое точнее, а то там плюс, здесь минус, как ты их посадишь? Да никак. Это брак получится чистой воды. И ты думаешь, это только мелких деталей касается? Нет, это касается всего современного производства, и все должны это понять как можно быстрее. От моей науки все зависит – надежность, рациональность, красота, наконец, черт возьми. А знаешь, что сказал один умник, Дирак, кажется? Он сказал: если формула красива – она верна! И это так, уверяю тебя, так! Это надо только очень глубоко понять. Так и в машиностроении. Чистота поверхности – это и рациональность, и красота, это неразрывно, поэтому оно и красиво, что виден класс! Ты поняла?
– Я поняла только, что вы можете одушевить что угодно.
– Правильно, одушевить можно все. Я знал одного человека, который слагал поэмы в честь утильсырья. Он говорил: «Вы не знаете, что такое утильсырье. Утильсырье – это золотое дно…» Я мог бы тебе рассказать целую историю…
– Борис Захарович, умоляю, не отвлекайтесь, до утильсырья я, слава богу, не дошла.
– И не надо, не надо. Ведь все, что я говорю, совершенно серьезно. Так вот, ты представь себе – самая наиточнейшая, наисложнейшая деталь, самые высочайшие требования. Казалось бы, что может быть выше? Я скажу тебе – что. Инструмент! Инструмент, которым ты делаешь эту деталь, и инструмент, которым ты ее проверяешь. И этот инструмент, как к бесконечности, стремится к эталону, а эталон… увы, это только модель математического совершенства. Бесконечное стремление и вечная неудовлетворенность – вот что такое моя наука!
Черт! Я только-только дошел до самого главного, а уже пора отпускать тебя домой. Как мы договорились, в восемь часов, ни минутой позже. Хотя, конечно, ужасный формализм. Может быть, останешься? Я тебе все дорасскажу…
Ну что можно было с ним поделать! На него нельзя, да и не за что было сердиться.
Вета смеялась, качала головой:
– Нет, Борис Захарович! Нет-нет, завтра…
В восемь она бежала домой – ждать Роминого звонка, так она решила.
Но Роман не звонил.
Глава 21
В жизни Романа началась новая полоса. Вот уже больше полугода он работал в современной мощной фирме и сразу же понял, как это важно. Здесь все было поставлено на широкую ногу: лаборатории, мастерские, заводы. Ничего не надо было выпрашивать, месяцами ждать, он подавал заявку и волшебным образом получал все, что ему было нужно. Академическая уважительная простота отношений каким-то чудом сочеталась с почти военной дисциплиной, сроки соблюдались строго, с точностью до дня, и работать было легко. Встретили его без любопытства, но приветливо, и он был счастлив, что ему не лезут в душу. Огромным везением было то, что его работа, на которую он столько сил положил еще у Михальцева, оказалась полностью в русле тематики новой лаборатории, и он продолжил ее, почти не почувствовав сбоя; наоборот, он получил наконец то, чего ему так недоставало прежде, – базу. Он провел несколько коротких серий экспериментов на кем-то смонтированном чужом шикарном оборудовании, и работа получила свое завершение. Он мог приступать к ее оформлению. Вот когда пригодились ему долгие сидения в библиотеках, ночные бодрствования за бесконечными расчетами, – через два месяца докторская оказалась на выходе. И это никого не удивило и не раздражило, это было нормально, его защиту уже поставили в план на ноябрь текущего года.
Все было прекрасно. Все было бы прекрасно, если бы только не вечный страх, терзавший его дома, – страх, что Вета не любит его, что Вета несчастлива, что Вета от него уйдет. С некоторых пор он стал замечать, что кто-то вошел в ее жизнь. Она стала приходить домой все позже, возбужденная, довольная, жизнерадостная, что-то шевелилось, вздрагивало в ее светлых, как льдинки, глазах, губы сами собой, без ее воли, улыбались. И с Романом она была веселая, ровная, чуть-чуть небрежная. Он искал в ее лице смятения, неуверенности, тревоги и не находил. Неужели все зашло так далеко, что она не чувствует уже никаких обязательств, никакой ответственности за их нелепую семейную жизнь? Да она просто плюет на него, Романа, на все его надежды и страдания, она смеется над ним. Тысячу раз он хотел поговорить с ней, спросить ее и не решался. Он знал, что услышит в ответ: «Да, Рома, ты прав, я люблю другого, нам надо разойтись». Эта фраза звучала у него в голове днем и ночью, снилась во сне, вызванивала на разные голоса в шуме душа по утрам, в уличных звуках, в бормотании радио в столовой. Он чувствовал, что сходит с ума. И однажды он понял, что он один виноват во всем, он не сумел, не сумел привязать ее к себе, а значит, должен дать ей свободу. Хватит терзать ее и себя. Пусть она будет счастлива, и тогда, тогда когда-нибудь он тоже найдет покой.
После разговора с Ветой, после ее стремительного невероятного отъезда, после ее непонятных слов о скором возвращении, сказанных таким холодным, таким ироническим тоном, что Роман просто не в силах был понять их простой и однозначный смысл, он оцепенел, погрузился в бездумную, мрачную бездеятельность. Он приходил с работы и, не раздеваясь, ложился на кровать, лежал часами без мыслей, без сна, с открытыми глазами. Потом вставал, закуривал и садился работать. Сверка, считка, вычерчивание графиков – вся эта механическая работа шла у него легко, гладко.
С Марией Николаевной он почти не разговаривал и на несколько ее обиженных попыток вывести его из прострации отвечал торопливо и невпопад: «Все кончено, для меня все кончено…» Звонить Вете он не пытался, ему казалось невероятным, что она живет где-то рядом, в Москве, что ей можно так просто позвонить и услышать ее голос или увидеть ее, высокую, таинственную, непостижимую, с холодными, удивленными глазами; ему казалось, ничего этого не было и не могло быть, как будто она приснилась ему во сне.
Потом наступило прозрение. Однажды утром он проснулся, и его окатило жаром от страха перед тем, что он натворил. Даже если Вета была в кого-то влюблена, даже если изменяла ему. Мало ли что могло случиться в ее жизни, которую он не сумел защитить, вобрать целиком в себя. Ну и пусть, пусть! Не с ним первым это случилось. Почему же он оказался таким требовательным, таким жестоким, почему прогнал ее? Это ему только казалось, что он дал ей свободу, – нет, он ее именно прогнал, ведь она не хотела уходить, просила его опомниться. Но он не послушал ее, сам подтолкнул к еще не решенному, может быть, совсем не нужному шагу, к какому-то чужому, случайному человеку.
Надо было бежать туда, просить прощения, умолять ее вернуться, надо было… Но он боялся. Безвольный, отупевший, растерянный, он совсем перестал спать, по ночам строил нелепые планы, представлял себе десятки вариантов встречи с Ветой, переживал их во всех подробностях, обливался счастливыми слезами, а утром опять ни на что не решался, откладывал разговор на день, до субботы, до понедельника. Его пугало, что она не звонит, что никто не звонит.
Однажды он решился и быстро, не думая, позвонил. Подошла Ирина. Она сказала: «Рома! Она недостойна тебя…» – и зарыдала. Роман ничего не понял. Прошла еще неделя, прежде чем он сел и написал ей письмо. Он писал:
«Дорогая моя, любимая моя Вета!
Я понял, что бесконечно виноват перед тобой и должен просить у тебя прощения за свой ужасный поступок. Не знаю, простишь ли ты меня, но прошу тебя верить, что чувства мои к тебе останутся неизменными, что бы ни было и как бы все ни случилось дальше. Я понимаю, что просто посадить тебя в машину и привезти домой было бы слишком просто, слишком прекрасно, не знаю, захочешь ли ты снова быть со мной, но живу надеждой, что однажды такой день настанет.
Вета! На днях я улетаю в командировку. Там я выступаю с докладом на конференции, побываю на одном очень интересном для меня заводе; может быть, получу там отзыв о практической ценности моей диссертации. Все это займет недели две, а потом…
Мне страшно и радостно думать, что я снова увижу тебя, и ты простишь меня, и все опять будет хорошо, не так, как прежде, а в тысячу раз лучше, потому что, получив такой урок, жить по-прежнему уже нельзя.
Дорогая моя девочка! Если тот человек, который встретился на твоем пути, если он достоин тебя и ты его любишь, то я не буду и не хочу тебе мешать. Но ведь ты сказала мне, что все это не так, и я верю тебе и надеюсь доказать, что я еще способен измениться к лучшему.
Как только я вернусь, я приду к тебе, сяду и буду ждать тебя, сколько бы ни пришлось, пока ты простишь меня и согласишься ехать со мной домой или куда тебе придет в голову, все равно. Теперь, когда я наконец решился написать это письмо, я уезжаю с легким сердцем, полный надежд на нашу скорую встречу.
Еще раз прости. Целую тебя, целую, целую, целую и обнимаю.
Твой Роман».
* * *
Был конец мая, последнее затишье перед сессией, когда уже кончились занятия, зачеты были кое-как сданы и расписание известно, но сразу засесть за подготовку к первому экзамену еще не хватало духу. Все зеленело вокруг, чистое, благоухающее, отмытое дождями. Черемуха отцвела, засыпав дворы белыми лепестками, и уже наливались, готовясь лопнуть, темные гроздья сирени. Погода стояла жаркая, и ребята уже ездили компаниями купаться в Серебряный бор. Но Вета не ездила с ними, ее забывали позвать, да и не хотелось, она разленилась дома, забылась, жила как во сне, как в детстве, как будто Роман, замужество, поиски любви – все это ей приснилось.
Один только верный рыцарь Горелик не оставлял ее; плешивый, круглолицый, в больших очках на коротком тупом носике, с всегда радостно приоткрытым крепким веселым ртом, он вышагивал рядом с нею в своих широких, как флаги, брюках, провожал ее до метро, ждал, ловил в коридорах. И новые истории сыпались из него как из рога изобилия, развлекая Вету и делая ее жизнь еще более нереальной.
В воскресенье с утра они поехали в парк, в Измайлово. Был чудесный день.
– Ты помнишь, я хотел рассказать тебе свою главную историю о том, как я стал инструментальщиком. Ты меня слушаешь?
Вета была рассеянна, отвечала не очень уверенно, но Горелик не замечал этого, он уже весь кипел пылом и вдохновением.
– Так вот, слушай, – начал он свой рассказ. – Это было в Томске, помнишь, я рассказывал тебе, как попал туда после ранения. Сорок первый год, все на фронте, старых заводчан – почти никого, набрали народ из деревень, все больше женщины да подростки, расставили станки чуть не в чистом поле. И тут директора нашего вызывают в Москву, не знаю, может быть, даже сам Сталин, а может быть, кто-то другой, но приказ получен суровый – через два месяца завод должен начать выпускать продукцию. И не старую, а новую, боевую. Вот так просто. И что ты думаешь? Завод заработал через два месяца, день в день. Не буду тебе рассказывать, чего это стоило, да и было это еще до меня. А когда я пришел на завод, он уже работал полным ходом, работал, и новая продукция шла не бог весь какая, почти кустарная, но основному требованию времени она удовлетворяла, взрывалась в положенный час и в положенном месте, вот и все. Казалось, чего еще хотеть в то страшное время, но это только казалось. А на самом деле с каждым днем нарастала катастрофа, завод задыхался, погибал, еще не успев подняться. И знаешь, почему? Вот из-за этого самого двухмесячного срока. Директор-то наш все понимал, но он был прижат к стенке, думал – потом как-нибудь выкрутимся, но как тут выкрутишься, когда рабочие два месяца назад впервые увидели станок, и план непосильный, и работает половина детей? То заснут, то опоздают, то плачут, а то и подерутся. Да и женщины не многим лучше – деревенские, непривычные. Какое тут наверстывать? Тут бы как-нибудь дотянуть план. А катастрофа-то знаешь в чем заключалась? В базе. Развернули они за эти два месяца одни производственные цеха, чтобы, значит, быстрее. А инструментального – нет, экспериментального – нет, еще тысячи служб – нет. Ты думаешь – какие, к черту, в такое время эксперименты? Нет, голубушка, экспериментальный цех – это будущее завода, без него он ни развиваться, ни жить не может, без него завод задыхается, катится назад. А уж инструментальный – тут и объяснять не надо, это – зарез, смерть. Нет инструмента – встали твои станки, зачем они? Какой план? А ведь из Москвы инструмента не напасешься. Вот и настал момент, когда завод того и гляди остановится.
Пытались, конечно, наладить это производство, я имею в виду инструментальное. Но в том-то и дело, что это тебе не снаряд. Тут нужна культура производства, тут нужно все – и никаких скидок, тут нужно работать так, как будто никакой войны нет, не было и не будет и никуда ты не торопишься. Чтобы была термичка и чтобы была гальваника, и не какая придется, а хромировочка, и чтобы все по ГОСТу, и материалы и технология. А война-то идет, и похоронки уже посыпались, и возможностей – ну никаких! Вот тут меня и вызвали, поставили к кормилу, так сказать, власти. Думаешь, потому что я такой хороший? Нет, конечно, я ведь тогда сопливый еще был, да только кого же еще? Все-таки я старый заводчанин, фрезеровщик, голова на плечах, вот и стал начальником цеха. А цеха-то и нет, одни страдания. Эх, молодость! Сейчас бы я, наверное, в военкомат – и дёру! Все-таки шанс бы был какой-то, а тогда… Даже возгордился! Я – начальник цеха!








