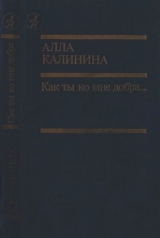
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
Глава 15
Декабрь был снежный, сырой, серая мгла лежала низко, на самых крышах, и казалось, солнце вовсе не показывается в небе, в два часа уже было темно. И только вечерами, когда на улице зажигались огни, мутные, желтые, в ореолах словно висящего в воздухе снега, делалось как-то веселее на душе. За запотевшими окнами магазинов клубились тени, машины ползли по улицам осторожно, из-за дощатых заборов, скупо обведенных цветными лампочками, запасливые женщины уже тащили первые елки, и вокруг них радостно прыгали закутанные, смуглые от румянца дети.
– Какая у нас все-таки северная страна, – говорила Вета, – подумать только, зима без конца и края, пять месяцев зимы…
– А человечек маленький, голенький, брось его в лесу, нипочем не выживет, – подхватила Ирка, – а нам объясняют, что он – царь природы. Какой же он царь, если не приспособлен к жизни на собственной земле?
– Ира, сними локти со стола, – автоматически, привычно сказала Юлия Сергеевна; она думала о чем-то своем, отхлебывая мелкими глоточками чай из синей кобальтовой чашки с тонким золотым узором.
Вечер был длинный, тихий, Вете так не хотелось уходить отсюда.
– Мам, а когда ты делаешь котлеты, ты чеснок кладешь?
– Кладу. А ты что, взялась за готовку?
– Нет, не взялась. Просто у нее котлеты ужасно невкусные, и борщ невкусный.
– Вот взяла бы сама и приготовила.
– Как же я приготовлю? А она? Мама, неужели вся жизнь вот так и будет: зима – лето, зима – лето, институт – работа, а потом умирать?
– Еще перед этим детей нарожаешь, чтобы было кому ныть после тебя, – добавила Ирка; она снова улеглась грудью на стол, положила на руки темноволосую голову, смотрела весело, задумчиво, лукаво. Ирке шел уже пятнадцатый год, и она очень изменилась, повзрослела, но не выросла, просто другие стали движения, тоньше лицо, изменилось выражение синих с золотым блеском глаз.
– И детей рожать тоже некогда, мне еще четыре года учиться. Скука!
– Вот так новости, ты же в таком восторге была от практики, а теперь вдруг – скука. – Юлия Сергеевна кончила пить чай и сразу же стала собирать со стола посуду.
– То был завод, мамочка, а здесь математику надо сдавать, а я ее всегда ненавидела, ты же знаешь. Ир, а у тебя как с математикой?
– У меня? Никак, у меня со всем никак. Потому что я бесталанная, не то что ты. Мне про тебя в школе все уши прожужжали, какая ты и какая я. Но в твой институт я точно не пойду. Потому что я, Вета, по складу гуманитарий, мне нужно что-нибудь такое, мечтательное.
– Я ей говорю – иди в медицинский, а она и слушать не хочет.
– И не хочу, не хочу, я и папе говорила. Потому что, если бы я пошла в медицинский, я бы умерла от одного воображения, посмотрю на человека, и сразу представлю себе, чем он болен, и сразу окажется – все больные, все умирают, это ужас какая будет жизнь. А я люблю, когда весело. Помнишь, Вет, как у нас раньше было?
Вета снова взглянула на часы: пора, давно пора уходить. Она подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу, вгляделась в темноту.
– Все крутит и крутит, ужас сколько навалило снега. Ну ладно, я пойду, вы тут не скучайте без меня, скоро забегу.
И сразу метель подхватила ее, толкнула в спину, погнала по улице, по знакомой дорожке: метро, четыре остановки, эскалатор, двором назад, через дорогу и дальше по переулочку, по этой дороге она, кажется, могла двигаться даже во сне.
Пока Вета поворачивает ключ в замке, уже слышатся торопливые, тяжелые Ромины шаги, он не может удержаться, кидает сигарету, всегда бежит ее встречать. Объятия, поцелуи, она раздевается, болтает чепуху, летит по квартире, веселая, как птичка. А потом, в темноте, в слабом свечении снега и уличных фонарей, холодно, отстраненно, молчаливо наблюдает за ним, как он раздевается, высокий, узкогрудый, с мягким животом и толстыми плоскостопными ногами. Нет, нет, неправда, она любит его, любит и жалеет… и еще что-то… И кроме того, она не знает, может быть, так все и надо, может быть, такая и есть любовь, и она потом привыкнет. Все может быть.
* * *
В столовой у мамы, в простенке между окон, стояла большая пушистая елка, и в комнате стало тесно, уютно, кисленький запах хвои мешался с запахами пирогов и мандаринов. Веге все-таки удалось уговорить Марию Николаевну. Это было трудно, очень трудно: «Да, Мария Николаевна», «Конечно, Мария Николаевна», «Как вы думаете, Мария Николаевна?» Потом дальше: «Не беспокойтесь, Мария Николаевна», «Я помогу, Мария Николаевна». Вета понимала – если бы свекровь могла растаять, может быть, она бы уже и растаяла, но она не могла. Спасибо, хоть перестала сверкать на нее глазами, даже стала называть по имени. Странно у нее это получалось, со скрипом, с натугой и на «э»: «Э… Вэ-э-та». Но все-таки это была уже победа. А Рома, тот вообще расцвел, сейчас его можно было отвести на веревочке не только к Юлии Сергеевне, хоть на бойню! Ах, стыдно, стыдно было лицемерить! Но что же делать? Не пропадать же ей совсем, не пропадать же Новому году! И вечер оказался неожиданно теплым, семейным, мирным. Часов в десять вдруг пришел поздравлять папин сослуживец Федоренко с огромным фигурным тортом, его уговорили остаться, он обрадовался, смешно ухаживал за мамой, рассказывал старые, не очень приличные анекдоты, а мама расцвела и все время обращалась к нему: «Сергей Степанович… Сергей Степанович…»
Завели патефон, Роман без конца танцевал с Ветой и Ирой, строго по очереди. Он был счастлив, смеялся высоким, сдавленным, хрипловатым смехом, откидывая голову назад, кружился, щелкая каблуками, а Федоренко вытащил Марию Николаевну и несколько раз старомодно и ловко провел ее по комнате под страстные стенания тенора:
Бессаме, бессаме муччо…
Мария Николаевна держалась серьезно, с достоинством, но потом не выдержала, села за пианино, и ее бурная, страстная, стремительная игра, так непохожая на нее саму, произвела на всех такое же сильное впечатление, какое производила в детстве на маленького Рому. Все слушали, сгрудившись вокруг пианино, взволнованные, серьезные. Незнакомая, свободная, явно импровизированная музыка, не по радио, не в концертном зале, а здесь, рядом, в тесной комнате со сдвинутыми стульями и накрытым столом, была другой – прекрасной, важной, имеющей к каждому новое, личное отношение, и все замерли, задумались, даже изменились в лицах. И снова Вета, как той далекой морозной ночью в детстве, унеслась душой в какие-то непостижимые черные космические дали, и снова ощутила провал, бесконечность, сияние звездных миров, стремление улететь, расплавиться, слиться с вечностью. И хотелось, чтобы это продолжалось, длилось!
– Мария Николаевна, дорогая, как это было прекрасно, – говорила Юлия Сергеевна со слезами на глазах, – как это было прекрасно…
Мария Николаевна принимала похвалы сдержанно, сухо наклоняла голову и, только когда Рома поцеловал ей руку, наконец улыбнулась, несколько раз провела этой маленькой белой сухой рукой по его волосам.
– А все равно она зануда, – успела шепнуть Ира Вете на ухо, но тут вдруг засуетился Федоренко:
– Товарищи! Мы же опаздываем, товарищи, Новый год! Осталась одна минута! Шампанское, скорее!
Ира зажигала на елке свечи, погасили свет и посидели минутку в темноте, глядя, как едва колышутся в жаркой комнате слабые желтые огоньки в прозрачных чашечках растопленного воска, из которых то и дело стали скатываться бледные, застывающие на ходу слезинки.
А потом Вета незаметно заснула в углу дивана, и Роман не стал ее будить, он заторопился, чтобы успеть отвезти на метро Марию Николаевну до закрытия.
На следующий день все встали поздно, возились с посудой, доедали остатки вчерашних яств. Но Ирка неожиданно сказала:
– Вообще-то нехорошо. Потому что я бы, например, на его месте обиделась.
* * *
Любовь Романа была мукой, вечной пыткой, дрожанием, трепетом перед этим невозмутимым чистым существом, далеким от него, равнодушным к нему. Ну что мог он с ней поделать? Он жил в постоянной лихорадке надежды и отчаяния, он отупел, растерял друзей, забросил работу, не мог читать. Он не знал, как убить бесконечные пустые зимние вечера, когда ее все не было и не было дома, а он каждую минуту ждал ее, боялся отойти и не мог никуда позвонить. А когда она приходила, все делалось еще сложней.
Вот какая выпала ему судьба. Но он не жаловался, нет, он любил, задыхался от задушенной тайной страсти, впервые в жизни. Он думал: «Этого могло вообще не случиться. Я мог не знать ее, не увидеть, не встретить, я мог никогда даже не почувствовать ничего подобного тому, что сейчас переживаю. Какой ужас!»
Просто надо было взять себя в руки и ждать, ждать, ждать. Никто не мешает ему наслаждаться тем, что ему выпадает, тайно, блаженно, безответно. Он был смешон сам себе в роли подпольного сластолюбца, но что он мог поделать? «Работать – вот что, – говорил он сам себе, – ра-бо-тать».
А на работе тоже все было непросто. Собственно, сама-то работа шла нормально, даже хорошо. Тот метод расчетов, который он предложил и использовал в своей диссертации, оказался плодотворным, полезным, они обсчитали заново несколько узлов и получили интересные результаты, их группа оформила уже одно авторское свидетельство, и готовилось второе. Но тут произошла досадная история. Роману позвонил Ивлиев, фигура известная, значительная, заведующий лабораторией смежного института, и попросил срочно к нему заехать, дело не терпело отлагательства. Роман удивился: никаких особых контактов с лабораторией Ивлиева у него никогда не было, а начинать их он не был полномочен, да и не интересовался тематикой Ивлиева. Об этой тематике знал он кое-что от аспиранта Ивлиева – Рыбачкова, который однажды приезжал к нему с каким-то письмом знакомиться с работой Романа. Работа эта была ему совершенно не нужна, потому что диссертация его была уже практически закончена и пересчитывать все сначала по методу Романа не имело никакого смысла. Однако Рыбачков расспрашивал обо всем с горячим интересом, он сразу ухватил суть работы Романа, понял, что применять ее можно практически везде, в ней важен был сам принцип, и поэтому она оказывалась не просто методической, а открывала целое новое направление исследований. Но тогда все разговором и закончилось, а теперь Ивлиев срочно вызывал Романа к себе.
Роман поехал со смутным чувством ожидания неприятностей и не ошибся. Все было странно. Солидная секретарша колыхнулась ему навстречу, встала и открыла дверь в кабинет, и Ивлиев в кабинете был один, явно ждал Романа, и тоже поднялся ему навстречу, высокий, громоздкий, седой. Это было на него не похоже, Ивлиев был человеком крутым, распущенным, властным, его не любили и побаивались. Он был из тех, кто не понимает власти без грома и крика, а сейчас перед Романом был сахар медович. Он усадил Романа в кресло и своим высоким бабьим голосом, так не подходившим к его внушительной фигуре, стал расспрашивать Романа о делах в институте и его, Романа, делах в частности. Роман отвечал скованно, неопределенно, ожидая, когда же он перейдет к своему интересу, и Ивлиев перешел:
– Вот в чем дело, Роман Алексеевич…
– Александрович… – поправил Роман.
– Так вот в чем дело, Роман Александрович, мне предложили написать книгу, монографию. Это будет большая, солидная книга, которая обобщит все накопленное за последние годы, книга уже в плане. Так вот, чтобы сразу взять быка за рога, я хочу использовать в ней ваши материалы. Вы знаете, как я вас высоко ценю. Правда, ваша методика не так уж нова, но в отечественной литературе вы… безусловно… Словом, я приглашаю вас быть соавтором одной из глав, вот ознакомьтесь с планом монографии, он уже утвержден ученым советом.
Роман растерянно взял одинокий серый листок и пробежал его глазами. Так он и знал. Книга вся, целиком, была посвящена его проблеме, а его приглашали участвовать в одной убогой методической главе. Да, Ивлиев не терял времени даром, он разобрался в проблеме как следует, ничего не забыл, ничего не пропустил, все оценил по достоинству, это был наглый грабеж. Зачем он позвал Романа, чего хотел от него? Дополнительных материалов? Но все основные данные были опубликованы в статьях, все подробности были в диссертации, а проблему в целом и ее значение Ивлиев прекрасно почувствовал сам. Какая альтернатива была у Романа? Стать соавтором, имя которого будет напечатано в конце, в оглавлении, мелкими буквами, или оказаться совсем ни при чем. Конечно, согласись он – к Ивлиеву вообще не может быть никаких претензий, они написали монографию вместе…
Роман поднял глаза. Ивлиев сидел как ни в чем не бывало, улыбался большим расплывчатым щербатым ртом, белые брови вопросительно-приветливо приподняты:
– Ну так что?
Роман покачал головой:
– Нет, Владимир Иванович, мне ваше предложение не подходит.
– Ну, на нет и суда нет, – удовлетворенно откликнулся Ивлиев и сразу торопливо стал подниматься из кресла.
– Правда, я не уверен, есть ли у вас моральное право на такую монографию, – решился Роман и тоже поднялся.
– Моральное право? Ха-ха-ха, – Ивлиев захохотал и стал радостно хлопать Романа по плечу. – Какой вы, однако, странный, наивный человек, неужели вы думаете, что что-то в науке принадлежит вам или мне, наука не знает границ, я пишу монографию, ее будут читать ученые, на ней будет учиться молодежь, а вы хотите хранить свои секреты для одного себя и вместо славы обретете безвестность. Кому нужна ваша кубышка?
– Но ведь вы беретесь за чужую тему.
– Ну вот вы опять, – сказал Ивлиев плачущим бабьим голосом, – чужое, свое… Это наука, это общее. И, кстати, у меня есть статья с Рыбачковым, довольно обширная работа, и, между прочим, опубликована еще до вашей защиты. Не читали? Не может быть. У нас многие, многие выводы совпадают. Я думаю, вы читали, просто, знаете ли, уверен…
– Не хотите ли вы сказать, Владимир Иванович, что это я воспользовался вашими данными?
Ивлиев вдруг побагровел, улыбка сбежала с его лица, и оно сразу стало злым, барственным.
– Ну, знаете, Ивановский, вы переходите все границы, где вы воспитывались? Я, понимаете ли, не мальчик, чтобы выслушивать ваши грязные намеки. Я сделал вам серьезное, солидное предложение, а вы грубите, разводите какие-то склоки. – Он помолчал и вдруг выкрикнул своим пронзительным противным голосом: – Склочничать нехорошо, стыдно, молодой человек!
Роман выскочил из душного кабинета, секретарша теперь не поднялась, а только выглянула любопытно из-за огромной пишущей машинки, она все слышала. Так вот для чего вопил Ивлиев. Он предупредил его, как будут расценены любые его шаги. Он сделал больше, уже пустил о нем поганый слушок: этот Ивановский неблагородный человек, склочник. «Господи, и почему я такой невезучий, – со злостью думал Роман, – почему это должно было случиться именно со мной?»
Вернувшись в институт, он сразу же разыскал своего начальника и, волнуясь, прямо в коридоре в лицах передал ему весь разговор. Михальцев задумчиво скреб синюю щетину на щеках.
– Вот проходимец, – сказал он, – вот мерзавец! Прощайся теперь со своими амбициями, этот из зубов ничего не выпустит. А ты тоже хорош, помчался! Кто тебя к нему гнал? Почему со мной не посоветовался? Я бы тебе сразу сказал, что с этим разбойником нельзя иметь дело.
– Ну и что? – усмехнулся Роман. – Что бы изменилось?
– Что бы изменилось… Ничего, конечно. Послушай, а ведь, пожалуй, есть выход! Честное слово, есть, Роман! Книга-то дело долгое, не то что статья, и агентурные данные у тебя есть, ты видел план. Сейчас накатаешь статью, большую, теоретическую, тебе, дураку, давно надо было ее написать, и отправим в солидный журнал, в академический, это я беру на себя. Только бы не попала к Ивлиеву на рецензию, за этим надо будет последить, и мы еще посмотрим, чья возьмет! Ах ты, собака, ты еще у нас попляшешь!
И теперь Роман корпел над статьей. Нет, это было совсем не так просто превратить свои мечты, предвидения, надежды во что-то осязаемое, доказанное, явное. Одно дело – изложение конкретных материалов, расчеты, в которых он чувствовал себя как рыба в воде, и совсем другое – теория, где каждое слово надо было взвешивать, обдумывать, проверять, и от этого слова делались неповоротливыми, деревянными, мысли лишались полета, застывали, кружились на одном месте. Легко будет Ивлиеву с его авторитетом, с его беспринципностью, наглостью, равнодушием к проблеме. Роман же дорожил в ней каждой мелочью и не мог, не мог позволить себе ни неточности, ни небрежности. Он сидел в столовой за обеденным столом, обложившись бумагами, подперев рукой тяжелый подбородок, писал, черкал, надолго задумывался, курил, прислушивался к Ветиным шевелениям, скрипам, смешному бубнящему голосу там, за дверью их комнаты. Вета тоже занималась, у нее началась сессия. Иногда Вета входила, заглядывала ему через плечо, вздыхала:
– Господи, надоело-то все как! Зубришь, зубришь… А ты все на том же месте? «За последнее время в нашей стране и за рубежом все большее значение приобретают…» Кошмар какой-то. Я думала, у тебя наука, а это такая тоска. Ром, пойдем в кино, не хочу учиться, хочу жениться.
Роман улыбался, ласково качал головой, целовал ее в щеку, брал сигарету, и снова они расходились по комнатам, и в квартире снова наступала зимняя, полная скрипов и шорохов, вязкая тишина.
А потом неожиданно, как-то само собой все пошло и написалось быстро, но еще и еще приходили мысли, смелые, точные, уже уложенные в короткие четкие фразы, новые и новые выплывали доказательства, он вписывал, делал вставки, прочитывал и дополнял снова, уже пора было остановиться, а он никак не мог. Двадцатого он отнес наконец статью Михальцеву, и они опять читали и правили ее вместе, а потом отдали машинистке.
И вдруг наступило затишье.
Роман огляделся вокруг себя и увидел, что все изменилось. Зима наступила морозная, ясная. В небе стояли крошечные розовые облака, как дамские пуховочки, и какой-то странный, сильный дул ветер, и в институтском дворе под его окном клонились в одну сторону белые ветки ясеней, и бледно-золотые семена на них, казалось, хотели оторваться, плыли, текли по ветру и не могли уплыть, они были похожи на Ветины волосы, легкие золотистые завитушки на ветру. Ветер поднимал с крыш снежную пыль, но стена дома была желтая, солнечная, яркая, и от этого казалось, что весна будет совсем скоро. Конечно, это была ерунда, шел январь, зима еще только налаживалась, набирала силу.
У Веты через несколько дней начинались каникулы, и неожиданно она переехала к маме. Это было глупо и обидно. У Романа как раз тоже освободились вечера, и они могли бы побыть вместе, но она уехала, и тащиться каждый вечер за ней к Юлии Сергеевне было неловко. Роман не знал, куда себя девать, маялся, скучал и от скуки опять засел работать. И мысли его потекли спокойно, гладко, уверенно, он словно бы разогнулся, словно с его плеч сняли тяжкий груз и он мог дышать ровно, без напряжения. Что же это такое было? Почему любовь так страшно угнетала его? Он думал, что погубил Вету, но он губил и себя, свое тщеславие, свои надежды. Пусть все идет, как идет, а ему, Роману, надо работать, хватит валять дурака, у него тоже есть своя миссия в жизни, он родился, чтобы сделать что-то стоящее. За своими теориями он последнее время запустил текущую работу, нора браться за нее. А вечерами – музыка. Он пошел и накупил себе сразу несколько билетов. Как хорошо было слушать музыку одному, не оглядываться, не следить за своим лицом, расслабиться. Как хорошо, что сегодня Моцарт, фортепьянные сонаты, горько-сладкая, легкая, пронзительная, прозрачная музыка, чистота. Он сидел, расслабив длинные ноги, втянув крупную голову в плечи, закрыв глаза. Музыка была как тишина, как облегчающие слезы, как его несчастная любовь. Он испытал такое блаженство, такое успокоение, какого не знал давно, и ушел освобожденный, не дожидаясь конца.
Вета вернулась через несколько дней, встревоженная, странная, заглядывала ему в глаза, ласкалась:
– Ром, ну ты что? Обиделся на меня, Ром?
Роман поднимал светлые брови, старательно таращил глаза:
– Я? С чего ты взяла? Успокойся, девочка, все в абсолютном порядке, я очень рад, что ты опять дома.
– Правда? Ты мне не врешь, Ром? Ты не сердишься?
– Правда, не сержусь. Хочешь пойти сегодня в консерваторию, у меня один билет?
Но Вета так резко, так испуганно вскинула на него глаза, что он сразу отступил, потупился, забормотал торопливо:
– Да бог с ним, с билетом, побудем дома или, хочешь, пойдем в кино, как ты хочешь…
– Я хочу, чтобы ты пошел в консерваторию, обязательно. И никаких разговоров.
И он пошел. Но музыка не шла ему в душу. Оркестр грохотал невыносимо громко, скрипки визжали, медь неистовствовала, а он сидел и сидел, мучился, как от головной боли, и не мог уйти. Решить было так легко, но как невыносимо трудно выполнять свое решение.
На улице был мороз, ветер жег щеки, прихватывал колени. Он почти бежал, подняв воротник, отвернув лицо от ветра, глаза слезились, дыхание влажным инеем оседало на воротнике. Он взглянул наверх: полукруглое окно желто, уютно светилось, мать ждала его; только слева, там, где была их комнатка, в окно был врезан глухой черный треугольник. Спит.
Он ужинал, долго разговаривал с мамой о всяких пустяках, пил горячий чай, потом ушел в свою комнату, раздевался осторожно, тихо, чтобы не разбудить Вету. Но Вета не спала.
Он придвинулся, осторожно обнял ее и вдруг впервые за все эти долгие месяцы почувствовал, что он не один, их двое, Вета была вместе с ним, такая же задыхающаяся, изнемогающая от пламени и жара, от жуткой какофонии скрипок и литавр. Этого не могло быть, но это было, это ее руки вжимались ему в плечи, это ее губы длинно всхлипывали на его плече, это она затихала рядом, родная, горячая, усталая.
Он лежал на спине, глядя в сумрачное окно, и смотрел, как невероятно быстро, толкаясь, плыли по небу серые, подсвеченные городом облака. «Они не могут так быстро плыть, – думал он, – мне это снится». Он слышал, что Вета не спит, но лежал не шевелясь, молча глядел в окно. И она, точно услышав его мысли, легким скользящим движением придвинулась к нему, прижалась и затихла, положив голову ему на плечо.








