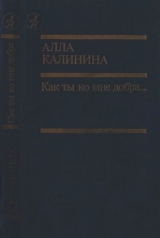
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
– Ты знаешь, как трудно себя сохранить? Теперь стало принято всем походить друг на друга – время от времени выезжать за границу, обязательно иметь кожаное пальто и дачу в некотором изысканном районе. А я вот другое дерево, мне это не нужно, понимаешь? Я хочу жить по своим собственным понятиям, делать то, что считаю правильным, и не делать того, что осуждаю в других. Ты знаешь, отчего я страдаю больше всего? Оттого, что не пью. Это непонятно. То меня подозревают, что я тайный алкаш на излечении, то – что я болен. Но такая простая мысль, что я просто этого не хочу, никому не приходит в голову. А я не хочу! И не потому вовсе, что не люблю спиртное, и даже не потому, что видел, как пропадал мой отец. Просто как врач… считаю своим долгом… Ты понимаешь меня?
– Конечно, понимаю. Мне кажется, в вопросе пьянства все женщины едины.
– Да разве я говорю о пьянстве? Я говорю о принципах. Надо же иметь какие-то принципы в жизни! Например, не воровать. Понимаешь, никогда, нигде и нисколько даже на трамвайном билетике или найденном чужом кошельке с деньгами. Ты думаешь, это так просто? Надо же охранять свое «я», печься о нем, воплощать свои высокие идеи прежде всего в себе самом. А ошибки, промахи, неудачи – ничего они не меняют, осознал – и начинай с себя. Ты думаешь, вот Толстой, почему он почитался всеми как великий старец, почему ходили к нему на поклон и смерть его восприняли как общее великое горе? Думаешь, только потому, что был он великий писатель? Или ради этих его религиозных исканий? А я уверен, что нет, не поэтому. По-моему, тем он захватил людей, что сам пытался жить так, как учил других, понимаешь, – сам! А другие-то, даже великие, писатели жили совсем по-другому: литература отдельно, а в жизнь мою не лезьте! Конечно же, как люди были они правы, но в качестве нашего идеала – нет, не шли. Вот в чем главное отличие! Толстой был цельным, а потому и чистейшим. И все эти грехи, и все ошибки и метания – все отпадало от его чистоты, потому что искал он прежде всего себя и с себя начинал. Как же можно было ему не верить? Вот это и была великая жизнь, и старец был великий, заметь, именно старец! А ведь лучшие свои вещи он написал куда раньше…
Женя был верен себе. Может быть, и был он и прямолинеен, и суховат, и скован, но если хотела Лиза представить себе образ не поведенческого, воспитанного поколениями интеллигента, то не находила примера лучше, чем муж. Елисеев и рос, и менялся, не изменяя самого главного, для нее он был лучшим на земле человеком, лучшим из живых.
Глава 19
У Оли началась уже третья четверть, а родители все еще были в полном неведении относительно ее планов. Все брали своим детям репетиторов, чтобы как следует подготовиться к вступительным экзаменам, Оле-то как раз эти репетиторы были бы очень полезны, но они не знали, к чему ее готовить, по каким предметам. И вдруг разговор состоялся, неожиданный, невероятный.
– Так я давно уже все решила, – спокойно сказала Оля, – я иду в Художественное училище Девятьсот пятого года.
– Это что – ПТУ? – в ужасе спросила Лиза.
– Ну почему обязательно ПТУ? Училище – это, наверное, что-то вроде техникума. Но какое это имеет значение? Главное ведь – специальность, правда?
– Нет, неправда, – вмешался огорошенный Женя, – где учиться – совсем не безразлично. Это безразлично только тем, кто все равно не учится, где бы ни числился. Неужели ты не понимаешь, что значит школа? У кого ты учишься, на каком уровне? Ведь потом ничего уже невозможно наверстать, потом учиться уже некогда.
– Ну и очень хорошо, успокойтесь, это училище очень даже знаменитое, старое, там училась куча знаменитостей, его вообще собираются сделать высшим, но пока просто еще не успели…
– Господи, какой ты еще ребенок, Оля! И чем ты собираешься заниматься в этом училище? Малярным делом или вязанием?
– Да нет, вы не поняли, я же говорю, это художественное училище, там учатся настоящие художники. Туда поступил один мальчик из нашей школы, Сережка Глебов, так знаешь, как он рисует? Ты даже себе не представляешь! Он выставку у нас в школе устраивал. Вы бы в жизни не догадались, что он маленький. Его родители тоже с ума посходили, бегали везде, хотели ему учителей нанимать. А в этом училище сразу сказали: «Не трогайте его, только, ради бога, не учите, вы все можете испортить. Мы его берем и как-нибудь уж сами…» И взяли. Там главный конкурс творческий, а на остальное они уже особенно не смотрят.
– Тогда я вообще ничего не понимаю, – растерялась Лиза, – а ты-то здесь при чем, ты, по-моему, вообще рисовать не умеешь и не любишь. Как купили тебе когда-то этюдник, так он и валяется.
– Во-первых, он уже не валяется, и потом – я в школе рисую, меня хвалили…
– У тебя по рисованию четверка!
– Зато по черчению пять. У меня шрифты очень хорошо получаются.
– Оля! При чем здесь шрифты? Какое это имеет отношение к живописи и рисованию?
– Ой, да ну тебя, мама! Ты ничего не понимаешь. Я же не на тот факультет иду! Я иду на промышленное искусство.
– Это что-то вроде технической эстетики?
– Не только. Я, мама, не знаю точно, но там занимаются тем, чтобы все-все вещи вокруг были красивыми, словом – упаковки, этикетки, коробки, даже плакаты и рекламы. Это очень интересно! Устраиваются выставки и конкурсы. И даже какой-нибудь студент может победить, и тогда его работу примут прямо в производство. Ты представляешь, покупаешь спички, а на них – моя этикетка. А эти спички покупают все, весь Союз! Разве это не замечательно? И притом хорошие гонорары и совершенно свободная жизнь. На работу ведь ходить не надо… Ну как?
– Вот видишь, – ликовал Женя, – а ты говорила – наша дочь никуда не годится! А она вон что придумала! Молодец, Ольга! Так нам и надо, старым брюзгам!
– Ну веселитесь-веселитесь. А конкурс? Что ты покажешь на творческом конкурсе? Школьный альбом?
Оля вздохнула:
– Нет, школьный альбом не годится. Вообще-то мне советовали взять частного учителя, но я не знаю, это надо деньги платить… Дорого, десятку за урок.
– Оля! Неужели ты рассчитываешь поступить?
– Я не знаю, попробую. В крайнем случае… на следующий год…
– Обязательно туда?
– Только туда.
Вот и решилось все так стремительно и неожиданно. Оля засела за рисование. Купила себе огромную папку, кистей и картонов и вдруг превратилась в совершенно другого человека, не такого, каким была прежде, и лицо у нее стало другое, веселое, отвлеченное, занятое своими важными, непонятными другим заботами.
Что получалось у нее, Лиза не могла оценить, терялась. Иногда ей казалось, что все очень здорово, была и свобода, и чувство цвета, и композиция, а то вдруг выглядывала совершенно детская беспомощность рисунка. Лиза расстраивалась, пыталась давать ей советы, но и к критике ее, и к советам Оля относилась совершенно равнодушно.
– Ты извини, мамочка, – говорила она, – ты в этих вопросах совершенный дилетант. Я просто не имею права тебя слушать, а то ты мне такого насоветуешь! А Ксения Павловна все ценит совершенно иначе.
Оля была в восторге от своей Ксении Павловны и готова была сидеть у нее дни и ночи напролет. У нее собирались интересные люди, настоящие художники, и, замирая, Оля начинала чувствовать себя среди них своей. И Сережа Глебов тоже туда заглядывал, и уже заволновалась Лиза: не в нем ли секрет всех перемен? Но разве в этом было дело? Она еще пыталась влиять на события.
– Знаешь, Оля, творчество творчеством, но занятия ведь тоже нельзя запускать, тебе придется держать экзамены…
– А! Это все ерунда, – отмахивалась Оля, – подумаешь, премудрость какая! Только ты не беспокойся, пожалуйста, все будет хорошо. Я же говорила тебе, ты помнишь? А ты не верила…
И Лиза отступала перед своей мудрой и многоопытной дочерью.
– Слишком мы скованно живем, – задумчиво говорил Женя. – Вот она молодец, а мы? Нам словно лень проявить творческую свободу, да у нас просто нет такой привычки – мыслить, делать что-нибудь самостоятельно. Если даже какая-нибудь светлая мысль ненароком и забредет в голову, все равно. А почему? Да потому что не верим в себя. Верим в образование и дипломы, во всяческие бумажки и свидетельства, в авторитеты, в состарившихся, давно ушедших от творчества корифеев, а в себя и в свежие свои мозги не верим. Ты понимаешь, почему так происходит?
– А может быть, так задумано природой нарочно, чтобы мы не очень резво бежали? Представляешь себе, что бы мы наворотили, если бы действительно работали все рабочее время? Да еще творчески. Наверное, от одной нашей активности земля давно бы уже перевернулась.
– Ты все шутишь, а я ведь говорил серьезно. И больше всего – о тебе.
Лиза промолчала. Ей неприятен был этот разговор. Чего он хотел от нее, каких подвигов? Наверное, что-то полезное делает и она. Ведь не ради же денег она работала, она бы стыдилась себя, если бы это было так. Не потому, что не признавала работы ради денег, это как раз было вполне понятно и законно и даже как-то честнее. Просто ради денег надо было выбирать совсем другую работу, не связанную с наукой и необходимостью творчества. Мало ли есть на свете всяческих чисто исполнительских работ, где от работающего требуется только вложение труда и времени и от него не ждут никакого изобретательства! Наоборот, оно ему даже противопоказано, потому что единственный его служебный долг – исполнять инструкцию. Она же избрала себе совсем другое поприще и оказалась бесплодна. Почему? Почему винила она в этом всех на свете, кроме себя? Нет, Женя, конечно же, как всегда, был прав. И от этого она обижалась на него еще больше и упрек был еще болезненнее. Но что могла она сделать?
Во вторник после работы, как всегда, собиралась она к Сергею Степановичу. Сергей Степанович за последнее время стремительно, резко состарился, у него появились странности и чудачества, он громко разговаривал сам с собой, путал время, забывался. Лизе делалось с ним все труднее. Вот и сегодня он встретил ее недовольно, ворчливо, сердито смотрел из-за двери, как она раздевается.
– У меня со стола куда-то девалась бронзовая собачка, – начал он, не здороваясь. – Ты не знаешь, кто ее взял?
Лиза промолчала. Этой собачки не могло быть, ее увезла Галя. Они уже обсуждали эту тему.
– Здравствуйте, Сергей Степанович. Как вы себя чувствуете?
– Как я могу себя чувствовать? Конечно, плохо, такой шум в ушах! Да еще после твоих уборок вечно приходится что-то искать. Сколько раз я просил не трогать ничего у меня на столе. Я работаю, там мой рабочий беспорядок.
– Хорошо. Я не буду трогать. Вы ели что-нибудь?
– Ел. Я не помню. Мне хочется чего-нибудь сладкого, а суп был очень невкусный. Ты мне, пожалуйста, больше такой не вари. Ты знаешь, моя первая жена тоже совершенно не умела готовить, а вот Юленька готовила прекрасно, ты ведь помнишь Юленьку? Ты ее знала?
На мгновение Лизе делалось так страшно, что заходилось дыхание. Хотелось хлопнуть дверью и помчаться, помчаться по лестнице. Но она сдерживала себя. Слишком хорошо она помнила мамин урок. Еще страшнее, еще больнее будет потом, когда ничего нельзя уже будет поправить. И поэтому сейчас надо было терпеть, жалеть его и стараться понимать. Почему, ну почему судьба вечно сваливает это на нее? Ведь у Сергея Степановича есть свои дети и внуки. Почему бы им не забрать отца к себе, а заодно и не отдать ему его бронзовую собачку, без которой он так тоскует? Лиза тоже помнила ее отчетливо, потому что когда-то сама выбирала для папы в комиссионном магазине. Собачка тогда была совсем дешевая, но папа ею дорожил и всегда держал перед собой, придавливая ею свои бумаги. Так она и оставалась на письменном столе, пока до нее не добралась Галя. Черт возьми, это была ее, Лизина, собачка! Но не станешь же объяснять всего этого Сергею Степановичу, он этого просто не сможет понять. Кроме того, он кормил и содержал всех их долгие годы, а значит, все они были его должниками. И все было запутано, непонятно, глупо. Лиза привычно возилась на просторной кухне, везде была грязь и запустение, Сергей Степанович опускался, погружался в пучину. Конечно, он не был в этом виноват, но и она, Лиза, тоже ни в чем не была виновата. Она делала что могла, всей душой стараясь возместить то, что недоделала в свое время для мамы, и для доживающей свой век в деревне свекрови, и, кто его знает, еще для кого? Может быть, для брошенного Женей сына? Все это было ей не по силам и не зависело от нее, но в то же время постоянно требовало от нее терпения, выдержки, доброты.
– Сергей Степанович, идите, я сварила вам кашу.
Она смотрела, как он ест, капая себе на колени и на пол, торопясь, глядя помутневшими напряженными глазами в пространство, в прошлую свою, такую прекрасную жизнь. И слезы жалости и печали закипали у Лизы в горле. Зачем нужно было это такое безнадежное, бессмысленное, угасающее существование? Она знала: этого нельзя произнести вслух, даже думать об этом было недостойно, но она думала и ничего не могла с собой поделать. Старики – это была издержка медицины, ужасная несогласованность в планах между продлением и обеспечением жизни. О чем думали врачи, чем занимались геронтологи в этом мире, состоящем почти наполовину из стариков? Чем, кроме ханжества, ограничивалась и защищалась их старость? И какой будет в таком возрасте она, Лиза, если суждено ей до этого возраста дожить? Неужели такой же одинокой, непригодной к общежитию, теряющей рассудок?
У Сергея Степановича еще было будущее, его младший сын Олег уже оформлял свой перевод в Москву. Но ведь его вдохновлял не отец, а простаивающая жилплощадь и здоровый энтузиазм Гали. И, может быть, слава богу, что дело это было нелегкое и все тянулось и тянулось, потому что еще неизвестно, как будет житься им вместе с Сергеем Степановичем и не превратится ли это сожительство в обоюдный непрекращающийся кошмар, у которого есть только один выход – смерть? И поскольку очень скоро это может стать для всех очевидным, какое страшное, развращающее действие будет производить это общежитие на его членов, во что превратятся они через несколько лет?
Лиза-то считала, что в переезде сюда Олега с семьей есть что-то глубоко безнравственное. Но и другого выхода не было.
Сергей Степанович пошел ее провожать. После еды он помягчел, чмокнул ее в щеку сухими ледяными губами, и вот Лиза была уже на свободе, счастливая, что справилась, не пала, не соблазнилась на свару и скандал, накормила и обиходила старика. Она вздохнула с облегчением, а он остался один жевать свою стариковскую жвачку одиночества, болезней и воспоминаний.
Галя приехала в мае – вырубать мамин вымерзший в тяжелую зиму сад. У некоторых соседей, которые вовремя успели позаботиться о деревьях, часть яблонь выжила, но у мамы, болевшей все последние годы, не сохранилось ничего. Галя спилила черные корявые стволы, с которых свисали лохмотья коры, и пока суд да дело, распахала сад под картошку, она была практичная и работящая женщина, и ей было жалко напрасно пустовавшей земли. А молодые яблоньки она привезет осенью и непременно посадит. Но Лиза, которая после приезда Гали перевезла сюда Сергея Степановича, ужаснулась, увидев вместо сада гладкое распаханное поле, словно жизнь торопилась вместе с мамой убрать даже последние воспоминания о ней. Вместо долгой счастливой жизни – пустыня, черный, чужой весенний огород. И мамины саженцы, с такой любовью и надеждой привезенные от стариков Волченковых, погибли, Лиза не могла отыскать даже их следов. Как жестоко, как безнадежно все было устроено в мире!
От этих печальных мыслей отвлекала ее Оля. Она сдавала сначала выпускные экзамены, потом вступительные. Было много волнений, переживаний, падений и взлетов, но в конце концов, к их великому удивлению, Оля все-таки поступила. Счастливая, окрыленная, она впервые без них, а вместе с какой-то компанией улетала на две недели в Сочи, захватив с собой только спортивную сумку и этюдник. У Оли начиналась своя, непонятная им, новая жизнь.
И впервые увидела Лиза растерявшегося, растроганного, смешного Женю. Он всплакнул, провожая Олю в аэропорт. Он заглядывал ей в лицо, они были почти одного роста, отец и дочь, и Оле не терпелось вырваться, а у Жени не было сил ее выпустить. Так они постояли немного, а Лиза смотрела на них со стороны и вспоминала свое окончание, ленинградский поезд, запах гари и открытые окна, волнующую, незнакомую, прекрасную близость Ромы, близость будущего, которое теперь стало давно прошедшим. Ее глаза тоже туманились слезами, она еще раз помахала Оле рукой. Что за ребята толпились вокруг нее? Кто из них может оказаться неизвестной пока Олиной судьбой? Ничего, ничего они не знали, да и не должны были знать, это начинался уже совсем другой роман. А они, обмякшие и усталые, возвращались домой. Теперь у них была уже новая белая машина, которую Женя вылизывал с прежним рвением. Жизнь продолжалась.
В октябре они получили из Белоруссии длинное письмо от Ивана Григорьевича Чеснокова. Среди прочих новостей с болью сообщал он о кончине своего друга Евгения Федоровича Мирановича. Это известие поразило их неожиданной острой горечью. Они почти не знали этого человека, они провели с ним всего один длинный летний день, но и этого оказалось довольно, чтобы почувствовать, понять, какую потерю понесли его друзья, как ужасно осиротел далекий белорусский совхоз «Любань». Что будет теперь с ним, сумеет ли он сохранить то, что с такой истовой любовью творил этот маленький, хмурый, умный человек? Кто сможет его заменить? Да конечно же никто, потому что люди единственны и неповторимы. Наследник найдется, но прежние времена кончились, второго Мирановича не будет никогда. Лиза вспомнила темное его, усталое лицо и словно на себе ощутила всю меру этой глубокой усталости. А теперь к нему пришел наконец ранний и вечный покой. Она вздохнула. Да-да. Скромный совхоз «Любань», героическая жизнь и безвременная смерть. Так, наверное, делаются многие добрые дела на земле… И снова смерть подступала к ним совсем в другом – новом обличье, смерть человека, нужного не им, но многим и многим людям, нужного земле, обществу, стране, и в этом смысле печаль их была уже не печалью, а скорее заботой, тревогой о том, чтобы дело его рук не погибло, сохранилось, нашло в себе силы идти дальше.
И удивительная мысль, уже мелькавшая когда-то в ее сознании, открылась Лизе со всей ясностью. Сколько же ушедших, кровно и издали связанных с нею, жили теперь в ее душе? Целый мир! И в этом мире были все, близкие и далекие, обиженные ею и обижавшие ее, и дальние знакомые, тихо стоящие в сторонке, и совсем чужие люди, о страданиях и смерти которых она только слышала от Жени, но и этого было довольно, чтобы их никогда не забыть. И все они жили там. И вместе с ними жило там ее прошлое, множество веселых и печальных дней, тихая Таруса ее детства и старая послевоенная милая Москва, «Утро красит нежным светом…», звон трамваев, колокола Елоховской церкви, конная милиция в школьном дворе, подруги, учителя, перемены, ночные птицы – паровозные гудки, гулкий голос «гото-ов» в подземелье метро, рельсы на Крымском мосту, пляж возле Киевского вокзала, там, где теперь «Украина». А еще там жил папа – веселый, знакомый, с быстрым блеском старомодных очков, всегда такой подтянутый, сильный, добрый. Да-да. И Рома раскладывал свои бумаги на знакомом письменном столике, все такой же ранимый, ласковый, влюбленный в нее и все такой же молодой; и седая сдержанная Мария Николаевна так же кормила его своими невкусными обедами, и рыжая «Победа» по имени «Ирэн» ожидала их под окном. Она вздохнула. Да-да. Кого еще можно было там найти? Невозможно было вспомнить всех сразу, они обступали ее, их мир был слишком велик, там осталось все ее детство и вся молодость, умершие и те живые, которых никогда больше не приведется ей встретить, и те, которые так далеко ушли от своего прошлого, что стали теперь как бы совсем другими уже людьми. Как, например, Сергей Степанович, совсем не похожий теперь на молодого веселого Федоренко, который лихо танцевал когда-то на всех вечерах с молоденькой, стройной, смущенной мамой. И маленькая порывистая смуглая Ирка сверкала глазами и каждую свою фразу начинала с «потому что»… И мама. Не самая последняя из ее многочисленных потерь, но все еще самая кровоточащая и болезненная рана, милая мама, муся, нежно пахнувшая свежей шуршащей чистотой, ванилью, теплом… Спи, моя родная, спи, маленькая, спи, мама. Судорожный вздох. Да-да. Никуда она не уходила, так и жила в Лизиной запутанной душе, в самом ее уголке, рядом с раздраженной, больной, умирающей Юлией Сергеевной. Лиза имела право помнить, что хотела, и, что хотела, могла забыть, в ее воле было оставить себе тот мамин образ, который был ей по силам. В конечном итоге все зависит от нее!
Раньше эта мысль вызывала совсем другое ощущение – тревожное, непросветленное, безрадостное, а сейчас…
Лизе вдруг стало легко оттого, что все ее мертвые никуда не ушли от нее, так и жили рядом, вплотную, словно за тонкой стеной. Стоило только закрыть глаза, прислушаться хорошенько, и любимые их голоса возникали и начинали звучать, и смех звенел, и знакомые лица выплывали из темноты. Да как же не понимала она до сих пор, что мертвые и живые существуют рядом, что их нельзя разомкнуть и оторвать друг от друга, потому что все они вплетены в ее жизнь, в ее душу и воспоминания. И та Вета Логачева, что когда-то жила между ними и любила их, ее тоже больше теперь не было, она умерла, растаяла где-то в таинственном потоке времени, который никогда не дано ей будет понять. А она-то пыталась видеть в мертвых только последнюю, самую тяжелую и нежизненную их минуту – из сочувствия, из желания понять и разделить их страдания, а всю глубину времени упускала. И только теперь поняла. Со смертью необходимо считаться, но бояться ее глупо, потому что умирала она каждое мгновенье, но в прошлом не умирала никогда.
Лиза очнулась. Тишина была в квартире. Женя в очках, склонившись над столом, что-то писал, тихо шелестело перо по бумаге. Лампа под зеленым абажуром мягко очерчивала размытый световой круг. Где она была сейчас? Кого видела? Ей хотелось рассказать об этом Жене, но что-то мешало, словно она совершила бы святотатство. Воспоминания были так хрупки, так нежны, их нельзя было эксплуатировать зря, и она улыбнулась, прижав пальцы к губам. Тише, тише, она не будет тревожить их, пусть они отдыхают за своей стеной, тонкой, как перегородки в их старой студии. Тише!
Хлопнула дверь. Пришла Ольга.
– Мама! Можно что-нибудь поесть? Я такая голодная!
А где тот беленький, спокойный, улыбчивый ребенок, которого она сажала когда-то в манеж, чтобы его попасла молоденькая, изумленная этим обстоятельством Ирка? Неужели все это на самом деле было? А сейчас тоже осталось за тонкой непроницаемой стеной…
– Обед готов. Разогрей сама…
Что это был за день? Лизино отражение в стекле, темное, неясное. Что это за лицо смотрит на нее, чье оно? А если приложиться лбом к холодному стеклу, слабо проступал во мгле облетевший печальный клен, мерцание влажных огней в доме напротив. Осень. Тысяча девять сот семьдесят девятый год. Что это значит?
А утром встала она спокойная, ровная. Была суббота, они отсыпались. К полудню проглянуло солнышко, такое нерешительное и бледное в эту осеннюю пору. Но все-таки это было солнце. Лиза опять выглянула в окно. Холодный ветер гулял по улице, асфальт сох неровно, пятнами. Шли люди, подгоняемые ветром, летели бумаги, и чем-то все это было похоже на весну, блестели голые ветки, в рябящихся лужах мелькала неуверенная синева.
– Ну, чем мы займемся сегодня?
– С тобой что-то случилось, Лизок? Все время выглядываешь в окно, словно ждешь кого-то…
– Нет, никого я не жду, – Лиза засмеялась, – все уже приходили и снова ушли.
– Кто – все?
– Это тайна.
Она прислушалась к себе. Так тихо было, так хорошо. Она скользнула в спальню и стала смотреть на себя в зеркало, ладонями разгладила лицо, потом уронила руки знакомым маминым движением. Она совсем забыла, как похожа на маму – цветом волос, разрезом глаз, бело-розовой нежной кожей, всей привычной пластикой. Она закрыла глаза и так явственно ощутила, как мама, улыбаясь, подходит к ней, протягивает руку погладить по голове и… не может дотянуться. Вета намного выше. И по возрасту они ровесницы. И какое легкое, спокойное, родное у нее лицо. Наконец-то, наконец-то мама вернулась! Что же стояло между ними долгие-долгие годы? Раньше она думала, что отношения родителей и детей совсем не похожи на любовь между мужчиной и женщиной, а они – похожи. И неумение высказаться, и желание услышать, и упрямое подозрительное непрощение. Кому же еще мучить друг друга, как не влюбленным? Счастливая любовь, неразделенная любовь… Сначала короткое безоблачное счастье, потом мать обожает, а ребенку не до нее, потом дети любят со страстью и тоскою, но у мамы кончилось терпение, она устала, отчаялась или умерла. Разве это не повесть о несчастной любви? Ревность, непонимание, взаимные обиды. Как же это было нелепо! Теперь вся эта суета кончилась, отгорела, отвалилась. Они очистились от нее, и ничего им больше не мешает любить друг друга, душою возвращаться в далекие безоблачные края…
И вдруг пошел снег, легко запорхал за окошком, немыслимый, просвеченный солнцем, смешной. Ветер сдувал его, солнце ныряло в маленькие несерьезные рваные облачка, и все серее делалось, все темнее.
* * *
Прошло еще несколько недель, и зима установилась. Время мотало свою белую веревочку, но никогда, никогда нельзя заранее знать, что ждет тебя завтра. За далью открывается даль. Однажды в квартире Елисеевых раздался совершенно обычный звонок. Звали Вету. Оля, раньше всех теперь хватавшая трубку, ничего не могла сообразить, она не узнавала это старое, почти позабытое мамино имя, но потом поняла, засмеялась и позвала Лизу.
– Мама, это, наверное, тебя! Какая-то чудачка…
А чудачка оказалась старой школьной подругой Райкой Абакумовой. То есть теперь у нее, конечно, была другая фамилия. Но какое это имело значение, главное – это была Райка, та самая, которую любили все девчонки и в бедной комнате которой они когда-то собирались в день ее рождения, двадцать третьего августа. Вот и это, оказывается, Лиза помнила. Почему же никогда не подумала хотя бы позвонить? И голос Райки был знакомый, легко и радостно всплыл в памяти, едва она представилась.
– Господи, Райка! Как же я рада тебя слышать!
– Подожди радоваться, подруга. Я ведь тебе по делу звоню, а не просто так. Ты не думай, я все-все про тебя знаю, от Зойки, от Надьки, еще от всяких людей. И я сделала такое заключение, что только ты можешь меня спасти. Спасешь?
– Откуда я знаю, Райка? Я постараюсь.
– Ну, постарайся. Только не падай со стула и не говори сразу «нет», сначала подумай хорошенько, посоветуйся с мужем…
– Рая, ты меня пугаешь…
– Ничего, потерпишь! Подумаешь, какая нежная! А дело вот в чем… Но, чтобы ты поняла, я должна рассказать о себе. Понимаешь, у меня двое, а я задумала третьего, и надо было уже уходить в декрет…
– Я тебя поздравляю! Ты молодец, Райка!
– Поздравлять пока как раз и не с чем. Не отпускают меня, понимаешь? Я бы, конечно, могла еще месячишко потянуть, но перед детьми стыдно являться в школу в таком виде. Ветка, у меня такой живот, что в обморок можно упасть, честное слово. А они меня не отпускают, требуют замену. Конечно, их тоже можно понять, ужасно все это не вовремя, вторая четверть идет, а другая химичка ногу сломала, лежит на вытяжении… Что же им делать, оставлять детей необразованными?
– Ну конечно, надо искать замену.
– Надо! А где ее найдешь в середине года? Вот я тебе и звоню.
– Мне? Но я никого не знаю…
– Ты меня не поняла, Вета. Я говорю о тебе, о тебе лично!
– Мне – в школу?
– Да, тебе. А что тут такого необыкновенного? С работой у тебя нелады, я знаю, химию ты сечешь, чего же еще надо?
– Ты с ума сошла! Мне сорок пять лет…
– Положим, пока еще сорок четыре. А потом, какое это имеет значение? Я уверена, тебе понравится в школе. Школа у нас замечательная, новая. И вообще у нас хорошо, и коллектив приличный, и директриса – отличная баба, вот увидишь. Ветка, честное слово, это – твое. Выручишь меня, а через год-полтора я вернусь, будем работать вместе, это ведь тоже чего-нибудь да стоит. Ну, что ты мне скажешь на прощанье?
– Я не знаю, это все как во сне. У меня ведь и образования специального нет, и всякая там педагогика, я в ней совершенно ничего не понимаю. Я и к Ольге-то своей не знаю, с какой стороны подойти…
– Ах, это потому, что она у тебя одна. А здесь будет сразу тридцать, в один миг вся дурь выскочит из головы, они тебя сами всему научат…
– Но это, наверное, и нельзя – без специального образования.
– Сейчас нам, подруга, не до жиру. Директриса все это берет на себя, согласует с роно, методисты тебе помогут, дадут необходимый материал, увидишь, это совсем не трудно.
– Мы говорим так, как будто все уже решено…
– Но ты же обещала постараться. Запиши мой телефон, завтра я буду ждать твоего звонка. Ты успеешь все обдумать до завтра? До свиданья, Ветка, я буду ждать!
Лиза положила трубку и закрыла глаза. Господи, да что же это такое! Прямо наваждение какое-то. Школа, ее зовут в школу! А школа для нее – это прошлое, самое прекрасное, самое драгоценное время в жизни. Конечно, сейчас, через столько лет… Сколько там лет прошло? Без малого тридцать! Конечно, все теперь переменилось. Она бывала в Олиной школе, все теперь стало по-другому, мальчики учатся вместе с девочками, раньше они об этом только мечтали, сейчас все стало интереснее, полнее, раскованнее… сможет ли она освоиться, понять… О господи, да о чем же она думает? Разве все это всерьез? Разве это действительно может быть с нею?
Она тревожно думала, как, какими словами рассказать об этом Жене? Что он скажет, что посоветует ей? Не потому ли она медлит, что боится его неодобрения? Значит, она уже решила? Она хочет?
Женя слушал ее серьезно, молча, подперев голову рукою и опустив непонятные свои глаза.
– А ты знаешь, – сказал он наконец, – чего-то такого я давно уже ждал. Это носилось в воздухе. Ты ведь хочешь туда пойти, правда, Лиза?
– Я не знаю. Поздно. Если бы это случилось десять лет назад!
– Какое это может иметь значение? Жизнь продолжается. Мне кажется, в этом что-то есть. Вот и будем мы с тобой вдвоем, как раньше – врач и учитель, самые главные люди. Мне это нравится, Лиза! Ну? Ну почему ты так боишься почувствовать себя счастливой? Почему? Я ведь знаю тебя, тебе хочется туда, ну признайся, хочется?
– Я не знаю, надо привыкнуть, привыкнуть к тому, чтобы делать то, что хочется… Не смейся, пожалуйста, надо мной, иногда быть счастливой – это тоже очень трудно. Я когда-то умела, но забыла, забыла, как это раньше получалось само собой. Я устала надеяться, и теперь все надо начинать сначала. Надо учиться, надо верить, что завтра может быть лучше, чем сегодня. Это такая ослепительно новая мысль! Завтра будет лучше, чем сегодня!








