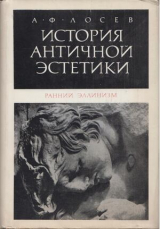
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 74 (всего у книги 78 страниц)
г) Как же можно было бы формулировать основной философско-эстетический принцип всей этой богатейшей и прямо-таки ликующей картины мироздания, которую автор трактата нам всячески хочет внушить? Этот принцип есть не что иное, как старый гераклитовский принцип гармонии, возникающий из противоречий. Можно удивляться, каким образом мир, состоящий из противоположных начал, каковы сухость и влага, горячее и влажное, продолжает существовать, а не погиб уже давно. Столь же удивительно сохранение государства, хотя оно состоит из противоположных частей населения, например, богатых и бедных, юных и старых, слабых и сильных, добрых и злых (5, 396 а 32 – b 4).
Однако природа как раз любит противоположности, и именно из них составляет гармонию. Так, она сводит мужской род с женским, а не каждый род с подобным себе. Подражая природе, то же осуществляет и художник. Он смешивает вещества белой и черной, красной и желтой расцветки и так достигает согласия со своим образцом.
Таким же способом и музыкант смешивает высокие и низкие, долгие и короткие тоны и так достигает в различных голосах единой гармонии; равно как и искусство построения языка, в сущности, покоится на смешении гласных и безгласных звуков. Подобной мысли дает выражение темный Гераклит (22 В 10):
"Неразрывные сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие, из всего одно и из одного все образуется" (b 4-22).
Так одна единая гармония (mia harmonia) пронизывает устроение целого неба, земли и всей вселенной, упорядочивая смешение противоположных принципов. Землю и море, Солнце и Луну и эфир содержит всеобщая "сила" (dynamis), которая устроила мировое целое из воздуха и земли, огня и воды, окружив все это единой шарообразной оболочкой (b 23-31).
Эта сила понудила самые враждебные вещи к согласию друг с другом и таким образом нашла средства и пути для сохранения целого. Согласие же элементов опирается на их пропорциональное смешение. Ибо тяжелое и легкое, теплое и холодное уравновешивают друг друга: и природа показывает равенству путь к согласию, а согласию – путь ко всепорождающему, безмерно великолепному космосу. Где царство, восклицает неизвестный автор трактата, которое было бы совершеннее космоса! Что бы ни назвал человек – это только часть космоса. И красота и порядок заимствуют у космоса свое название. А Солнце, Луна и звезды? Они в совершенной равномерности ходят по своим путям из вечности в вечность. И где еще существует столь непреложная закономерность, как та, которую заключают в себе великолепные, пробуждающие все к жизни Оры, которые в продуманном порядке выводят дни и ночи, лета и зимы, чтобы округлялись месяцы и годы! (о 32-397 а 14).
Поистине, космос превосходит все своим величием, он все перегоняет в своем движении, его ясное сияние, его сила вечны и непреходящи. Он разделил виды живых существ на земле, в воздухе и в море, благодаря своему движению он задал жизни меру и цель. От него все живое получает дыхание и душу. Даже странные новшества в нем достигают созвучной с общим миропорядком цели, будь то небывалые ветры, молнии с неба или чрезвычайные бури. И земля, одетая в пестрое украшение лесов и лугов, омываемая источниками и ручьями, населяемая всевозможными животными, производит все в должное время, дает всем питание и кров, производит бесчисленные порождения и разновидности, и вместе с тем сохраняет себя в вечной юности, хотя ее сотрясают землетрясения, затопляют морские волны, а свирепый огонь сжигает целые страны. Напротив, она черпает во всех этих явлениях силу для своего вечного существования, потому что этим она очищается (а 15 – b 8).
д) Затем автор переходит к первосиле, которая все соединяет, если говорить о главном и основном. Здесь автор трактата дает целое учение о божестве, имеющее только с виду характер монотеизма. К этой видимости, однако, необходимо относиться критически. Мы сначала изложим это учение в том виде, как оно дано в самом трактате, а затем докажем, что перед нами здесь все еще античное язычество, хотя уже постепенно переходящее в законченную философскую систему.
Именно – у всех людей, говорит автор, имеется предание о том, что все в мире возникло от бога и благодаря ему и что никакое существо не довлеет себе, но нуждается в божественной охране. Это знание побудило и некоторых старых мыслителей сказать, что все воспринимаемое нашими чувствами, весь зримый и слышимый мир наполнен богами. Они нашли и достойное выражение для божественного всемогущества – "творец" и "хранитель" – но не нашли подходящего имени для божественной сущности (6, 397 b 9-24).
Бог, по словам поэта, восседает на высочайшей вершине всего небосвода (Hom. II. IV 166). Всего более божественную силу ощущают те вещи, которые находятся вблизи бога, затем более отдаленные, вплоть до областей, которые населяем мы, люди. Потому-то земные вещи кажутся такими несовершенными, неравномерными и смятенными. В связи с этим более правильно то воззрение, согласно которому божественная мощь царит на облаках, а не рассеяна среди земных вещей, хотя и может действовать на них в разной степени. Это происходит так же, как случается и с выдающимися земными людьми, полководцами и властителями, которые иной раз исполняют работу гораздо более простую, чем это им положено (b 25 – 398 a 11).
Бог подобен царю. И автор подробно описывает царский дворец, беспрекословно повинующихся царю служителей, каждому из которых поручено особое дело, и его гонцов, распространяющих царскую власть на огромные пространства; а затем предлагает сравнить с царской властью неизмеримо более великую власть правящего миром божества. Если для исполнения царских повелений необходимы многочисленные посредники, то бог "простым движением" мгновенно вызывает к жизни все мыслимые явления. Вследствие простого вращения небесного свода все небесные тела движутся по своим различным орбитам, одни быстрее, другие медленнее. Все светила и звезды поют и вращаются в своем хороводе; и так как причина их вращения едина, то едина и гармония, производимая ими (а 11-399 а 14). Как в хоре руководитель начинает пение и затем все множество мужчин, а иногда также и женщин подпевают ему, создавая единую гармонию своими разными, высокими и низкими голосами – так же и в отношении всеобъемлющего божества. По одному его знаку свыше вращаются звезды и весь небосвод, ходит своим путем солнце, во благовремении льется дождь, дует ветер и падает роса, текут реки, растут деревья, созревают фрукты, и всякое создание движется на своих путях и в своих границах. Можно было бы сравнить это с тем, что происходит в армии, когда раздается сигнал тревоги: каждый спешит, один берет щит в руки, другой надевает кирасу, третий пояс, четвертый – шлем; тот вскакивает на коня, этот взлезает на колесницу, сотник встает перед своей сотней, – однако все исполняют волю одного повелителя. То же происходит и в мировом целом. Правда, повелитель здесь не виден; но ведь невидима и душа, благодаря которой мы живем; она познается лишь в своих действиях (а 14 – b 15).
Могущественнейший, прекраснейший, великолепнейший, бесконечный в своей жизни, совершенный в своем благе бог, оставаясь невидим всякому своему творению, тоже познается по своим деяниям. Ибо все происходящее в воздухе, на земле и на море суть деяния всемогущего бога. "Как говорит естествоиспытатель Эмпедокл (31 В 21), через него "образуется все, что было, есть или когда-либо будет". И вот еще одно сравнение, показывающее гармоническую сплоченность мира. Скульптор Фидий, создавая Афину на Акрополе, на середине ее щита изобразил свое собственное лицо и так связал это изображение тайными искусными связями с остальным произведением, что всякий, кто пожелал бы его убрать, необходимо должен был бы уничтожить и целое. В мире такое же значение имеет божество, с тем лишь различием, что оно расположено не в середине мира, не в темной земной сфере, а наверху, в чистой высоте, которую мы называем небом, потому что оно образует предел высших сфер, а также Олимпом. И недаром мы, люди, во время молитвы простираем руки к небу. И то же возвышенное место занимают достойнейшие мировые вещи, такие, как звезды, солнце и луна (b 15 – 400 а 21).
И вообще, божество значит для мира то же самое, что рулевой – для корабля, возничий – для колесницы, руководитель – для хора, закон – для государства, военачальник – для войска. Божество есть для нас закон, все удерживающий в равновесии, так что внутри организма неба и земли все живое, в соответствии со своим семенем, разделяется на роды и виды. И все рождается, растет и умирает сообразно постановлению бога, "ибо, как говорит Гераклит, всякое пресмыкающееся бичом [бога] гонится к корму" (22 В 11, другое чтение: "кормится землей") (а 22 – 401 а 11).
Бог един, а разные имена даются ему по причине изменений, которые он сам же и производит. Мы называем его дарителем жизни и началом всего, потому что благодаря ему живем. Его называют сыном Кроноса, то есть времени, потому что он простирается от безначальной вечности прошлого в бесконечную вечность будущего. Его называют господином молнии и грома, света и эфира. И его называют плодоносящим за даруемые им плоды, защитником городов, хранителем рода, дома и родственной связи, господином победы, богом мести, истинным спасителем и освободителем, – словом, мы называем бога неба и земли по каждому его проявлению. Как справедливо говорится у орфиков (frg. 21 а Kern), "Зевс был в начале и Зевс будет в конце, Зевс глава и середина, Зевс создатель всего" (7, 401 а 12 – b 7).
Мне представляется, заключает Псевдо-Аристотель, что и необходимостью именуется не кто иной, как опять-таки бог. Таким же образом бог тождествен тайне, потому что в нем таятся все вещи; он тождествен и определению, потому что все определяет и не оставляет нигде никакой неопределенности; он тождествен Мойре, пределу, неизбежности, вечности.
История, рассказываемая о богинях судьбы, повествует, что одна из них называется "Необратимой", потому что уже сплетенная ею пряжа принимала раз навсегда завершенный вид; другая называется "Наделяющая", потому что то, что ею производится, относится еще к будущему, а третья называется "Прядущая", потому что ее часть пряжи в данный момент подхвачена вращением и оформляется. Псевдо-Аристотель истолковывает этот миф, относя его не к кому иному, как опять-таки к богу, причем он ссылается на Платона, который говорит (Legg. IV 716 а):
"Бог, согласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего. Прямым путем приводит он все в исполнение, вечно вращаясь при этом, согласно природе. За ним всегда следует правосудие, мстящее тем, кто отступает от божественного закона. Кто хочет быть счастлив, должен держаться этого закона и следовать ему смиренно и в строгом порядке" (b 8-29).
3. Общая характеристика
Чтобы дать краткий исторический комментарий этого учения о первосиле, завершающем изучаемый нами трактат "О мире", необходимо отметить несколько мыслей.
а) Во-первых, несмотря на то, что автор трактата цитирует и поэтов и Эмпедокла, а еще раньше, как мы помним, он цитировал еще и Гераклита, в самом же конце своего трактата он приводит с большой похвалой импозантную цитату из Платона, эстетику данного трактата трудно связывать с какой-нибудь одной из предыдущих греческих философских школ. Основная установка, конечно, навеяна здесь учением Аристотеля о Нусе, то есть о таком Перводвигателе, который находится вне мира и над ним и который обладает возможностью в одно мгновение устраивать порядок во всем мироздании. Однако такое совпадение с Аристотелем возникает перед нами только при очень общем и очень абстрактном сопоставлении данного трактата с Аристотелем. Надо не иметь никакого чувства историко-философского стиля, чтобы прямо назвать это аристотелизмом. Перед нами здесь развертывается роскошная и ликующая картина мироздания, которое вечно бурлит и клокочет своей бесконечно возникающей пестротой, но которое эстетически созерцается, несмотря на весь свой хаос, как единое художественное целое.
Такое единое художественное мировоззрение, конечно, можно предполагать в античности решительно везде – и у досократиков, и у Платона, и у Аристотеля, и у ранних стоиков. Однако философы далеко не всегда доносят до своих читателей и слушателей в рефлективной и систематической форме то, что они чувствуют в глубине своего сознания. Эта абсолютно согласованная и в то же время бесконечно разнообразная хаотическая пестрота космоса достигает степени своей философской рефлексии, вероятно, не раньше Посидония. Для той эстетики, которую мы находим в трактате "О мире", Аристотель слишком прозаичен, Платон слишком диалектически систематичен, а досократики слишком наивны и дорефлективны. Такой звучный и гармонически данный пантеизм, конечно, ощущается уже у ранних стоиков. Но и они тоже слишком прозаичны, слишком моралистичны и слишком настроены педантски, чтобы создавать такого рода вольные и привольные, такого рода восторженные и в то же время рефлективно обоснованные картины мироздания и, наконец, такое художественное существо космоса и сурово-повелительное и одновременно ликующе-хаотическое, как это мы находим в изучаемом нами сейчас трактате "О мире".
б) В связи с этим, во-вторых, необходимо не сбиться с толку при оценке выдвигаемой здесь теории божества. Если читатель не привык отдавать себе отчет в глубочайшем различии языческого пантеизма и многочисленных монотеистических концепций (иудаизм, христианство, ислам со всеми своими бесконечными разветвлениями), то пусть он лучше несколько повременит со своей монотеистической оценкой нашего трактата. Здесь мы находим самое настоящее ликование буйной языческой плоти и ровно ничего трансцендентного, ровно никакой абсолютной духовности, ровно никакой единой и неповторимой надкосмической личности. Ведь должна же окружающая нас бесконечная пестрота жизни иметь свой единый закон. Вот этот закон и именуется здесь божеством, а ни о каком божестве со своим собственным именем, со своей специфической историей и проблематикой здесь не может идти и речи. Ведь должно же то, что совершается вокруг нас, быть какой-то самостоятельной природой? Да, должно, но это и есть то, что в данном трактате именуется божеством. Даже в приводимой в конце трактата цитате из Платона категория природы стоит на первом месте. Итак, эстетика данного трактата, можно сказать, религиозная или философско-религиозная, но она не имеет ничего общего ни с какой монотеистической религией.
в) Наконец, – и это звучит почти как курьез, – космологическая эстетика трактата умилительнейшим образом раскрывает все свои социально-исторические карты. Если задать вопрос о социально-исторической значимости эстетики трактата, то без всякого марксизма и без всякого материализма сам трактат громогласно заявляет, что вся проповедуемая здесь красота космоса есть не что иное, как результат некого космического рабовладения. Греческие философы не очень любят говорить о социально-историческом происхождении своих теорий. Кажется, только один Аристотель бесстрашно выразил ту мысль, что все в мире подчиняется одно другому или вытекает одно из другого, что в каждом явлении и даже в каждом понятии можно рассмотреть повелевающего господина и повинующегося раба. И вот теперь наш трактат "О мире" тоже проводит вполне безбоязненно эту рабовладельческую трактовку космического целого. Вероятно, Аристотель в своей "Политике", Псевдо-Аристотель в трактате "О мире" и еще в самом конце античности Либаний в своей специальной речи "О рабстве", – только эти мыслители и выразили в сознательной форме рабовладельческую природу античного гения. Заявление нашего трактата, во всяком случае, не вызывает в нас в этом отношении ровно никаких сомнений.
Так можно было бы приблизительно формулировать эстетику этого чрезвычайно богатого по своим мыслям трактата Псевдо-Аристотеля "О мире". Мы видим, что его подлинное историческое место именно в контексте Цицерона и Антиоха, а в конце концов, и в контексте Посидония. Это – бурный перелом от раннего эллинизма к позднему эллинизму, который удобнее называть уже скорее эллинистически-римским периодом, а не просто эллинизмом вообще.
г) Есть, однако, еще одна черта этого трактата "О мире", которую необходимо отметить для ясности и полноты исторической оценки этого трактата. Выше мы заметили, что вся эта линия стоического пантеизма очень много сделала для преодоления начально-эллинистического дуализма субъекта и объекта. Если представители раннего эллинизма уже пытаются сгладить свой дуализм тем, что приписывают объективной действительности те или другие отдельные черты человеческой субъективности, то стоический платонизм и близко подходящие к нему системы платонизма и аристотелизма того времени уже рисуют объективную действительность не только в свете отдельных способностей человеческого субъекта, но и в свете его целостно-жизненного самочувствия. Возникающую на этой почве небывалую по своему размаху поэтическую картину природы мы отмечали и у Цицерона и теперь ярко ощущаем в трактате Псевдо-Аристотеля "О мире". Но мы также успели отметить и то, что такая эстетическая полнота в характеристиках природы еще не может считаться окончательным решением вопроса о слиянии субъекта и объекта, дуализм которых так отчетливо ощущается нами в раннем эллинизме. Дает ли в этом смысле что-нибудь нового этот трактат "О мире"? Две особенности этого трактата обращают на себя внимание в наших поисках найти материалы в конце раннего эллинизма для окончательного преодоления раннеэллинистического дуализма.
Во-первых, изучаемый нами трактат удивляет нас необычайно разработанной систематикой различных мировых явлений, претендующей, очевидно, открыть человеческому субъекту бесконечные дали мироздания и тем самым как бы побудить его дуалистический разрыв с объективной действительностью. Можно прямо сказать, что вся эта необычайная по своей систематике картина мироздания, и географическая, и метеорологическая, и астрономическая, действительно превосходит все такого рода античные картины действительности своим обилием, яркостью, пестротой и систематикой. Но нигде не видно, чтобы в такой картине субъект и объект отождествлялись в чем-то одном и нераздельном. Человеческий субъект существует здесь сам по себе, а ликующая, роскошная и неисчерпаемая объективная природа – тоже сама по себе. Она способна своей красотой и глубиной заполнить все внутреннее содержание человеческого субъекта. Но всем этим он еще не перестает быть самим собою. Он все же остается как субстанция сам по себе, а заполняющий его объект остается по своей субстанции тоже сам по себе. Прогресс в единении субъекта и объекта в данном случае огромен и для античной эстетики небывалый. Тем не менее полного тождества субъекта и объекта здесь пока еще никак не происходит, если иметь в виду то и другое как раздельные субстанции.
Во-вторых, трактат очень много и выразительно рассуждает о божестве, которое всем движет и все наполняет и которое настолько оригинально и самостоятельно, что мыслится даже вне мира и над миром. То, что тут нет никакого монотеизма, об этом мы сейчас говорили достаточно. Но дело не в этом. Дело заключается в очень важной проблеме: считать ли этот перводвигатель по крайней мере хотя бы некоторым подходом к утверждению тождества субъекта и объекта в этом перводвигателе?
Если мы припомним учение Аристотеля о Нусе (ИАЭ IV, с. 41-77), то в этом перводвигателе Аристотель находит и субъект мышления, и объект мышления, и их тождество. Можно ли считать такое решение вопроса у Аристотеля окончательным и в связи с этим можно ли считать окончательно решенной проблему тождества субъекта и объекта в трактате "О мире"? Здесь, однако, мы должны проявлять большую осторожность и не ограничиваться только буквальными заявлениями Аристотеля. Дело в том, что полное и окончательное слияние субъекта и объекта, то есть их полное тождество, возможно только с привлечением категории личности. Ведь это только личность является одновременно самочувствием, самосознанием, самомышлением, с одной стороны, и, с другой стороны, объектом и реально существующей субстанцией, реально существующим носителем всего этого сознания и мышления. Дошел ли Аристотель до такого понятия личности? Безусловно, не дошел. Он дошел до абстрактного признания необходимости сливать субъект и объект в одно целое. Но это целое является для него покамест еще только абстрактной теорией. Недаром мы выше не раз говорили, что вся классика базируется на конструировании абстрактно-всеобщих категорий.
Но вот перед нами трактат "О мире". Это уже не классика, и даже не поздняя классика, но уже эллинизм, и даже самый конец раннего эллинизма. Как будто бы казалось, что эллинизм, порожденный стихией субъективистического примата, должен был бы внести в аристотелевское тождество субъекта и объекта что-нибудь уже не столь абстрактное, а уже нечто конкретное, и не только абстрактную всеобщность его и конкретную единичность. Другими словами, ожидалось бы, что эта псевдо-аристотелевская "первосила" как раз и должна была бы трактоваться как именно личность. Однако и в этом трактате все еще нет никакого учения о личности, и проблема отождествления субъекта и объекта все еще остается нерешенной. Псевдо-Аристотель весьма подробно и весьма красноречиво рассуждает о деятельных силах этого надкосмического первоначала. Все им держится, все им организуется, все им охраняется, так что он и есть последняя красота природы и мира. И при всем этом о первоначале, как и личности – в трактате ни слова.
Таким образом, если весь этот период истории эстетики, начиная с Посидония, развивается на путях перехода от индивидуализма к универсализму и если здесь мы находим огромное достижение античной эстетики, уже вполне разнящее субъект с объектом, то все же и на стадии псевдо-аристотелевского трактата "О мире" I в. до н.э. мы никак не находим таких философско-эстетических проблем и таких методов их решения, которые обеспечивали бы для историка эстетики возможность наглядно убедиться в окончательном свершении раннеэллинистической мысли, то есть в такой миссии, которая привела бы от разрыва субъекта и объекта к их подлинному тождеству. Этим и объясняется то, что понадобилось еще два столетия, чтобы античность могла найти и формулировать теперь уже в сознательном виде это когда-то бывшее и с началом эллинизма потерянное тождество субъекта и объекта. Античной мысли пришлось пройти полосу так называемого неопифагореизма, очень пеструю, даже хаотическую, весьма мучительную и для самих представителей античного неопифагореизма и для теперешних исследователей этой ступени античного сознания, у которых прямо-таки кружится голова от разнобоя относящихся сюда античных первоисточников.
К этому неопифагореизму нам в дальнейшем предстоит обратиться, так же как и к Филону Александрийскому, тоже сыгравшему огромную роль в развитии неоплатонизма.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



