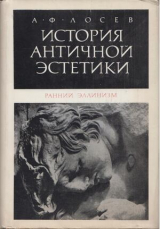
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 78 страниц)
Кроме кретика к пеонам относятся еще бакхий, эпибат и дохмий.
Бакхий (который не нужно считать синкопированной ямбической диподией, как делают некоторые) уже самим своим названием (ср. вышеприведенное место из Аристида), указывает свой "этос". Он очень подходил для живописных намерений, и его, как мы видели, очень хвалит Дионисий Галикарнасский. Гефестион (40, 16 сл. W.), наоборот, считает его "непригодным для мелопеи", подчеркивая его редкость (43, 9): "Бакхий редок, так что если где и попадается когда-нибудь, то встречается недолго".
Эпибат (paion epibatos), по Аристиду (I 16), состоит "из долгого тезиса, краткого арзиса, двух долгих тезисов и краткого арзиса". По нему же (II 15): "Эпибат – больше находится в движении, возмущая душу двойным тезисом и, с другой стороны, возбуждая ум к возвышенному размерами арзиса". Плутарх (De mus. 39) указывает на наличие эпибата в Олимповом номе к Деметре наряду с фригийским ладом и энгармоническим родом. По этой характеристике эпибат играет посредствующую роль между энтузиастическим "этосом" тональности и спокойно-возвышенным характером энгармоники.
Основным во всех указанных пеонах является аффективное беспокойство, но не бессильное; в нем нет систальтики, как в prestissimo ямбов и хореев в комедии. Применимы пеоны и в прозе; и здесь они, в отличие от трехдольного ритма, несут с собою элементы возвышенного.
Наконец, дохмий есть единственный вид пеона, в котором античность переживала систальтику. Только ионик и дохмий и являются чистой систальтикой в ритмике, совершенно исключая всякую возможность понимать их в смысле других двух стилей. Тут не место давать теорию дохмия, остающуюся в науке не совсем ясной. Мы просто исходим из родства дохмия с пеонами. Самое слово это значит, как известно, – "косой" (ср. у Eur. Or. 1261 о кошении глаз девицами). "Дохмиями называются они благодаря пестроте, неравенству и созерцанию ритмопеи не по прямому направлению" (Aristid. 39). Дохмий, действительно, лишен видимой правильности благодаря двум тезисам подряд. Основной его "этос" хорошо охарактеризован у эсхилова схолиаста (Sept. 103): "Этот восьмичастный ритм част в похоронном пении и пригоден к плачам и стонам". Главное его место – это, конечно, трагедия, а в трагедии больше сольные партии, чем хоровые. Хоровые дохмий производят огромное впечатление. Таковы женские хоры Aesch. Sept. 86 слл., Eur. Tro. 320 слл; Ог. 140 слл. Если мелические анапесты и в особенности ионики выражали чувство мягкое, немужественное, а дактили твердое и устойчивое страдание, то дохмий создавал чистое страдание в его полной непосредственности, в его беспокойстве и неустойчивости. Тут, несомненно, была близость по "этосу" с миксолидийской тональностью, с которой дохмий часто объединяется и фактически.
4. Логаэды
Наше изложение основ ритмического "этоса" было бы не полно, если бы мы не коснулись столь распространенных в античной поэзии логаэдов. Это, может быть, самый распространенный песенный ритм, возникший на Лесбосе, этой знаменитой родине древнегреческого мелоса. Алкей и Сафо – древнейшие и лучшие его представители. Самой главной чертой является здесь соединение ритма с пением, от которого сильно обогатилось и то и другое. И название и характер этого ритма Гефестионов схолиаст (А 163, 13 W.) объясняет так: "Логаэдический метр называется – аэдическим от дактиля (так как он эвритмичен) и логическим от трохея, потому что древние пользуются им, когда хотят, чтобы слово (logos) бежало (trechein). Такова риторика в прозе". Логаэды допускали все три основных художественных стиля. Смотря по преобладанию дактиля или трохея, они могли быть подвижнее и спокойнее. Анакруза и каталексис также оказывали свое действие. Так, хориямб, благодаря своему каталектическому характеру, получал уже вакхический характер и приближался в этом смысле к кретику. Аристид (I 16) прямо называет его "вакхическим" – "по приспособленности к вакхическим песням". Примером на такой хориямб могут явиться Aesch. Ag. 202 слл.; Soph. Ant. 152 слл.; Eur. Bacch. 400 слл. Это все знаменитые тексты, если кто имел с ними дело. Примеры на хориямбы также у Ale. frg. 33-44; Hor. Carm. I 18. Чистый хориямб, однако, употребляется довольно редко ввиду своего беспокойного характера, в особенности в конце стиха. "Хориямб не дает настоящего (honesta) заключения" (Terent. Maur. 1882); "если к трем хориямбам не присоединяется дактилическое окончание, то ничего в них нет приятного и певучего" (Mall. Theod. 597, 13 К.). Вид хориямба, так называемый metrum Phalaecium, играл большую роль в песнях к Деметре, Персефоне, по свидетельству грамматиков.
Особое внимание надо обратить на две знаменитые строфы, относящиеся к логаэдам, всем так хорошо известные, кто учился в старой классической школе, известные если не по грекам, то, во всяком случае, по Горацию. Это – алкеева и сафическая строфа. В алкеевой строфе первые три стиха содержат восходящий ритм и резко выраженный диастальтический характер. Это усилено здесь мужским окончанием двух первых стихов и поспешным "этосом" чистых ямбов третьего стиха. В этом третьем стихе – кульминация движения. Наконец, четвертый мягко разрежает это движение и ведет к успокоению. Напротив того, сафическая строфа более женственна. Здесь господствует один ритм, певучий логаэдическия. Он равномерно поет в течение трех первых стихов с тем, чтобы в четвертом, в "стихе Адониса", создать в высшей степени мелодическое завершение. При отсутствии анакрузы мы имеем здесь также мягкие женские окончания стихов. В противоположность алкеевой строфе здесь все – умеренно и спокойно. Любовная жалоба, грациозные пустячки, это – наиболее подходящий предмет для воспевания в сафической строфе. Гораций, может быть, напрасно переносил этот ритм на свои холодные политические оды.
Меньше подходят простые логаэды и для возвышенного стиля дорийской лирики. У Алкмана, Стесихора и Симонида они занимают еще значительное место наряду с торжественными дактилями. Вместе с кретиками и дактило-эпитритами они играют видную роль и у Пиндара. В трагедии Эсхил еще воздерживается от логаэдов, но Софокл и в особенности Еврипид дают им очень почетное место в хоровых партиях. Оба великих трагика достигают в этом очень большого и тонкого искусства. Логаэды, далее, возродились в Риме через Катулла и Горация, употреблявших этот ритм в шутках и игривой поэзии. У Аполлинария Сидония (Epist. IX 13, 463 b) мы читаем о гендекасиллабах: "Уже давно мы забавлялись гладкими гендекасиллабами, прижимая большой палец к дудке. Их ты скорее мог петь вместо хориямбов, быстрее ударяя ногой". Об этом игривом характере гендекасиллаба Аполлинарий Сидоний говорит не раз, хотя Марциан Капелла (V 171, 7 Е.) выдвигает разнузданность (petulantia) фалекийского стиха.
Упомянем еще о "Приаповом" стихе, о котором Теренциан Мавр (2752) говорит: "Самое уже название указывает, что он приспособлен к играм, и этот способ многими обыкновенно посвящается Приапу".
Что касается, наконец, антиспаста, то опять-таки, не входя в рассмотрение его теории и истории, нужно сказать, что древность чувствовала в нем возбужденность и жалобу. Не нравилось, между прочим, кончать голыми антиспастами. "Этот метр избегает оканчиваться своими стопами, так как из стоп нет ничего шероховатее этого окончания, нет ничего более жестокого" (Mar. Vict. 89, 13 К.). Маллий Феодор (599, 21 К.) считает его вместе с хориямбами и иониками "неизящными и страшными, если откуда-нибудь не примут [иного] окончания". Аристид (I 26) допускает ямбическое окончание "ради приличия". Вернее же считать, что антиспаст есть просто теоретическая фикция древних, вызванная к жизни ложным толкованием так называемых эолических баз. Такой же фикцией, вероятно, является и амфибрахий, хотя Дионисий Галикарнасский и устанавливает его "этос": "Он не очень относится к изящным ритмам, но он разломан и содержит много женского и неблагородного". Августин (De mus. II 13) отбрасывает его в качестве совершенно неприличного.
5. Ритмическая модуляция
Наше рассуждение о ритмическом "этосе" у древних должно быть закончено некоторыми замечаниями о ритмической модуляции. Выше мы уже видели, что такое модуляция и каковы ее виды. Относительно ритмической модуляции главный текст опять-таки у Аристида. Это – из II 15, что мы уже читали выше. Там говорится, что ритмы, остающиеся в пределах одного и того же рода, находятся в меньшем движении, а те, которые переходят из одного рода в другой, вызывают больше движения и больше беспокойства. Тут интересны аналогии биениями пульса и дыхательными движениями, которые древними, как видим, переживались ритмически.
Тот же Аристид дает еще и классификацию ритмических модуляций (I 19): "Модуляция есть ритмическое изменение ритмов или темпа. Модуляции происходят двенадцатью способами; по темпу, по отношению к стопе, когда происходит перемена от одного отношения к другому, или от одного ко многим, или от несложного к смешанному, или от смешанного к смешанному, или от рационального к иррациональному, или от иррационального к иррациональному, или от различающихся по противоположности – друг в друга". Бакхий (§50 Jan.) различает модуляции "по ритму" (например, от хорея к ямбу), "по темпу ритма" (начало с тезиса и арзиса) и по "положению (thesin) ритмопеи" (базами или диподиями). Аноним Беллермана (§27) говорит только о модуляции "по ритму".
Указанный только что текст Аристида, очевидно, испорчен. Часть рукописи говорит о четырнадцати видах модуляции, что Мейбом меняет на девять, а Геварт – на восемь. Беллерман же вместо "двенадцати" читает "два", полагая, что у Аристида речь идет 1) о ритме, не переходящем в другой род, а только допускающем различный темп, и 2) о ритме, переходящем в другой род, то есть меняющем самые стопы или такты. Этот же второй ритм и разделяется на виды, указанные у Аристида (перемена отношения, сложности, рациональности). Текст Бакхия также, видимо, подвергался многочисленным исправлениям переписчиков и едва ли имел первоначально такой вид, как сейчас.
Приведенное аристидово место показывает, что античность понимала под ритмической модуляцией не только переход одного такта к другому, но и переход в пределах одного и того же такта от одного оттенка к другому. Можно указать следующие виды модуляции, более или менее интересные с точки зрения "этоса".
a. Переход тезиса в ритм с анакрузой, то, что выше Аристид называет переходом от "различающихся по противоположности друг в друга". Мало заметная для нас, эта модуляция имела большое значение, внося "этос" согласно закону о начальных тезисах и арзисах, указанному выше: то, что начиналось с тезиса, было более спокойно и достойно, то, что с арзиса, – более подвижно и беспокойно.
b. Изменение объема колонов в пределах одного и того же ритма. Г.Аберт приводит для аналогии вторую тему Девятой симфонии Бетховена, где начальные тетраподии вдруг прерываются в высшей степени выразительными триподиями. Бакхий называет это модуляцией по "положению [тезису] ритмопеи" ("когда весь ритм движется по базе или по диподии"). В особенности такая модуляция была распространена в хорической лирике, где не было модуляции в смысле тактового строения. У Пиндара, например, это постоянное явление в противоположность трагикам.
c. Переход от рациональности к иррациональности.
d. Собственное изменение текста, или чистая модуляция, "по ритму". Это – самая важная модуляция. Для суждения о ней важно место из Plut. De mus. 33 (приведенное выше) о том, что может сделать простое изменение пеонов в трохее. Из этого места видно, какое большое значение имел ритм, – большее и более раннее, чем тональность и "род". Если пиндаровская хоровая лирика еще не знает настоящего изменения тактов, то зато это явление обычно в драме. Часто тезисы меняются здесь при переходе от одного лица к другому (например, Aesch. Suppl. 154 слл.; Sept. 345 слл.; Eur. Ion. 184 слл.; Alc. 213 слл.; Ar. Equ. 322 слл.). В сохранившихся музыкальных фрагментах эту модуляцию можно наблюдать в гимне Месомеда к Музе и в конце второго большого дельфийского гимна. В первом произведении вначале, когда только еще призывается муза, дан трехдольный размер, мягко выражающий субъективное настроение автора. Но с пятого такта, где призываются Каллиопа и Аполлон, весь "этос" вдруг становится условно торжественным и появляются знаменитые героические дактили. В конце же, когда поэт переходит опять к своим собственным чувствам ("представьте мне, благосклонные"...), снова водворяется первоначальный трехдольный размер. Еще интереснее ритмическая модуляция во втором дельфийском гимне, где происходит смена энтузиастических кретиков, воспевающих рождение и подвиги пифийского бога, на певучие, более обыденно-лирические логаэды.
e. Модуляция по темпу. Она, конечно, совсем не характерна для малоизменчивого исихастического стиля и очень характерна для других стилей, и в особенности для сольных партий. "Почему, когда много людей, то ритм сохраняется больше, чем когда немного? Потому что здесь смотрят больше на одного руководителя и начинают не сразу, вследствие чего и легче попадают в одно. В условиях же быстроты и ошибка становится больше" (Arist. Probl. XIX 45, 22). Но понятно, что тут играли роль и не только технические причины.
Поскольку ритм вообще оценивался гораздо выше, чем мелодия, в древности и классическую эпоху главнейшим видом модуляции была, конечно, ритмическая. И только в позднейшую эпоху, в эллинистической дифирамбике, модуляции мелодии стали выдвигаться на первый план. Об этом – Plut. De mus. 21:
"Действительно, древние, ценя ритмическое разнообразие, применяли его в более широких размерах, также более разнообразен был тогда и мелодический рисунок аккомпанемента, ибо, насколько современные музыканты увлекаются мелодией, настолько прежние были поклонниками ритма".
Изложенная выше гармоника (с мелодией), ритмика и метрика (в их «этосе») являются, вместе взятые, только теоретической частью музыковедения, как мы видели выше. Изложение других отделов античного музыковедения отвело бы нас слишком в сторону от задач истории эстетики, и потому мы ограничимся только некоторыми дополнительными замечаниями.
1. Вокальная и инструментальная музыка
а) Мы уже знаем (выше, с. 621 слл.), какой оригинальностью обладала в этой области античная музыка. Она – вокальна по преимуществу. Может быть, только в Дельфийских находках (выше, с. 648) мы найдем чисто инструментальную музыку, но это – редкость, да и то не давшая никаких ощутительных оркестровых достижений. В области же вокальности мы должны констатировать в античности отсутствие многоголосия. Хоры пели в унисон или в октаву.
Интересно отметить, что почему-то именно пение в октаву в особенности было любимо в античности. Это можно заключить из Аристотеля (Probl. XIX 39 а). Если вокальность была связана с человеческим голосом, то и это было очень важно: античные мелодии, стало быть, были приспособлены не к инструментальному исполнению, а именно к пению. Инструментальная музыка была только "приправой" (hadysma) поэзии, как это можно заключить из Аристотеля (Poet. гл. 6): "Музыкальная композиция составляет важнейшее украшение трагедии" и из Плутарха (Quest, conv. VII 8, 4): "Мелодия и ритм – приварок к слову". Музыка подчеркивала акценты, оформляла ритмы словесных произведений, но самостоятельного значения не имела. Большею частью это была мелодекламация или речитатив. В таком виде она и была главным образом употребительна в трагедии. "Почему речитатив в песнях трагичен? В силу своей неправильности. А неправильное аффективно и относится к области судьбы или скорби. Правильное же менее плачевно" (Arist. Probl. XIX 6). Речитатив – систальтичен.
Его действие родственно архилоховым ямбам. Между прочим, аккомпанировала музыка не на нижних регистрах, как у нас, а на верхних. Соло исполнялось низкими голосами, а сопровождение – высокими. Arist. Probl. XIX 12: "Почему мелодию ведет нижняя из струн?" Plut. Coniug. praec. 11, 139 с: "Как ведется мелодия более низким голосом, когда два звука берутся в созвучии, так всякая деятельность в доме... указывает на распоряжение мужа". Впрочем, сопровождение никогда и не было унисонно; тут была "гетерофония", какие угодно другие звуки.
б) Примитивные инструменты греков, кифара и флейта, имели, однако, ярко выраженный "этос". Кифара Терпандра имела только семь струн. Каждый тон имел особую струну; и едва ли тут что-нибудь было, кроме подчеркивания ритмической и динамической стороны пения. Можно думать, что флейта потому и переживалась античностью как оргиастический и экстатический инструмент, что, появившись позднее кифары, она создала возможность получать живые и сплошные звуки, живую и длительную мелодию, чего нельзя было получить при помощи кифары с ее изолированными и резко отъединенными мертвыми звуками. С появлением флейты и сама кифара стала переживаться более выразительно, как национальный греческий, спокойно-уравновешенный инструмент, в отличие от иноземной, варварски-экстатической флейты. Подробно, однако, не стоит говорить об "этосе" авлоса и кифары, ввиду его общеизвестности.
2. Три основных этоса
Необходимо, далее, отметить, что античные музыкальные эстетики занимались не только "этосом" отдельных элементов музыки, но и "этосом" цельного музыкального произведения. В учении о мелодии мы уже были принуждены коснуться более общего "этоса". Именно там мы отметили аристидово (111) деление на номический, дифирамбический и трагический стиль. Под номическим, "высокорегистровым", "систальтическим" надо, по-видимому, понимать стиль неразрешенного напряжения. Ему противостоит трагический стиль – нижнерегистровый, "диастальтический", где напряженность, достигая кульминации, доходила до катастрофы и заканчивалась разряжением. Дифирамбический стиль занимал среднее место. К сожалению, Аристид нисколько не развивает эти понятия, но ограничивается только трактовкой их с точки зрения регистра. Правда, речь тут идет только о мелодии. Но что это деление имеет более общее значение, показывает то обстоятельство, что Аристид говорит о систальтике, диастальтике и исихастике в другом месте (I 19) относительно ритма. Так как эти термины близки к первой триаде (хотя, по-видимому, и не покрываются ею), то, несомненно, и под одной и под другой триадой надо понимать общеэстетические категории, хотя и не вполне разъясненные.
3. Музыка и стихия движения. На чем основано античное отношение к музыке?
Как сама древность объясняла такое большое значение музыкального "этоса"? На это, кажется, лучше всего отвечают Псевдо-Аристотелевы "Проблемы" (XIX 27): "Почему из чувственно-воспринимаемого только слышимое имеет "этос"? Ведь если даже без слова существует мелодия, то все равно она имеет этос, в то время как его не имеют ни цвет, ни запах, ни вкус? А потому, что только оно одно имеет движение". В XIX 29 на подобный же вопрос дается ответ: "А потому, что [ритм и мелодия] – движения, как и поступки. Деятельность energeia уже "этична" и создает "этос". Вкусы же и цвета не создают того же" (ср. Polit. VIII 5, 1340 а 12 b слл.). "Все аффекты нашего духа при [всем] своем различии имеют собственные формы (modos) в голосе и пении, тождественностью которых – неизвестно какою тайною – они возбуждаются" (August. Confess. X 33). Это слышимое движение и есть античная аксиома музыкального "этоса". Об этом "уподоблении нравам" античные эстетики говорят на разные лады. Звуки "уподобляются движениям и страстям души" (Aristid. II 24). "Вообще каждая вещь из управляемых природой находится в общении с каким-нибудь отношением (logoy) и в движениях и в объективно-существующих материях" (Ptolem. Harm. III 4). Но совершеннее всего эти отношения осуществляются не на материальных предметах, но на духовных, у богов – на небесных предметах, у людей – на человеческих душах, но больше всего на "гармонических отношениях звуков" (там же).
На этом, в конце концов, основывается и все воспитательное значение музыки, о котором так много говорят все античные философы и эстетики – пифагорейцы, Платон, Аристотель, Плутарх, Аристид Квинтилиан, неоплатоники (см. соответствующие тома ИАЭ).
4. Аристид Квинтилиан о музыке и о душе
Вообще можно было бы привести большое количество текстов, свидетельствующих о том, что античные теоретики музыки вовсе не ограничивались только одним формализмом своих тональных структур, доходящим до неподвижных и малоговорящих числовых таблиц. Но в заключение нам все-таки хотелось бы привести мнение уже не раз использованного у нас музыкального теоретика конца античного мира Аристида Квинтилиана, и это тем более потому, что один современный французский историк античной философии уже обратил на это внимание в своей специальной статье{459}, которую мы сейчас и используем для того, чтобы покончить с вопросом об античном формализме и техницизме в музыке{460}.
Чтобы обосновать сродство, существующее между музыкой и душой, Аристид основывается на двух теориях. Первая носит числовой характер, поскольку музыка есть гармония, а душа также рассматривается как таковая; в душе можно выделить те же интервалы, которые характерны для музыки; такое учение о душе-гармонии было распространено в некоторых пифагорейских и платонических кругах Империи.
Другая теория более оригинальна. Она носит физический характер и ставит своей целью доказать, что физическое устроение души содержит те же элементы, из которых состоит музыкальный инструмент. Благодаря этому сходству и существует определенное соответствие между фибрами души и струнами лиры, между дыханием души и перемещением воздуха, которое производит звук в духовом инструменте. Так любая мелодия, издаваемая музыкальным инструментом, находит мгновенный отзвук в душе, чем и объясняется то удовольствие, которое душа получает от музыки. В своих рассуждениях о душе Аристид близко следует Платону.
Пока душа пребывает в самой чистой области Вселенной, рассуждает Аристид по Платону, и свободна от каких-либо телесных примесей, она чиста и неизменна. Но затем, склоняясь к нижнему миру, она начинает воспринимать образы, исходящие от земных предметов, все более удаляясь от мира идеального. На пути к телу душа проходит различные небесные области, постепенно облекаясь материей, и наконец, уже в этом мире, потеряв свою сферическую форму, она вселяется в человека. Тогда поверхности, которые она приобрела в эфирной области, превращаются в мембраны, а линии, которые отпечатались на ней в эмпирее, переходят в фибры. От земных вещей она воспринимает влажное дуновение. Так образуется физическое первотело души, возникшее из сочетания мембран, фибров и дуновения, в основе которого лежит гармония, укрепляющая человеческое тело, мыслимое как своеобразный инструмент и не дающая ему распадаться.
Далее Аристид приводит соображения, подтверждающие сродство души с музыкальными инструментами. Так, она аналогична струнным инструментам, ибо она состоит из сухих и эфирных фибров. Но, поскольку в душе содержится влажное дуновение, ее можно сблизить и с духовыми инструментами. Попутно Аристидом устанавливается связь между струнными инструментами и эфиром, который сух, прост по своему составу, малоизменчив и которому чужда влага, в то время как духовые инструменты естественно сближаются с воздушной областью мира, где дуют ветры. Утверждая превосходство струнных инструментов над духовыми, Аристид апеллирует к мифу об Аполлоне и Марсии. Он приводит также мнение Пифагора, по которому звуки флейты ублажают неразумную часть души, в то время как ее разумную часть услаждают звуки лиры. Это противопоставление духовых и струнных инструментов повсеместно закреплено религиозной практикой, ибо все, кто поклоняется чистой эфирной области, используют струнные инструменты как наиболее целомудренные, отвергая инструменты духовые, поскольку они способны лишь запятнать душу и обратить ее к предметам низким и земным.
Нам кажется, что приведенный текст Аристида Квинтилиана достаточно глубоко рисует неформалистическую и нетехническую основу античных числовых музыкально-теоретических построений.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



