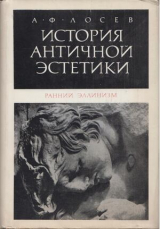
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 78 страниц)
Другой пример интересен еще иначе. Мы имеем в виду замечательное описание чумы в Афинах, которому Лукреций посвятил конец шестой книги, начиная с 1138 ст. Здесь Лукреций дает "естественнонаучное" объяснение эпидемиям, сводя их на деятельность вредных атомов (как будто бы это что-то объясняет), и в качестве примера приводит эту чуму. Философ-поэт затратил здесь очень яркие краски. Эта выразительная, мы бы сказали, слишком выразительная картина чумной эпидемии, правда, есть иллюстрация "естественнонаучных" методов эпикурейства, но, с другой стороны, во всей мировой эпикурейской литературе нет страниц, которые бы больше дискредитировали эпикурейскую эстетику жизни и которые бы в большей степени обнажали ее бесполезность.
Может быть, не так уж был не прав Гегесий, мало известный ученик Аристиппа, исходивший почти из тех же предпосылок, что и эпикурейцы. Он тоже считал, что единственное благо, это – наслаждение (Diog. L. VIII 93), и в этом он подлинный эпикуреец. Но он учил, что наслаждение недостаточно, что страданий гораздо больше, чем наслаждений, что в общей сумме "блаженство неосуществимо" (там же, 94), что напрасно и стремиться к этому недостижимому состоянию. И какой же выход отсюда? По Гегесию, только смерть (там же, 96). Надо притушить и убить в себе всякую чувствительность, но мало и этого. Кто не нашел успокоения и здесь, должен просто покончить с собой. И Гегесий, этот, как его называли тогда, "проповедник смерти", имел огромный успех. Народ толпой валил к этому странному апостолу наслаждения и смерти. И правительству пришлось закрыть его школу, а самого отправить в изгнание. Кажется, философия Гегесия была логическим выводом из эпикурейской эстетики. Продумывая принцип наслаждения до конца, она естественно приходила к учению о самоубийстве. Не была ли эпикурейская эстетика жизни уже с самого начала каким-то частичным самоубийством? И не так ли уже далеко и всякая эстетика чистого наслаждения отстоит от жажды смерти и от проповеди обдуманного, идейного самоубийства?
3. Эпикурейская и стоическая эстетика
В заключение необходимо сказать несколько слов относительно исторического положения эпикурейской эстетики.
Вероятно, читатель не раз замечал в предыдущем изложении, что эпикуреизм, несмотря на полную противоположность стоицизму, во многом очень близко к нему подходит и часто даже с ним отождествляется. В самом деле, то и другое ставит, прежде всего, вопросы самосознания внутреннего устроения личности, трактуя физику только лишь как подспорье. То и другое исходит из ощущения и объявляет телесность всего существующего; то и другое – "материализм". Стоики учат о фатализме, который тем не менее оказывается в то же время и телеологией; эпикурейцы – также, исходя из теории необходимости, внесли в свою физику теорию атомного отклонения в целях как раз сознательного применения принципа свободной воли, так что и там и здесь несомненно учение о совпадении свободы и необходимости. Огнеподобность души – общее учение и у стоиков и у эпикурейцев.
Совпадают и многие пункты самой этики. Обе системы ставят целью освобождение личности и ее счастье, блаженство, абсолютную независимость. Обе системы высшее состояние блаженства находят в апатии, в атараксии, в апонии, в покое самоудовлетворения, в невозмутимой ясности сознания. И стоики и эпикурейцы требуют большого аскетизма, ибо счастье достается далеко не даром; его надо воспитывать, его надо добиваться, и дорога к нему – умеренность, воздержание, самообуздывание и скромность. Даже и религиозная проблема решается у тех и у других, самое меньшее, сходно, если не прямо тождественно, так как возвышение к божеству и трактование богов как идеалов, во всяком случае, – мало чем отличается у тех и у других. Спокойствие перед смертью, высокая нестяжательность мудреца, совершенное владение своими инстинктами и страстями, блаженное слитие умом с блаженно-невозмутимым божеством, – все это совершенно неотличимо у стоиков и эпикурейцев и делает их философами одного и того же века углубленного субъективизма, индивидуализма и, значит, имманентизма.
И при всем том – всякий ощущает пропасть, лежащую между этими двумя мироощущениями; и ощущали это и самые представители их, находясь в постоянной и ожесточенной взаимной борьбе. Их общая основа – абстрактная единичность субъективного Самосознания, выдвинутая наперекор абстрактной всеобщности объективного самосознания предыдущей, доэллинистической философии. На этом общем фоне обе школы, однако, резко разошлись, и расхождение это только повторило всегдашнюю распрю в человеческой мысли "общего" и "частного", "идеального" и "реального", "единства" и "множественности". Стоицизм – это примат над единичным, единственности над множественностью на общей ступени абстрактной единичности субъективного самосознания; эпикурейство же, наоборот, примат множественности над всеобщим единством на той же самой ступени субъективного самосознания. Отсюда проистекают и все частные различия обеих систем. Там и здесь бытие телесно, и душа есть только воздух и огонь, но у стоиков бытие, с его телами и душами, восходит к единому Огненному Слову, в отношении которого мир и все вещи есть только разная степень напряжения и истечения, у эпикурейцев же оно так и остается в сфере дискретной множественности, будучи объединено лишь внешним "распорядком", структурой. Там и здесь объединение фатализма с телеологией, но у стоиков в результате получается здесь "любовь к Року", у эпикурейцев же Рок есть только наши призрачные страхи, которые изгоняются наукой и философией. Те и другие учат о блаженстве, покое и невозмутимости, но стоики мыслят и действуют, эпикурейцы же здесь только "наслаждаются". И те и другие бесстрашны перед смертью, но одни – из-за будущего небесного эфирного состояния, другие же – из-за полного уничтожения и саморазделения на атомы. Стоическая красота – это смысловые извилины хаотического бытия, напряженно трепещущего перед взором невозмутимого философа; эпикурейская же красота – это тайно ощущаемое наслаждение от бесцельности и бесполезности этого хаоса – у мудрого и тоже невозмутимого философа. У стоиков в этой общей хаотической множественности действует сверху разумное начало (ибо хаос тоже имеет свой разум, разум хаоса), и потому у них боги суть активно действующие силы; у эпикурейцев в этой же самой бытийственной множественности действует снизу алогическое начало (ибо разум тоже имеет в себе нечто вне-разумное, а именно свое существование), и потому боги у них суть только далекие идеалы, живущие своей внутренней жизнью, без всякого внимания вовне. У одних – это идеалы, действующие сверху вниз; у других – это идеалы, действующие снизу верх. И самая красота – у одних нисходит в дискретную множественность путем ослабления бытийственного "тоноса"; у других она восходит к ощутимому единству путем сосредоточения вне "пестроты" чувственности.
4. Эпикурейская эстетика и Демокрит
Очень интересный результат получается из сравнительного анализа эпикурейства с Демокритом, – каковое сопоставление так же естественно и привычно, как и сопоставление стоицизма с Гераклитом. Весьма важные результаты дает в этом отношении юношеская диссертация К. Маркса "Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура" (1841){270}.
а) Демокрит выступает перед нами прежде всего как скептик. Чувственное для него всего только субъективная видимость, причем с этим у него соединяется постоянная опора на естественные науки и даже эксперимент. Эпикур, наоборот, догматик, а не скептик. Чувственный реальный мир не есть для него субъективная видимость, но самая настоящая реальность. При этом, однако, Эпикур презирает науки и опыт и только требует, чтобы объяснения не противоречили чувственному опыту. В чем же дело? Дело в том, что атомизм Демокрита вызван философской ступенью, располагавшей только ресурсами логико-объективистической мысли. Эта ступень знала только абстрактную всеобщность мысли, не перешедшую не только в эллинистическую единичность самосознания, но даже еще и к сократовской рефлексии этого всеобщего. Результатом ее было проецирование вовне абстрактных определений мысли (единство, множество, становление), легко переходившее в иллюзионистское толкование всего конкретно-чувственного. И совсем другое дело у Эпикура. Эпикур – это установка не абстрактно-всеобщего, но абстрактно-единичного, причем так как это – философия самосознания, то тут имеется в виду абстрактная единичность самосознания, то есть изолированное бытие внутренне-самодовлеющего субъекта. Это привело к новому трактованию внесубъективной действительности. Последняя понималась по типу самодовлеющего субъекта, то есть проецировались тут вовне не просто абстрактные формы мысли, но такие формы, которые содержали свое определение в самих же себе, а не от другого. Демокритовский мир определен абстрактными категориями со стороны мыслящего субъекта. Эпикурейский же мир определен так, что видно, как он сам себя реально определяет, ибо этого требует общеэпикурейская позиция абстрактной, то есть дискретно-самодовлеющей, множественности. Демокритовский мир конкретнее эпикурейского в том смысле, в каком древние нерасчлененные мифы конкретней позднейших философских построений. Он ближе к наивному общемифологическому мировоззрению. Но с точки зрения философии он гораздо абстрактнее, ибо в нем остаются осознанными только формы абстрактно всеобщей или логико-объективистической мысли, и во всем прочем он – несвободен, он зависим от своего инобытия, от философски размышляющего и конкретно ощущающего субъекта. Эпикурейское объективное бытие гораздо конкретнее в философском отношении, поскольку оно воплощает в себе не только абстрактно-всеобщие, но и абстрактно-единичные формы, заставляющие его получать определения не только извне, но и из самого бытия, ибо иначе оно и не могло бы стать единичным.
Это общее отличие эпикурейства от старого атомизма проявляется во всех основных вопросах эстетики и философии. Демокритовские атомы движутся по прямой линии сверху вниз, воплощая этим свою абстрактно-всеобщую природу. Тут как бы только и утверждается, но утверждается в терминах пространства, что атом есть атом. Но это возможно только тогда, когда реальное движение атома определено не им самим, но извне. Если атом действительно содержит свое собственное определение в самом себе, то он содержит в себе и свое инобытие, впервые делающее возможным его движение, то есть он должен самостоятельно отклониться от своего первоначального прямолинейного движения, свойственного ему в порядке абстрактно-всеобщего определения. С введением этого отклонения впервые атом становится единичностью (хотя тоже все еще абстрактной, ибо конкретность тут привела бы к превращению его в акт самосознающей монады, что и случилось впоследствии в неоплатонизме).
Возьмем проблему качества атомов. Иметь свойство – противоречит понятию об атоме. Если каждое качество атома изменчиво, а атомы не меняются, то или атом сам не определяет себя, тогда – демокритовский дуализм и субъективность чувственных качеств, или атом несет в себе собственное определение – и тогда эпикурейское учение о реальности всех качеств атома, то есть его истечений (и если мы ошибаемся в приписывании качеств вещам, то не потому, что все качества вещей субъективны, но потому, что еще до воздействия на органы чувств истечения вещей могут взаимно повлиять друг на друга и дать нам не ту картину вещей, которая была вначале).
То же наблюдение можно провести над понятиями "atomoi archai" (первичные атомы) и atomoi stoicheia (реально-вещественные атомы), о которых говорит Диоген Лаэрций (X 41 и 86), над понятием времени, которое у Демокрита совершенно пропадает и вполне обосновывается в эпикурействе; над учением о метеорах, об этом, казалось бы, наиболее прочном осуществлении абстрактного закона единства, где Эпикур проповедует, вопреки всем, постулат изменчивости, множественности и условности всякого объяснения; над учением об общественном договоре, о дружбе, о богах, и т.д.
б) Но что дает этот сравнительный анализ Эпикура и Демокрита для эстетики? Хотя эстетикой оказывается у греков почти всегда уже сама онтология, нельзя ли все-таки из этого анализа сделать выводы существенные для эстетики в более узком смысле? Да, эти выводы можно сделать. И заключаются они в следующем.
Что такое эпикурейская красота? Это есть абстрактная единичность самосознания, пришедшая в своем самоопределении к ощутимому тождеству с самой собой в аспекте алогической множественности. С такой точки зрения, казалось бы, наивысшей и самой совершенной красотой была бы жизнь богов, которая ведь состоит как раз из единичностей, всецело ощутивших самих себя, пребывающих в абсолютном самосознании, равно как и ощутимо содержащих в себе все свое, и алогическое и множественное. Дело в том, что боги суть не только единичности, но каждый из них воплощает в себе и все общее; кроме того, природа и сущность, тело и знание, материя и форма претворены здесь в единство абсолютного существа. А это значит, что такие существа в своем самоопределении суть силовые идеи всего бытия, всемогущие энергии, которыми определяется весь мир, то есть тут гибнет одиночная красота изолированного субъекта и он оказывается связанным с этой универсальной, но конкретной красотой божественного самосознания. А вот этого-то и не хочет Эпикур, потому что это было бы уже выходом из области абстрактной единичности самосознания. Эпикур ставит физические и космологические исследования в зависимость от целей индивидуального самосознания. Небо должно быть таким, чтобы не была нарушена человеческая атараксия. И если она нарушается, то, значит, не вечно самое небо. Тут абстрактно-единичное самосознание сбросило все свои маски; и когда оно видит, что оно переходит в конкретное, но и абсолютное самосознание, оно ожесточенно набрасывается на это последнее, считая его дурманом и обманом и стремясь всячески освободить человечество от этих пустых тревог и страхов. Маркс пишет:
"В небесной системе материя приняла в себя форму, включила в себя единичность и, таким образом, достигла своей самостоятельности. Но, достигнув этой точки, она перестает быть утверждением абстрактного самосознания. В мире атомов, как и в мире явлений, форма боролась с материей; одно определение уничтожало другое, и именно в этом противоречии абстрактно-единичное самосознание чувствовало, что его природа приобрела предметный характер. Абстрактная форма, которая, в образе материи, боролась с абстрактной материей, и была этим самосознанием. Но теперь, когда материя примирилась с формой и стала самостоятельной, единичное самосознание высвобождается из своей личины, объявляет себя истинным принципом и восстает против ставшей самостоятельной природы"{271}.
Тут раскрывается последний секрет эпикурейского эстетического сознания. Это, кратко говоря, есть какой-то божественный атомизм или, лучше сказать, атомистическая божественность, где прекрасно только то, что божественно, но эта божественность должна быть превращена в какую-то солнечную пыль, о которой так любит говорить Лукреций. Солнечная пыль, в которую превратилось единое солнце космического самосознания, – вот что такое эпикурейская красота, если под солнцем понимать абсолютный свет совершенного самосознания и самоощущения. Эпикурейский деизм есть только частный случай эпикурейского атомизма, равно как и вся эпикурейская атомистическая эстетика есть не что иное, как частный случай общегреческой философии софийно-мерного космического Ума, которая в аспекте абстрактной всеобщности дала Демокрита с интеллигентной корреляцией у Платона и Аристотеля, а в аспекте абстрактной единичности дала с перевесом всеобщности и единства стоицизм, а с перевесом частной множественности – эпикурейскую эстетику с ее изолированно-дискретной, но ощутимо-самодовлеющей множественностью.
5. Эпикурейская эстетика и рабовладение
Остается еще один и последний вопрос, и наша характеристика эпикурейской эстетики будет закончена. Может быть, мы и не считали бы необходимым в общей характеристике античного эпикуреизма ставить вопрос о рабовладении. Однако излагатели античной философии и эстетики обязательно выставляют на первый план именно рабовладельческое происхождение и всей античной философии и всей античной эстетики. Правда, никакой специфической связанности античного сознания рабовладельческими горизонтами обычно никак не анализируется. Выставляется рабовладение в виде многообещающей декларации; но в чем проявлялась существенная связь философии с рабовладением, об этом говорится весьма редко и весьма абстрактно. Дело усугубляется еще и тем, что сами античные философы большею частью тоже ничего не говорят о рабовладении. В сущности говоря, еще и до настоящего дня не выяснен вопрос о рабовладельческой природе греческой философии и эстетики периода классики. А решение этого вопроса, предлагаемое автором настоящего труда{272}, еще не получило достаточного распространения. В отношении эллинизма наши историки тоже все время подчеркивают важность изучения рабовладения. Но до сих пор не только не имеется более или менее подробной характеристики связей эллинистически-римской философии и эстетики с рабовладением, но даже и характер самого-то рабовладения в эпоху эллинизма, и особенно в ранний его период, освещается у историков чрезвычайно мало и без приведения ярких и специфических фактов. Также и в отношении эпикурейской эстетики не имеется никаких рассуждений, которые как-нибудь, хотя бы пусть отдаленно, связывали бы эпикурейскую эстетику с рабовладением. Кратко ответить на этот вопрос мы считали бы необходимым, если только социально-исторические основы эпикуреизма не оставлять на ступени декларации и самых общих заявлений.
Эпикурейская эстетика, говоря просто и кратко, есть эстетика человеческого субъекта, всецело погруженного в переживания наслаждения от процессов жизни и оградившего себя в целях внутреннего покоя и самодовлеющей невозмутимости. Спрашивается: а кто же будет работать, если все мы станем эпикурейцами и предадимся беззаботной и невозмутимой эстетике внутреннего самонаслаждения? Тут естественно было бы ответить, что я сам и буду заботиться о своем существовании и доставать необходимые для него средства. Но, позвольте, это ведь для меня очень беспокойно. Что же, вы думаете, я сам должен ходить на рынок и покупать продукты, да еще, скажете, сам же должен и пищу для себя готовить? Нет, уж во всяком случае, нет. Я хочу предаваться наслаждению, а вы меня гоните на базар. Я хочу беззаботно жить, а вы меня заставляете пищу готовить. Нет, я живу, скрываясь от всех людей, не то что от торговцев на рынке, даже и от философов, от ученых, от художников. Да потом, как же это вдруг, идти на базар? А где же мне доставать деньги для покупки продуктов? У меня нет никаких денег, да я и не хочу их иметь. Деньги – ведь это же сплошные заботы, сплошные неприятности, сплошные разговоры. А когда же я буду наслаждаться? Нет уж, пожалуйста, избавьте меня и от хождения по базарам, и от приготовления пищи, да и вообще от всяких домашних и неотложных забот. Вы скажете: а вы наймите себе прислужников, они и будут о вас заботиться. Прислужников? А на какие деньги? Денег у меня нет и никогда не будет. Деньги – это зло, которое может только разрушить мою самоуслаждающую эстетику. Да и потом – фи! – как это некрасиво иметь дело с грязными прислужниками, о чем-то с ними уславливаться, куда-то их посылать, чего-то от них ждать. Фи! Да это просто будет мешать моему покою, моей безмятежности и моему самонаслаждению.
Дело ясное: барина должны обслуживать рабы. Рабов не нужно нанимать, они вообще являются владением барина. Рабам не нужно ничего платить, потому что они рабы по самой своей природе и делают все бесплатно. Рабам не нужно давать никаких поручений, не нужно их куда-нибудь посылать, не нужно заказывать им завтраки и обеды. Хороший раб или несколько рабов в моем доме решительно все делают сами, что нужно для моего существования и моего наслаждения. Ну, а в крайнем случае, если раб оказался плохой, я его продал и купил себе нового раба, уже не требующего от меня каких-нибудь наставлений или понуканий. Хороший раб, – уж будьте уверены, – ровно никого не допустит к барину, когда тот наслаждается, и вообще сделает все необходимое, что нужно для внутренней невозмутимости барина, для его внутреннего покоя и для его созерцательной невозмутимости.
Нам кажется, что эпикурейскому барину никак не обойтись без рабовладения. Ведь надо же как-нибудь организовать барину его существование, основанное на единственном принципе, именно на принципе наслаждения. Рабовладение – последняя и самая необходимая опора для эпикурейской эстетики. Поэтому, если претендовать на конкретную социально-историческую основу эпикурейской эстетики, то без привлечения рабовладения нет никакой возможности характеризовать эту социально-историческую основу конкретно. Пожалуй, из всех разновидностей античной эстетики эпикурейская эстетика особенным образом нуждается в рабовладении; и эпикурейского барина труднее, чем всякого другого античного эстетика, представить без всякого рабского окружения. Впрочем, каждая эстетическая школа в античности имела свой собственный рабовладельческий оттенок. Изучать и формулировать все эти античные рабовладельческие оттенки было бы большой роскошью для современного состояния науки об античности. Если мы поймем, что даже такая нерабовладельческая по своему существу эстетика, как эпикурейская, прямо-таки вопиет о рабовладении, то для настоящего состояния науки об античности уже и этого будет более чем достаточно.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



