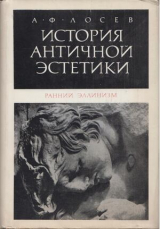
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 78 страниц)
Но при этом все люди считают свои переживания хорошими или плохими и думают, что они действительно переживают то, что на самом деле существует. Скептик же при этом совершенно ко всему равнодушен и совершенно ничего не оценивает в хорошем или плохом смысле (I 30).
г) Секст Эмпирик очень много места уделяет своему учению о так называемых скептических выражениях, то есть, мы бы сказали, просто об основных тезисах скептицизма, взятого в чистом виде: "не больше" (то есть одно не более правильно, чем другое), "может быть", "возможно", "допустимо", "воздерживаюсь от суждения", "я ничего не определяю" и "все есть неопределенно", "все есть невоспринимаемо", "я не могу схватить", "я не воспринимаю", "всякому рассуждению противостоит равное" (I 187-205).
Изучающий античную философию тут же подумает, что все эти любимые скептические словечки и выражения нужно понимать в прямом смысле слова. Так, например, если скептик говорит, что он воздерживается от суждения, то большинство пишущих и читающих об античных скептиках так и думают, что скептик, действительно, воздерживается от всякого суждения. Это совершенно неправильно. Ни от каких суждений скептик вовсе не отказывается и никакой воздержанностью в этом отношении он вовсе не отличается, или отличается в той же мере, как и все прочие люди. Однако воздержание от суждений, какие бы суждения он фактически ни высказывал, заключается в том, что всякое свое суждение он высказывает не от себя, так как существует он или нет, это ему неизвестно и ему только "кажется", что он существует, и направляется это суждение хотя и к реальному человеку, но скептик при этом думает, что перед ним не реальный человек, но то, что "кажется" реальным человеком, и, наконец, само высказывание суждения тоже для него не суждение само по существу, а только то, что "кажется" высказыванием.
"Обо всех скептических выражениях следует заранее признать то, что мы вовсе не утверждаем, что они правильны, так как говорим, что они могут быть опровергнуты сами собою, будучи описаны вместе с теми вещами, о которых они говорят, подобно тому как очистительные лекарства не только избавляют тело от соков, но вместе с ними выгоняются и сами" (I 206).
Таким образом, сущность античного скептицизма чрезвычайно специфична. Она не только не исключает античного объективизма, но, пожалуй, делает его еще более богатым. Об этом у нас ниже.
Само собой разумеется, Секст отмежевывается от всякой догматической философии, в том числе от Гераклита (I 210-212), Демокрита (I 213-214), киренаиков (1215), Протагора (I 216-219), академиков (I 220-235), от медицинской эмпирии (I 236-241), несмотря на то, что с нашей современной точки зрения, как мы об этом отчасти уже выше говорили, у всех этих догматиков несомненно содержатся те или иные черты скептицизма.
д) Но мы бы сказали, что Секст не чужд догматизма даже и в положительном смысле слова. Мало того, что всякому отрицанию он может противополагать то или иное утверждение. Но он прямо говорит:
"Итак, скептический способ рассуждения называется "ищущим" от деятельности, направленной на искание и осматривание кругом, или "удерживающим" от того душевного состояния, в которое приходит осматривающийся кругом после искания, или "недоумевающим" либо вследствие того, что он во всем недоумевает и ищет, как говорят некоторые, либо оттого, что он всегда нерешителен перед согласием или отрицанием" (I 7).
Следовательно, Секст Эмпирик не просто "воздерживается", но он еще и постоянно "ищет". С этой точки зрения даже и академическое учение о вероятности кажется ему недостаточным, и недостаточна для него эта вероятность именно из-за своей ненастоящей положительности. Он пишет, что толкование у академиков добра и зла как вероятных принципов никуда не годится. Чтобы жить и действовать, нужно иметь дело не с вероятными вещами, людьми и событиями, но с теми, которые нам кажутся таковыми. "Мы же ни о чем не говорим, что оно добро или зло, так, чтобы считать вероятным то, что мы говорим, но, не высказывая мнения, следуем жизни, чтобы не быть бездеятельными" (I 226). Следовательно, скептики хотят и жить и мыслить, а также хотят иметь дело и с добром и со злом, но только отказываются выражаться обо всем этом по существу и даже с точки зрения вероятности. Важно, что мы представляем себе вещи существующими, а не то, что они только вероятны. Поэтому учение о всеобщей кажимости и о всеобщем воздержании у скептиков не имеет ничего общего с отказом от жизни, с уходом из мира и с невозможностью рассуждать и говорить. Пусть одни что-нибудь утверждают, а другие что-нибудь отрицают. Скептики же ничего не утверждают и не отрицают, но только еще ищут. Так Секст и говорит: "Ищут же скептики" (I 3).
Самое главное, согласно скептикам, – это то, что нам даны только явления, но не дана сущность явлений. Однако это нисколько не мешает ни жить, ни мыслить, ни действовать. Наоборот, для античных скептиков точный учет того, что кажется, как раз и дает возможность и жить, и мыслить, и действовать.
"...Никто, вероятно, не поколеблется относительно того, таким ли или иным является подлежащий предмет, но сомневаются в том, таков ли он на самом деле, каким кажется. Таким образом, придерживаясь явлений, мы живем в соответствии с жизненным наблюдением, не высказывая решительного мнения, потому что не можем быть всецело бездеятельными" (I 22-23).
Можно ли после этого понимать "воздержание" скептиков в буквальном смысле слова? Мы даже сказали бы больше: можно ли вообще античных скептиков считать скептиками в абсолютном смысле слова?
"Мы не отбрасываем того, что мы испытываем вследствие представления и что невольно ведет нас к его признанию" (I 19).
Все такого рода изречения скептиков свидетельствуют о том, что хотя они считают все свои представления только кажимостью, тем не менее, взятые сами по себе, эти последние для них вполне реальны. Скептик даже и поступает согласно со своими представлениями о жизни. Тут мы должны внести еще одну поправку в традиционное представление о греческом скептицизме.
е) Все думают, да об этом говорят и сами скептики, что они вовсе не отрицают существующего, а только говорят о его кажимости. Скептик, например, вовсе не говорит, что дождь не идет, если дождь фактически идет и этот дождь фактически воспринимается скептиком. Слово "кажется" есть односторонний и часто неверный перевод греческого "docei". Греческое "doceo" часто значит не "кажусь", но "оказываюсь". У Платона и Аристотеля нам лично часто приходилось встречать тексты, где "docei" надо переводить не "кажется", но "как известно", или "как всем известно", "как нужно думать", "как принято думать", "вернее всего" и т.д. Другими словами, этот термин вовсе не обозначает только субъективистского понимания вещей и существ. Он часто указывает только на то, что вещи и люди иной раз выступают именно с данной стороны, а не с другой стороны, что на самом деле они глубже и разностороннее и что вообще их подлинной сущности мы не касаемся, хотя бы даже и знали ее. В такой фразе, например, как "Иванов вел себя на собрании очень честно", вовсе не говорится о том, что Иванов и по своей сущности всегда весьма честен, а говорится только о том, что он в данном случае таковым оказался. Ведь это указание на явление, в противоположность сущности, тоже весьма важно для человеческого общения. Не все же мы знаем сущности предметов, о которой говорим, да иной раз даже и необязательно знать эту сущность. Но то, как она является, чем она оказывается, как она себя фактически проявляет, уж это мы во всяком случае либо знаем по своим разговорам с другими людьми, либо стараемся узнать, либо убеждаем себя, что знаем.
Поэтому опора античных скептиков на явления ровно ничего субъективистского в себе не содержит. Ведь для субъективизма необходимо было бы отрицать существование самих сущностей, то есть вещей в себе. Этого скептики не отрицают уже потому, что они вообще ничего не отрицают, а одновременно также и признают отрицаемое. Следовательно, здесь перед нами вовсе не агностицизм, а только опора на явления, то есть феноменализм. Кроме того, признавая необходимость для каждого суждения еще и противоречащего ему, они тем самым еще больше колеблют свой агностицизм. Это не агностицизм, но контрадикторная (то есть основанная на противоречии всего всему) исостения.
О том, что ничто человеческое античным скептикам не чуждо, свидетельствует не просто использование у них обычных мыслей или поступков, но и проповеди прямого человеколюбия. В самом конце "Пирроновых положений" (III 280) Секст рекомендует выбирать трудные или легкие доказательства и опровержения в связи именно со своим человеколюбивым настроением.
ж) Таким образом, если подвести итог нашим наблюдениям относительно скептицизма в собственном смысле слова, идеальным выразителем которого является Секст Эмпирик, то мы должны сказать, что в античном скептицизме удивительным образом объединяются и даже отождествляются две разные области, которые обычно всем кажутся не только разными, но даже и несовместимыми.
Одна область – это всеобщее отрицание или, точнее сказать, всеобщий релятивизм; все, что существует, в то время и не существует; все, что возможно, в то же самое время и невозможно; всякое наше высказывание есть в то же самое время и отсутствие всякого высказывания; всякая вещь, отличная от другой вещи, одновременно и тождественна с ней; всякое утвердительное суждение одновременно является и отрицательным суждением; все, что можно сказать о чем-нибудь, это самое в то же время и нельзя сказать об этом, и т.д. Таким образом, это не просто отрицание всего, но одновременно и утверждение всего. А мы бы сказали, что это не только релятивизм, который все считает относительным, но, поскольку эта всеобщая относительность все же положительно утверждается как нечто несомненное, этот скептический релятивизм оказывается в то же самое время и абсолютизмом.
Можно сказать и иначе. Раньше, исходя из скептического отождествления бытия и не-бытия, мы назвали это бытие нейтральным, или иррелевантным. Эти термины не только не являются античными терминами, но и отличаются отрицательным характером. Некоторые их значения заключаются только в том, что они взяты из разных современных нам философских концепций, которые, независимо от нашей их оценки, во всяком случае являются понятными. Однако, может быть, лучше было бы употребить греческий термин, к тому же принадлежащий самим скептикам, который не столь понятен, как современные нам термины, но зато явно обладает положительным значением. Этот термин – "isostheneia", который означает "одинаковость мысли", "равнозначность", "равновесие", "взаимное предположение, утверждение и отрицание". Что касается Секста Эмпирика, то этот термин употребляется у него в текстах – Pyrrh. I 8. 10. 190. 196. 200; II 103. 130; Adv. math. II 99; VII 443; VIII 159. 298. 363; IX 59. 137. 192; X 168. Не приводя этих текстов целиком, что отняло бы много места и времени, мы должны сказать, что везде в них имеется в виду равнозначность именно утверждения и отрицания. Выгода этого термина состоит в том, что он является чисто греческим, и притом специально скептическим. Секст Эмпирик прямо говорит (Pyrrh. I 12), что исостения является принципом (arche) всей скептической философии.
3. Систематика и схематизм
Далее, что бросается в глаза при изучении Секста Эмпирика, так это его неимоверная склонность решительно все систематизировать, то есть исчерпывать все логические моменты изучаемого предмета в их определенной последовательности, и решительно все схематизировать, несмотря ни на какую сложность изучаемого предмета.
Схема эта состоит у Секста Эмпирика обычно из двух или чаще из трех элементов. Очень часто второй элемент представляет собой отрицание первого элемента, а третий обычно берется либо как синтез двух первых элементов, либо, и это чаще всего, как нечто третье, уже независимое от первых двух элементов. Вся эта систематика и схематика неуклонно проводится у Секста с начала до конца, так что, в конце концов, становится даже весьма скучным делом читать его: уже заранее оказываются известными те выводы, к которым он придет. А вывод этот везде один и тот же: никто ничего ни о чем никогда и никак не знает и не может знать. Что сам-то Секст рассуждает гораздо богаче, это мы уже видели и еще увидим ниже. Тем не менее вся структура философствования у Секста состоит именно из этих схем, соединенных в такие же неподвижные и однообразные системы. По-видимому, философия Секста Эмпирика представляет собою продукт чрезвычайной перезрелости и крайней старости античной философии, потому что именно старость, уже не имеющая сил творить что-нибудь новое, часто повторяет то старое, к чему привык человек в зрелом возрасте, и повторяет бесконечно одно и то же.
Черты некоторого философского творчества, может быть, проглядывают у Секста именно в этом систематическом и схематическом напоре. Ему во что бы то ни стало хотелось обнять всю греческую философию в схематическом виде; и это, вероятно, заставляло его многие прежние философские системы передумывать заново и излагать их по-новому для того, чтобы у него обязательно получилась искомая им система, основанная на объединении заскорузлых и неподвижных философских схем. Впрочем, это обстоятельство довольно часто делает всю эту затвердевшую и окаменевшую систематику чем-то весьма интересным, даже новым, не говоря уже о том, что благодаря использованию разных философских систем прошлого Секст является замечательным, а иной раз даже и единственным источником наших знаний по истории греческой философии. Однако приведем несколько примеров его систематически-схематического метода, поскольку он является для Секста таким же специфическим, как и приведенные у нас выше исостенические черты его философии.
Развернем его систематический труд "Пирроновы положения".
Уже с самого начала мы читаем, что вещь можно либо найти, либо не найти, либо только еще искать. Как мы уже сказали выше, Секст считает скептиков именно ищущими (Pyrrh. I 1). О скептической философии, по Сексту, можно рассуждать вообще и в частности. Общие вопросы – 1) скептическая специфика, 2) понятие скепсиса, 3) принцип скепсиса, 4) его разумные основания, 5) критерий суждения, 6) цель, 7) тропы, 8) сущность отрицания у скептиков. Частное же рассуждение о скепсисе касается частных вопросов критикуемых им догматических систем (I 2). Другими словами, по-видимому, это есть совокупность трактатов "Против ученых", так как именно там анализируются отдельные догматические науки.
Противопоставляется явление и мыслимое. Но тут же рассматриваются и разные формы объединения и противоположения того и другого: явление – явлению, мыслимое – мыслимому, явление – мыслимому, мыслимое – явлению (14).
Жизненное наблюдение распадается, по Сексту, на четыре части – о поведении в определенных природных условиях, о повелении в условиях принудительных ощущений, то же при воздействии законов и обычаев и при изучении искусств (I 11).
Десять тропов скептических опровержений касаются того, кто опровергает (первые 4 тропа), того, что опровергается (тропы 7-й и 10-й), третье – того и другого (тропы 5, 6, 8 и 9-й) (I 14).
Все догматические науки делятся у Секста на три разряда – логику, физику и этику. Это деление содержится не только в трактате "Против ученых", но, как мы видели выше, и в "Пирроновых положениях". Бросая взгляд на предыдущие периоды философии, Секст находит, что одни философы признавали только одну из этих наук, другие только две, третьи – все три, причем комбинация двух и трех была разная, но только с использованием указанных трех наук (Adv. math. VII 2-4).
В трактате "Против логиков" сначала говорится о критерии (VII 29-37), об истине (VII 38-45) и о критерии истины с разбором соответствующих учений (VII 46-262). Критерий истины рассматривается как критерий поведения и критерий существования, а о критерии существования говорится в тройном смысле: в общем, частном и наиболее частном. О скептическом поведении Секст говорил, по-видимому, в каком-то своем не дошедшем до нас трактате. Что же касается критерия существования (VII 31-33), то его тройной смысл годится у Секста и общему, и частному, и наиболее частному. Общее понятие критерия – это то, как мы сейчас показали, что объединяет критерии всех отдельных областей. Частное понятие критерия относится к отдельным инструментам измерения (локоть, весы, отвес и циркуль). Наиболее частное понятие критерия – разум, в отличие от отдельных способов и инструментов познания. В дальнейшем (VII 34-37) эта третья разновидность критерия в свою очередь разделяется на критерии "кем", "чем" и "в направлении чего".
Что же касается истины, то при изложении этого предмета Секст ограничивается стоическим трояким делением на субстанцию, состав и значение истины с приведением соответствующих примеров. Это стоическое учение у Секста не подвергается критике, но схематизм его ясен (VII 38-45).
Однако, как мы видели, Секст говорит не только о критерии и не только об истине, но еще и о критерии истины. Если исключить не признающих никакого критерия истины, то, по Сексту, одни признают разумный критерий, другие чувственный критерий, третьи – оба вместе (VII 47 – 48). Из отрицающих критерий Секст излагает и критикует Ксенофана, Ксениада, Анахарсиса, Протагора, Дионисиодора, Горгия, Метродора, Анаксарха, Монима (VII 49-89). К утверждавшим разумный критерий Секст относит Анаксагора (VII 90. 91), пифагорейцев (VII 92), Посидония (VII 93), Парменида (VII 111. 114), Гераклита (VII 126-135), Демокрита (VII 135-139), Платона (VII 14-144). О чувственном критерии говорили, по Сексту, Эмпедокл (VII 120-125), Антиох и Асклепиад (VII 201), Эпикур (VII 203-208), который считал, что предмет существует таким, каким является, и что очевидность – фундамент и основание для всего (VII 216). И то и другое основание принимали Спевсипп, который говорил о научном разуме и научном восприятии (VII 145), Ксенократ, учивший о трех критериях (VII 147-149), Аристотель и перипатетики (VII 211-226). Аркесилай говорил о разумной устроенности (VII 158) в качестве критерия истинности, Карнеад и его сторонники – об истинном представлении (VII 173-175), отличающемся нераспыленностью (VII 176) и разработанностью (VII 181), стоики о постигающем представлении (VII 228. 253), не имеющем препятствия (VII 253. 257). По мнению киренаиков, критерием всего существующего являются чувственные аффекции (VII 190-200).
Сказать, что Секст выдерживает здесь свое собственное деление, никак нельзя. Указанные им члены деления часто пересекают друг друга и вовсе не являются тем разделением понятий, которое мы сочли бы за школьное и обыкновенное, хотя напор на схематизм и систематизм у Секста Эмпирика везде остается неизменным. Перечисленные до сих пор философы даны у Секста в довольно спутанном виде. Но разделение критериев на "кем", "чем" и "в направлении чего" все-таки опять возобновляется у Секста после перечисления этих философов (439).
Сейчас мы рассмотрели состав всей VII книги, которая, как было указано выше, является I книгой трактата "Против логиков". Подобного рода анализ нетрудно было бы проделать и со всеми другими книгами, входящими в цикл трактатов "Против ученых". Делать этого, конечно, нам не следует, потому что всякий читатель легко и сам может убедиться при анализе любой книги Секста в указанной нами систематике и схематике. Несомненно одно: здесь перед нами самый настоящий апофеоз схематики и систематики.
4. Апофеоз формально-логического закона противоречия
Сейчас важнее будет обратить внимание на самый метод этого схематизма и этого систематизма у Секста. Метод этот в подавляющем большинстве случаев основан на формально-логическом законе противоречия. Если Сексту известно, что данное А бывает либо каким-нибудь В, либо каким-нибудь С, то это для него уже значит, что А не есть ни В, ни С, а значит, не существует и никакого самого А. Но тут Секст допускает две фундаментальные формально-логические ошибки.
Во-первых, допустим, что А действительно не есть ни В и ни С. Из этого вовсе не вытекает, что нет еще никакой другой альтернативы. Если даже с полной очевидностью доказано, что А не есть ни В и ни С, то еще вполне возможно, что А есть В+С. Во-вторых, если невозможно никакое соединение В и С, то А может оказаться таким целым, которое хотя и не есть простая сумма В и С, но зато есть нечто более высокое, чем эта сумма. Например, лист дерева не есть само дерево, и ветки дерева не есть само дерево, и кора дерева не есть само дерево, и корень дерева не есть само дерево. Почему же мы из этого должны делать вывод, что никакого дерева вообще не существует? Прежде всего, существует сама голая сумма указанных его частей, а во-вторых, выше этой суммы частей находится еще само дерево, которое хотя и состоит из отдельных частей, но механически никак на них не делится. Все это есть результат формально-логического мышления, которое охватывает всю работу Секста с начала до конца.
Для примера возьмем рассуждение Секста о целом и частях (Pyrrh. III 98-101). Целое либо отлично от составляющих его частей, либо сами части составляют его целое. Если целое отлично от своих частей, то, по Сексту, оно ничто, поскольку при уничтожении частей уничтожается и все целое. Если же части составляют целое, то целое тоже будет ничем или пустым названием, поскольку в нем ничего не будет, кроме частей. Таким образом, никакого целого вообще не существует. Но, по Сексту, не существует также и частей. Допустим, что части существуют. Тогда они будут либо частями целого, либо частями друг друга, либо каждая часть будет частью себя самой. Однако они не могут быть частями целого, так как в целом нет ровно ничего, кроме этих частей, так что придется их считать частями самих же себя. Каждая часть также не может быть и частью другой части, потому что имеет смысл говорить не о том, что часть есть часть части, но только – что она часть целого. Не можем же мы в самом деле сказать, что рука – это часть ноги. Наконец, часть не может быть частью и самой себя, потому что всякая вещь окажется в таком случае и больше и меньше самой себя одновременно. Таким образом, по Сексту, нигде и ни в чем нет ни целого, ни частей.
Нетрудно заметить, что подобного рода рассуждение основано у Секста только на формально-логическом законе противоречия. То, что целое, с одной стороны, состоит из своих частей и на них делится, а с другой стороны, не состоит ни из каких частей и никак на них не делится, являясь новым качеством, не сравнимым с отдельными частями, это видно и на всяком наглядном представлении и на диалектическом законе единства и борьбы противоположностей. На вышеприведенном у нас примере с деревом это ясно само собою.
В "Пирроновых положениях" есть еще другое рассуждение о целом и частях (II 215-218). Сексту хочется доказать, что никаким числом, вообще говоря, никаких числовых операций нельзя производить и что число поэтому вовсе даже и не есть число. Иллюстрирует он это на вычитании из числа 10. Допустим, что мы из 10 вычли 1 и получили 9. В таком случае, сокращая 9 еще на 1, мы уже не можем сказать, что мы сокращаем число 10. Мы теперь сокращаем число 9, а вовсе не 10. И сколько бы мы таких операций вычитания ни производили, все равно 10 нельзя сократить ни на 1, ни на 2, ни на 3 и вообще ни на какое-нибудь другое число. Следовательно, 10 неделимо и вовсе даже не есть число. Однако все это рассуждение Секста скорее остроумно, чем умно. Оно построено на том формально-логическом основании, что каждое число натурального ряда чисел не имеет ровно ничего общего ни с каким другим числом из этого натурального ряда; и поэтому, какие бы операции мы ни производили с тем или иным числом, они ни к какому другому числу не имеют ровно никакого отношения. Тут же Секст входит в прямое противоречие и с практикой наглядных представлений и с диалектическим законом единства и борьбы противоположностей. Ведь каждому ясно безо всяких доказательств, что каждое число натурального ряда чисел на 1 больше предыдущего числа и на 1 меньше последующего числа. В этом отношении все числа натурального ряда совершенно одинаковы. И закон единства противоположностей гласит, что, хотя число 10 мы и можем взять как таковое, то есть как нечто неделимое, и говорим не просто 10 орехов или 10 единиц, а говорим "десяток" сам по себе, или "десятка" сама по себе, или в отношении чего-нибудь другого, каких-нибудь других вещей, или говорим "дюжина", "сотня", "тысяча", "миллион" и т.д., тем не менее все эти неделимые числовые ценности в то же самое время и как угодно делимы, и притом вплоть до бесконечности делимы. Поэтому, если мы вычли 1 из 10 и получили 9, а из 9 вычли 1 и получили 8, то само собою ясно и для наглядного представления и для диалектики, что 8 меньше 10 на 2 единицы. Таким образом, только формальнологический схематизм у Секста и упор на игнорирование им диалектического закона единства противоположностей заставляет его везде и всюду выставлять все эти парадоксы, от которых, ввиду их однообразия и монотонности, становится только скучно. У Секста затрачен огромный труд на формулировку формально-логических схем; но толку от этого труда, по правде сказать, довольно мало, если не учитывать его исторической значимости, о которой мы еще скажем ниже.
Подобного же рода рассуждениями набиты все книги, и главы, и параграфы сочинений Секста. Из наук, критикуемых Секстом, мы ради примера коснемся, может быть, только грамматики, хотя то же самое можно найти и во всех других трактатах Секста.
Дионисий Фракийский, по Сексту, определяет грамматику как "опытное знание о большей части того, что говорится у поэтов и писателей" (Adv. math. I 57-71). Секст понимает "большую часть" или как "все", или как "кое-что". Если иметь в виду "все", то это значит оперировать с бесконечностью, а что такое бесконечность, мы не знаем. Если же грамматика есть знание "кое-чего", то "кое-что" знают и неграмматики, и тогда это ничего не дает для определения грамматики. Если же под этим "кое-чем" нужно понимать нечто особенное, то и его нельзя получить, если иметь в виду рассуждения о "куче зерна": одно зерно не есть куча зерен, другое зерно не есть куча зерен, третье зерно не есть куча зерен и т.д., – следовательно, и из всех таких зерен нельзя будет никогда получить кучи зерна. На самом деле рассуждение Секста Эмпирика в данном месте гораздо сложнее. Но входить в анализ всей этой сложности мы не станем.
Те же самые рассуждения приводят Секста и к тому, что никакой звук не может обладать разными свойствами, что невозможна ни долгота, ни краткость звуков, ни тем более их обоюдная наличность, ни слог, ни совокупность слогов, ни речь в целом, ни части речи, ни разделение цельной речи, ни общие принципы изучения речи, ни история языка. Таким образом, оказывается, что ни о чем ничего никому и ни при каких условиях нельзя сказать.
Относительно этих трактатов "Против ученых" будет правильным сделать вывод, что все они набиты схемами указанного у нас типа, часто принимающими надоедливый характер и граничащими с прямым пустословием. О том, что под этим кроется своя историческая необходимость, мы скажем несколько ниже.
5. Непрерывная текучесть феноменального мира
Имеется еще одно огромное обстоятельство, мимо которого легко пройти без внимания, если упорно не доискиваться сущности вопроса. Дело в том, что все эти рассуждения Секста, сплошь построенные на формально-логических методах мысли, оборачиваются для нас совсем другой своей стороной, если мы будем в должной мере учитывать исходную позицию античного скептицизма, а именно его учение о всеобщей текучести. Ведь именно эта всеобщая текучесть вещей и заставляет Секста, как и прочих скептиков, для всякого утверждения находить соответствующее отрицание, то есть отождествлять утверждение с отрицанием, а отрицание с утверждением. Всеобщий сплошной и неразличимый поток становления потому и возможен, что каждая его точка в тот самый момент, когда она появляется, тут же уходит в прошлое, потому что ее место занимает теперь уже другая точка, с которой опять происходит то же самое. Для тех, кто занимался диалектикой, ясно, что это всеобщее текучее становление только и можно осмыслить путем диалектического закона единства и борьбы противоположностей, как это мы сейчас и видели у Секста на сплошных отождествлениях таких двух различных актов, как утверждение и отрицание.
Если отнестись к этому вопросу со всей серьезностью, то ведь это будет значить только то, что античный скептицизм, который при построении своих схем только и пользуется формальной логикой, на самом деле весь сплошь, с начала до конца, пронизан упорнейшим, настоятельнейшим и ни в каком мгновении не прекращающимся диалектическим методом рассуждения.
В отличие от диалектики платоновских идей бытие, допускаемое скептиками, не рассматривается в своем содержании в виде каких-нибудь сущностей или осмысленных структур. О таких идеях, сущностях, числах и т.д. скептики не хотят и слышать. Но ведь кроме содержания каждая идея представляет собою некоторого рода факт, который скептиками уж во всяком случае не отрицается. Если не важно, что утверждать (так как всякое утверждение равняется отрицанию), то уж во всяком случае о самих-то актах утверждения и отрицания скептики не могут не говорить, так как иначе провалится вся их текучесть, на которой они строят свою философию. Но если всякое "да" есть "нет" и всякое "нет" обязательно в то же самое время есть "да", то, следовательно, у скептиков проповедуется какое-то вечно подвижное и весьма актуальное, весьма действенное бытие со своими вечно всплывающими и вечно тонущими актами утверждения и отрицания. Это ведь тоже есть, в конце концов, какой-то платоновский мир вечных идей, но только об этих идеях ровно ничего невозможно сказать, кроме только того одного, что в самый момент своего появления они исчезают и в самый момент своего исчезновения они опять всплывают и делаются видимыми (или мыслимыми).
Собственно говоря, мы здесь ничего нового не утверждаем, кроме того, что скептицизм базируется на чистой текучести и потому является феноменализмом, в связи с которым не нужно только забывать того, что этот феноменализм, ввиду субстанциализации явления и, значит, всего мира явлений, есть не только релятивизм, но и своего рода весьма оригинальная разновидность абсолютизма, или абсолютного объективизма.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



