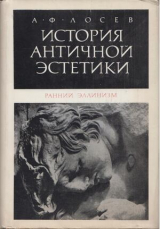
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 78 страниц)
8. Эллинизм и эллинство
Во всей этой характеристике эллинистически-римского периода античной эстетики как в его целом, так и в его разветвлениях можно проследить разную степень логической точности и разную степень социально-исторической выразительности смотря по намерениям и целям исследования. Соответственно с этим возможна и различная терминология и различное использование одних и тех же терминов в целях той или иной характеристики.
Прежде всего и ярче всего бросается в глаза антитеза объективизма и субъективизма. Едва ли кто-нибудь станет оспаривать существенность этой антитезы для всего периода эллинизма. Стоит только сравнить стоицизм с Гераклитом, Эпикура с Демокритом, Посидония с Платоном, скептиков с софистами, чтобы убедиться, насколько субъект переживается в эллинизме напряженнее, жизненнее и насущнее. Однако не следует вкладывать в эту антитезу не свойственного ей содержания. Если мы скажем, что эллинизм есть субъективизм, а в эллинстве ничего субъективного не было, то это, как нам уже хорошо известно, будет только недоразумением. И софисты, и Сократ, и Платон, и Аристотель, и даже еще Демокрит признают значительную роль субъекта, и вовсе не в полном исключении всего субъективного их роль и основная особенность. Их особенность – фиксация объективного сознания, сознания как вне-человеческой и до-человеческой данности, фиксация космического Ума и Сознания. Трактуя о субъекте, эти мыслители, в конце концов, выставляют именно космическое происхождение его ума, а не индивидуальное, почему эту эпоху надо называть эпохой абстрактной всеобщности, а эллинизм – эпохой абстрактной единичности, а не просто объективизмом и субъективизмом.
Однако нужно рассуждать не просто в том смысле, что и в эллинстве и в эллинизме был как объективизм, так и субъективизм и что в эллинстве был только примат интереса к объекту над субъективными интересами, а в эллинизме был только примат субъективных интересов над объективными установками. В истории античной эстетики, а именно в самом ее конце, был целый многовековый период, когда ни объект не имел примата над субъектом, ни субъект нал объектом. Неоплатоническая эстетика вообще не понимает никакого принципиального различия между субъектом и объектом. Но ведь субъект, понимаемый как объект, и объект, понимаемый как субъект, является не чем иным, как личностью, которая сразу н одновременно есть и субъект и объект. Но философская эстетика требовала не просто учения о личности, но о личности в максимально обобщенном виде. И такими максимально обобщенными личностями были для античности только боги, демоны и герои. И вот неоплатоническая эстетика как раз и является учением о богах, демонах и героях, но уже не в наивно-мифологическом и в рационально натурфилософском смысле, а также и не в смысле раннеэллинистической аллегорической эстетики. За богами, демонами и героями было оставлено теперь уже не аллегорическое, но самое настоящее объективное бытие, хотя и подверженное теперь уже логическому рассмотрению и логической систематизации.
Возьмем и эту антитезу всеобщего и единичного. Классическое эллинство живет интуициями неприступной всеобщности. Оттого нот классический идеал и обладает таким целомудрием, доходящим часто до холодности. Правда, легко видеть, как не стоит на месте эта холодная всеобщность, как она неизменно стремится к дифференциации, к единичному, если взять хотя бы творчество трех великих трагиков. Но дело не в этом. Все всегда меняется и находится в процессе становления, и это не должно вести к уничтожению того, что именно становится. Было бы то, что становится, а за становлением недостатка не будет. И вот, становится в эпоху эллинского классического идеала – всеобщее, а в эпоху эллинизма – частное, или единичное. Там красота есть общая закономерность сущего, а здесь красота – единичная закономерность отдельного изолированного субъекта.
Но, разумеется, и то и другое мы должны считать абстракцией, ибо последняя конкретность бытия мешает ему пребывать только в сфере всеобщего и мешает ему пребывать только в сфере единичного. Последняя конкретность – в слиянии того и другого. Но это не дано было ни эллинству, ни раннему эллинизму. То и другое выделяло из бытия какую-нибудь одну (правда, существенную) сторону и не умело видеть и фиксировать другие стороны. Оттого ранний эллинизм и не есть последняя стадия античной эстетики. Ему еще неведома последняя конкретность античного художественного мировоззрения.
"Прекрасная индивидуальность" (термин Гегеля), которая была зафиксирована в период греческой классики, не была человеческой индивидуальностью во всей ее глубине. Она была индивидуальностью постольку, поскольку в ней отражался всеобщий идеал гармонии духовного и телесного, внутреннего и внешнего, психологического и космологического. Но в этом смысле греческая скульптура периода классики, конечно, была также и чем-то абстрактным. Ей совершенно были неведомы глубины субъективного самочувствия человека. Материальное и единичное было дано здесь не в своей полной свободе, не в своем разгуле, не в своем бездонном хаосе человеческих переживаний, но только в таком своем оформлении, которого требовало от нее идеальное начало. Но это последнее тоже не было дано в ней во всей своей свободе и во всем своем личностном разгуле, но только в таком виде, который диктовался необходимостью для него быть материально оформленным. Абстрактно-всеобщая идея и абстрактно-единичное материальное оформление вступали здесь на путь взаимной гармонии, заранее отказываясь от всякого своего изолированного утверждения в абсолютном виде. Вот эта "прекрасная индивидуальность" и оказывалась здесь символом пока еще только абстрактной всеобщности, как были абстрактны и всеобщи составляющие ее принципы идеального и материального.
И вот эта абстрактная всеобщность как раз и рушится в эстетике раннего эллинизма. Субъективное и идеальное под воздействием указанных у нас социально-исторических причин вдруг начинает брать верх над объективным и материальным и если допускает это последнее, то только в меру его субъективно-человеческой имманентности. Нечего и говорить о том, что такая абстрактно-единичная ступень ранней эллинистической эстетики не могла быть ни окончательной, ни даже особенно долговременной. Здесь тоже наступал такой период эстетики, когда уже не противополагали абстрактно-всеобщее и абстрактно-единичное, но допускали только конкретность, а не абстрактность, и притом только такую конкретность, где уже нельзя было различать всеобщее и единичное, где всеобщее стало онтологическим символом единичного, а все единичное стало осуществлением максимально всеобщего.
Можно привлечь для сравнительной характеристики эллинской и эллинистической эстетики также антитезу интуиции и рефлексии. Тут, как и везде, тоже требуется аккуратное и деликатное обращение с терминами. Во всякой интуитивной эпохе мы найдем черты рефлексии, равно как и всякая рефлексия не может не содержать в себе более или менее развитых моментов интуиции. Однако эта антитеза, в общем, чрезвычайно характерна для сравнительного анализа обеих эпох. Именно: под рефлексией давайте условимся здесь понимать приведение бытия к сознательной ясности для человеческого субъекта, формулировку действительности средствами человеческой логики и психологии; и мы увидим, что эллинизм на самом деле есть ступень рефлексии в сравнении с интуитивностью классического эллинского идеала красоты. В последнем тоже, конечно, была рефлексия; ее вообще не может не быть там, где есть философия. Но классическое эллинство придает значение рефлексии только лишь в меру отражения ею интуитивно-данного космического целого и устами Платона презирает все это человеческое кропательство, претендующее на какую-нибудь самостоятельность. Вспомним, как Платон бранит человеческие науки, не возведенные к созерцанию объективно-космических идей. Аристотель – это уже начало спуска с вершины эллинского идеала, и у него рефлексия несравненно сильнее. Однако только стоицизм, эпикурейство и скептицизм, только александрийская ученость и римский практицизм учат нас, что есть настоящая античная рефлексия. И из того, что космос стоиков так же интуитивен, как космос Гераклита, ровно ничего не следует в смысле негодности этой общей антитезы. Дело в том, что именно больше акцентировано, интуиция или рефлексия, и что построено по типу чего; и то и другое всегда и везде будут существовать вместе, и их невозможно представить в абсолютном разъединении.
В эллинстве тоже можно наблюдать различие интуитивной и рефлективной эстетики. Мы знаем (ИАЭ III, с. 7), что древнейшая натурфилософия до софистов была по преимуществу интуитивна, поскольку базировалась она на созерцании материальных стихий и на их взаимопревращении внутри тоже зрительно-данного и потому тоже интуитивного космоса. В сравнении с этим софисты, несомненно, стали на путь чистейшей рефлексии и выдвигали субъективное человеческое сознание в качестве критерия для всего объективного. Но этот ничтожный по своей длительности период софистической рефлексии был уничтожен целой огромной лавиной философии Сократа, Платона и Аристотеля. Они уже вернулись к прежнему интуитивно эллинскому космосу, но зато стали его конструировать при помощи своих абстрактно всеобщих категорий. Для этого нужно было только одно: в самой рефлексии, в самом сознании и в самом мышлении, как бы это последнее ни было абстрактно, увидеть тоже нечто интуитивное. Настала эпоха видеть сущность вещей не в соотношении чисто материальных и интуитивно данных чувственных элементов, но в самом же уме, однако интуитивно представленном. Возникло учение об эйдосе, который, по мысли Платона и Аристотеля, во-первых, являл собою сущность вещей, а во-вторых, был вполне нагляден и интуитивен. Такое резко отличное от чувственности мышление было сразу и чисто смысловым и чисто интуитивным. И поэтому эстетику и Платона и Аристотеля нужно именовать уже не просто интуитивной и не просто рефлективной, но эйдологической, или спекулятивной, поскольку спекулятивность, уже по самой этимологии соответствующего латинского слова, сразу указывает и на мысль и на наглядную интуицию. Ясно в таком случае, что вся эллинская эстетика по преимуществу интуитивна, то ли в чувственном, то ли в спекулятивном смысле слова. Тут – примат интуиции над рефлексией.
Совсем другое дело в ранней эллинистической эстетике. Даже и приведенных у нас выше материалов (а они пока еще только элементарные) совершенно достаточно для того, чтобы в этой ранней эллинистической эстетике увидеть, наоборот, примат рефлексии над интуицией. Поскольку, однако, эти приматы не исключали дуализма интуиции и рефлексии, постольку для нас естественно ожидать, что в античной эстетике наступит такой период, где и интуиция и рефлексия получат одинаковое право для своего существования. Это будет, конечно, спекулятивная эстетика неоплатонизма конца античного мира. Но об этом целесообразней будет говорить в своем месте.
Мы бы выдвинули еще одну антитезу, представляющую только видоизменение уже указанных антитез, но все же подчеркивающую чрезвычайно важный и, может быть, самый существенный момент в противостоянии обеих эпох. Это антитеза мысли и ощущения, или логики и этики (в античном понимании этики, то есть как науки об "этосе", об индивидуально-психическом укладе человека). Не надо смущаться тем, что "мысль" здесь совпадает с "интуицией", а "ощущение" с "рефлексией". Все будет очень ясно, если мы будем понимать эти термины не как попало, а только строго в указанном смысле. Действительно, интуитивно-всеобщая объективность бытия, в условиях несамоценности философствующего субъекта, могла быть дана главным образом только в аспекте строгого и сурового мышления, так как ощущение слишком бы выдвинуло на первый план значение субъекта и принизило бы объективную недоступность этого гордого и целомудренного идеала. Это нисколько не преуменьшало примата ощущения над мышлением в период классики. Это только делало соответствующий эстетический идеал более холодным, мало выразительным внутренне человечески и тем холодноватым абстрактно-всеобщим характером, явившим себя здесь "прекрасной индивидуальностью", о котором мы говорили выше. В противоположность этому, ранняя эллинистическая эстетика прямо выдвигает на первый план примат чувственной данности над мышлением, а в мышлении примат субъективной логической разработки, под которой тоже лежала углубленная субъективная самоощутимость над его объективно отраженными элементами. Ощутимость, перевод на язык внутреннего человеческого самоощущения, – вот в чем сущность стоицизма и эпикурейства. И это уже не та чувственная ощутимость, которую мы находим в эллинстве, где она является приматом не в смысле изолированно самоуглубленных переживаний, но в смысле принципиальной данности всего абстрактно всеобщего обязательно в чувственном и материальном виде. И тут, пожалуй, эпикурейство, как максимально субъективистическая эстетика и философия, играло необычайную роль в будущем великом синтезе, как оно ни далеко от него в своем вольнодумстве и психологизме. Сделать все ощутимым – вот задача эллинистически-римской эстетики. И стоит только сравнить однородные памятники той и другой эпохи, чтобы понять, как сильна была потребность в этой ощутимо-данной картине мира. Паллада Фидия – это пока еще само целомудрие. Афродита Праксителя (IV в.) уже значительно "женственнее", чем полагалось бы богине. Но Венера Медицейская – это почти уже гетера, а не просто женщина. Разве не этой субъективной ощутимостью продиктовано то, что в эллинистической архитектуре мы находим царский дворец и даже дом вельможи и вообще зажиточного человека с гостиными, столовыми и пр., или эротические детали в статуях, доходящие до извращенности, или весь этот идиллический жанр эллинистического искусства, таящий в себе столько прелести, интимной теплоты и милой выразительности? Да, это есть развитие все той же еврипидовской субтильности, которая могущественно возрастала еще на целомудренном древе классического идеала. И с этим гармонировали александрийская наука и критика, с этим совпадала и вся эстетика раннего эллинизма. Также можно было бы различными терминами характеризовать и школы внутри раннего эллинизма.
В заключение этого сравнительного обзора эллинской и эллинистической эстетики мы должны сказать, что, собственно говоря, здесь невольным образом у нас уже наметилось и само разделение эллинистической эстетики. Рассматривая эллинистическую эстетику в виде антитезы эстетики эллинской, мы волей-неволей Должны были намекать и на ту окончательную и наиболее синтетическую эстетику, в которой констатированная нами антитеза эллинства и раннего эллинизма приходила к своему диалектическому снятию, то есть новому, ранее того еще небывалому качеству. Но возникающие здесь основные периоды развития, конечно, требуют сейчас от нас специальной формулировки.
§3. Общее разделение эллинистически-римской эстетикиЭтот огромный тысячелетний период античной эстетики мы будем разделять весьма тщательно, чтобы не запутаться в бесконечных закоулках и второстепенных явлениях данного периода. Что касается настоящего разделения, то сейчас мы дадим его пока все еще только в самом общем виде, а дальнейшее разделение будет возникать у нас по мере надобности. Многое из этого нам уже известно и сейчас требует только краткой формулировки.
1. Ранний и поздний эллинизм
Самое общее деление истории эллинистической эстетики, или, как можно было бы сказать более точно, эллинистически-римской эстетики, фиксирует в первую очередь ранний эллинизм и поздний эллинизм.
2. Ранний эллинизм
Ранний эллинизм, или эллинизм в узком смысле слова, мы фиксируем с конца IV в. до н.э. и кончая II-I вв. до н.э. В социально-историческом смысле этот период характеризуется становлением обширной империи, сменившей собою партикулярный, раздробленный и мелкий рабовладельческий полис периода греческой классики и закончившийся образованием мировой Римской империи в I в. до н.э. во главе с императором Октавианом Августом (31 г. до н.э.).
Мы уже хорошо знаем, что весь этот период характеризуется огромным ростом рабовладения и необходимыми для этого завоеваниями огромной Римской империи от Испании до Индии. Мелкое рабовладение, характерное для периода классики, здесь уже давно изжило себя. Для растущего свободного населения понадобилось и неизменно растущее рабовладение, то есть неизменно растущее завоевание. Философия и эстетика этого времени оказывается мало приспособленной к огромным просторам, политическим, социальным и даже просто географическим, которые здесь возникли. Личность покамест прячется от этого огромного социально-политического и географического колосса. Как мы говорили выше, она хочет теперь уйти вообще от всякой общественности, уйти в себя, в свое уединение, а философия и эстетика ставят своей единственной целью доставить этой личности внутренний покой, самоудовлетворенность и независимость ни от чего внешнего.
Такого рода самоуглубление личности вызывалось прямыми потребностями этой новой ступени рабовладения, ставшего теперь крупным рабовладением. Одно дело было управлять хозяину своими рабами, когда этих рабов было несколько человек, когда он знал их всех в лицо и когда они были на положении скорее домашней и полевой прислуги. Однако совсем другое дело оказалось тогда, когда этих рабов стало сотни, тысячи и десятки тысяч, когда этих рабов даже нельзя было знать непосредственно, когда между рабовладельцами и рабами должна была возникать целая иерархия чиновников и всякого рода посредников и когда сама личность рабовладельца должна была изыскивать самые утонченные способы владеть рабами и их эксплуатировать. Это уже не была та простая и непосредственно чувствующая себя и все окружающее личность рабовладельца, характерная для периода греческой классики, суровая и строгая, но в то же самое время благодушная и наивная. Теперь уже самый аппарат Римской империи требовал утонченных, весьма много знающих и изысканных чиновников и дипломатов, из которых и состояло теперь государственное управление.
Вместе с тем росла также и вообще культура общественно-политических деятелей, а тем самым также и необходимость получения образования и широкие умственные горизонты, следовавшие за горизонтами географическими и требовавшие от отдельного человека не только идей универсализма, но также и идей изысканного индивидуализма.
Первые три философско-эстетические школы раннего эллинизма как раз этим и отличаются. Они прежде всего охраняют эстетический и этический покой отдельной личности. Однако этого им мало. Эллинистический человек, как это мы уже хорошо знаем, все же оставался как-никак античным человеком. А античный человек никак не мог расстаться с тем своим предельным состоянием ощущения и мышления, которое обязательно требовало признания чувственного космоса, огромного и вечного, но все же данного простому человеческому ощущению, то есть всем тем пяти внешним чувствам, опора на которые только и делала античного человека именно античным. Поэтому, именно для того чтобы охранить свой внутренний покой, стоики и эпикурейцы создавали для себя соответствующий космос.
Стоики учили о первоогне, не хуже всякого Гераклита, но этот первоогонь ощущался ими прямо непосредственно, прямо в виде теплого дыхания. Душа, по стоикам, и была не чем иным, как этим теплым дыханием. А иначе личность стоика не была бы покойна. Отбрасывание всяких космологических проблем должно было бы приводить его только к фиксации какой-то непознаваемой бездны. Это никак не соответствовало бы искомому им покою. Точно так же и эпикурейцы не просто валялись в своих благоухающих садах и уходили от общественности. Они должны были оградить свой покой также и со стороны космоса. И они, как мы знаем, схватились за свои атомы не хуже Демокрита. И почему? А потому, что эти бездушные, безличные и безгласные атомы гарантировали для них спокойствие перед религиозными вымыслами о разных обязанностях в этой жизни и о разных наказаниях в загробной жизни. Скептики еще и на третий манер охраняли свою атараксию. Они встали на точку зрения гераклитовской текучести, но только в ее исключительно иррациональном истолковании. Это тоже ограждало покой их души от всяких волнений. Мы, так сказать, ничего не знаем и ничего не хотим знать. А это значит, что мы ни за что и не отвечаем. Пусть жизнь идет, как хочет. И мы тоже вместе с нею. Как иррационально и вообще все на свете, так же иррационально и все у нас в душе. Мы ни в чем не заинтересованы, и потому в душе у нас постоянное спокойствие. Это и есть наша красота. Как у стоиков их внутренний покой в зависимости от действующего в них первоогня есть красота и как у эпикурейцев их внутренний покой души, состоящей из бездумных атомов, есть красота, так и у скептиков красота сводилась к иррациональному чувству душевного покоя, возникавшего на основе душевной безответственности. Очень трудно судить о том, чего тут было больше – отказа от мысли или утонченной рефлексии. Такова вообще вся эта эпоха раннего эллинизма.
Усталостью и тонким разочарованием веет от этой философии. Кругом ширится и высится хаотическая нагроможденность жизни, а стоический мудрец – тих и беспечален, эпикуреец сосредоточенно покоится в глубине своего утонченного сада и скептик ни к кому и ни к чему не испытывает потребности сказать "да" или "нет". Есть что-то загубленное, что-то долженствовавшее быть, но не перешедшее в бытие – здесь, в этих наивных, но углубленных и даже величавых учениях о "мудреце". Какая-то великая душа перестала стремиться и надеяться, что-то случилось непоправимое, окончательное, чего-то большого и сильного, чего-то прекрасного и величественного уже нельзя было вернуть, да и вспоминать-то уже не было сил. Эллинизм этого периода как бы махнул рукой на все, на прошлое, на будущее, а в настоящем он только хотел бы забыться и уйти в себя. Печать непоправимости, безвозвратности, примиренности с неудачей всего бытия в целом лежит на этих красивых, но бесплодных философских школах раннего эллинизма. Им не хватает энергии, целеустремленности, движения. Все три школы удивительно пассивны, духовно-пассивны; они только реагируют на бытие, но не устрояют его, и даже не хочется им и познавать это самое бытие. Пусть оно живет и развивается как ему угодно, а я буду вкушать сладость бесстрастия вдали от его шума, от его истории, от его беспокойства.
Кто представляет себе античную эстетику в целом, тот, конечно, скажет, что подобного рода индивидуалистически-беспомощные черты раннего эллинизма ни в каком случае не могли быть слишком продолжительными. Как отдельная тенденция, такого рода черты, конечно, никогда не умирали в античности. Но если иметь их в виду как характеристику целой эпохи, то они характерны именно для раннего эллинизма, а точнее сказать, только для самого раннего эллинизма. Ведь в те времена нарастала огромная империя, мощная и неотвратимая, которая не могла обходиться без соответствующей идеологии. Пессимизм, разочарование и антиобщественный характер раннеэллинистической эстетики должен был так или иначе, и притом очень быстро, переделываться. Когда утвердится мировая империя Рима, то, конечно, ее идеологией явится в конце концов платонизм или платонический аристотелизм. Но в IV, III и II вв. до н.э. мировая империя только еще строилась, только еще перемежалась в своих то сильных, то слабых проявлениях и пока еще не захватывала всей человеческой личности в целом, оставляя ее на путях с таким большим трудом достигнутой секуляризации. Как мы в дальнейшем увидим, мировая империя Рима повелительно потребует от человеческой личности выхода из своих интимных глубин навстречу огромному социально-историческому, общественно-политическому и культурному строительству. Другими словами, между этой эпохой раннего эллинизма с ее тремя эстетическими школами и периодом римской цезарианской эстетики неоплатонизма должно было пройти еще некоторое время, и не столько время, сколько возможность активного строительства в области покамест еще только науки, искусствознания и переработки первоначальных, слишком пассивных и слишком секуляризационных форм раннеэллинистической эстетики.
3. Средний эллинизм
Именно: есть еще и другой аспект этой же эллинистической мысли. Если в этих трех школах ставились вопросы цельной личности (о ее поведении, жизни и всей судьбе), то индивидуализм ведь исчерпывается не только такой всесторонне-жизненной позицией. Когда наступает эпоха всесторонне развитого индивидуализма, то обычно она характеризуется еще и освобождением отдельных функций человеческой личности. Не только сама по себе личность хочет быть самодовлеющей, но и каждый ее отдельный момент тоже хочет быть самодовлеющим. Уже в трех главнейших философских школах раннего эллинизма проявилась тенденция к выдвижению на первый план разных сторон личности, поскольку стоицизм возникает на примате ума, а эпикурейство на примате наслаждения. Но здесь то и другое очень связано с теорией самой личности, с учением о ее целостно-жизненном направлении. Можно, однако, отделить те или иные функции субъекта от этих целостно-жизненных задач и базироваться на них как на таковых. Это тоже, конечно, возможно только в индивидуалистическую эпоху, так как дифференцированное использование тех или других изолированных функций уже предполагает, что имеется опыт отдельного субъекта. В Новой Европе это поведет к необычайному развитию науки, к колоссальным рационалистическим потребностям. В Греции не могло быть самостоятельного и интенсивного роста науки, но тем не менее как раз эллинизм, александринизм характеризуется необычайным развитием положительного знания. В прежних формациях рациональная наука всегда есть плод субъективистической культуры, и расцвет положительных знаний всегда характеризовал там эпоху индивидуализма. Так, по крайней мере, было до наступления социалистической формации, происхождение и функционирование наук в которой имеет свой особый смысл, заслуживающий особого рассмотрения. Но что касается античности, то развитие науки совершалось здесь по преимуществу в века субъективизма. Достаточно указать хотя бы только на астрономию и математику. Кроме Платона, Аристотеля и Архита в IV в. до н.э. действует Эвдокс со своей школой (370-340) и Эвклид (ок. 300), а в III в. – Аристарх (ок. 280) и Архимед (ок. 200). Трудами этих ученых и было выработано то, что мы называем античной астрономией и математикой.
Что касается эстетики, то сюда относятся весьма многочисленные деятели искусства и науки о нем, которые исследовали формально-техническую сторону искусства. Правда, этим формализмом и этим техницизмом отличается, как мы знаем, и вообще вся античная эстетика. Но в другие периоды этот формализм имеет философское значение (как, например, прежде всего у Платона и Аристотеля), здесь же он предстает в самом чистом и непосредственном виде, создавая многочисленные искусствоведческие, а не философские концепции. Таковы знаменитые александрийские критики и филологи; таковы учения риторов, вроде Деметрия Псевдо-Фалерейского, Диона Хризостома или Квинтилиана; таковы теория Горация о поэзии и архитектурная энциклопедия Витрувия. Рационализм – в данном случае формально-технологическая точка зрения на искусство – есть, повторяем, самый естественный продукт культуры индивидуализма, выступающего в своих чисто рассудочных функциях.
Наконец, эллинистически-римский период (который мы продолжаем до появления в III в. н.э. неоплатонизма, резко начинающего новую эпоху) вмещает в себе еще длинный ряд учений, которые не подходят ни под ту, ни под другую из указанных рубрик, но пытаются более или менее совершенно их примирить. К сожалению, этот интересный процесс объединения старых школ, с привлечением в дальнейшем даже платонизма, пифагорейства и аристотелизма, не может быть прослежен в эстетической области с надлежащей точностью ввиду плохого состояния источников из этого периода античной философии и эстетики. Этот период удается весьма обстоятельно проследить скорее на общефилософских учениях, носящих обычно малоговорящую кличку эклектизма, чем специально на эстетике. Мало-помалу этот эклектизм, становясь все более и более строгим и принципиальным, подготавливает неоплатонизм и растворяется в нем. Одно из первых объединений в этом смысле мы находим у Панеция (ок. 185-110 до н.э.) и Посидония (ок. 135-55 до н.э.), создавших из стоицизма платоническое учение, некоторый синтез стоического платонизма. В дальнейшем разгорается большая борьба за преодоление стоического натурализма в этике, космологии и логике и за дальнейшую эволюцию платонизма. Когда будет окончательно изгнан из философии натурализм и будет заменен диалектикой, то эллинистически-римская философия субъективной самоощутимости превратится прямо в неоплатонизм. На это ушли века (I в. до н.э. – II в. н.э.).
Как сказано, имеются довольно большие трудности для того, чтобы проследить развитие именно эстетической мысли в данную эпоху. Однако некоторые определенные черты античной эстетики мы все же здесь ощутительно находим. Из ранних "эклектиков" мы укажем, например, на Цицерона (106-43 до н.э.) и Плутарха (45-125 н.э.), из которых последний уже достаточно синтетичен, его нельзя считать ни просто платоником или аристотеликом, ни просто пифагорейцем или стоиком. Из более поздних (I-II вв. н.э.) можно указать Христодора, Каллистрата, Старшего и Младшего Филострата, Апулея, Нумения, Аммония Саккаса, отчасти коренящихся еще в предыдущей эпохе, и других. Все это есть весьма пестрый "эклектизм", под которым, однако, лежит вполне определенная тенденция дать синтез эллинистического субъективизма со старым платоно-пифагорейским и аристотелевским объективизмом, хотя это пока и делается более или менее односторонне, путем смешивания тех или других эллинистических точек зрения. Сейчас здесь мы указали только некоторые случайные имена из этой огромной и хаотически представленной для нас эпохи трехвекового античного "эклектизма". Но, как мы увидим в своем месте, некоторого рода скрытая система исторического развития была свойственна и этой сумеречно представленной для нас эллинистически-римской эстетике. О такой системе мы скажем в своем месте, здесь же пока мы ограничимся простым указанием на самый факт ее существования. Неоплатонизм (III-VI вв. н.э.) положит конец этим шатаниям и даст синтез, который завершит и исчерпает собою уже и все живые античные философские возможности. В заключение этого среднего, или промежуточного, периода эллинистически-римской эстетики необходимо сказать, что самые термины эти "средний" и "промежуточный" периоды являются для нас вполне условными, хотя все основные явления этого периода эстетики можно поместить в течение веков II до н.э. – II н.э., разделение это, вообще говоря, скорее систематическое, чем хронологическое. Положение этой промежуточной эстетики определяется тем, что она уже отошла от цельной эстетической картины раннеэллинистического субъективизма, но еще не пришла к тому последнему синтезу, когда раннеэллинистический имманентизм превратится в универсальный имманентизм неоплатонической эстетики. Здесь ровно нет никакого момента сакрализации, но и раннеэллинистическая секуляризация представлена только весьма узко, а именно по преимуществу в виде огромного количества искусствоведческих трактатов. На почве углубленного развития субъективных способностей возникла небывалая потребность в изучении искусства, что дало в области литературы массу всякого рода риторических произведений. Такой слишком дифференцированный подход к умственным способностям человека, конечно, был чужд периоду греческой классики. Однако Аристотель, этот гениальный представитель поздней классики, уже перешел к бесконечным позитивным наблюдениям как в области построения самого искусства, так и в области его происхождения и его общественно-личного функционирования. Но эстетика Аристотеля в своей основе все-таки была объективно онтологической. Позитивные интересы его научного рационализма ни в коем случае не заглушали в нем постоянного интереса к онтологии. Совсем другую картину представляет собой эллинистическое искусствознание. Здесь рационально-позитивная методология была настолько сильно обоснована умственным развитием самодовлеющего и дифференцированного субъекта, что она получила уже вполне самостоятельное значение. И если обычно говорят, что античная философия не дошла до эстетики в виде самостоятельной дисциплины, то античность уж во всяком случае дошла до вполне самостоятельной риторики, очень подробной и детализированной, доходящей до мельчайших технических подробностей словесных произведений, до неимоверного количества теоретико-литературных категорий, которые сейчас нам кажутся даже чересчур схоластичными. Эту огромную эстетическую область, конечно, необходимо выделить в некоторого рода самостоятельную целостность; теоретически рассуждая, она, конечно, есть нечто среднее между тем, что мы назвали ранним эллинизмом, и тем, что сейчас будем называть поздним эллинизмом.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



