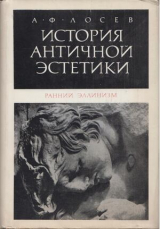
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 78 страниц)
Если учитывать эту диалектическую сторону античного скептицизма, то нужно будет сказать, что здесь мы еще и еще раз убеждаемся в том, что перед нами не какая-нибудь другая форма скептицизма, но именно античная форма скептицизма. Попросту говоря, здесь исповедуется самая обыкновенная и тысячу раз античная философия вечной материи, но только с одной особенностью: до скептиков о вечной материи тоже, конечно, все говорили, и материалисты и даже идеалисты, но покамест господствовало намерение создавать всеобъемлющую философскую систему, до тех пор эта материя, при всем учете ее смыслового своеобразия, бралась только в связи с теми или другими, а по возможности и со всеми особенностями данной философской системы. Скептики отличаются от этой общеантичной традиции только тем, что берут эту вечную материю в ее чистейшем виде, то есть в отрыве от всех прочих моментов философской системы и вне всякой смысловой зависимости от них.
Всякое полноценное рассмотрение материи с первых же своих шагов начнет усматривать и все те закономерности, которым подчиняется материя. Скептики же говорят: нет, не нужно нам никаких закономерностей и давайте нам только чистую материю. Но тогда и получается, что материя предстает в виде неразличимой текучести явлений, в которой каждый осмысленный момент погибнет в то же самое мгновение, в которое он и появляется.
Скажут: но ведь это же безумная односторонность. Однако мы бы сказали на это, что такого рода возражения можно поставить против любой античной философской системы, которая была до скептиков или после них. Ведь когда догматики выставляли на первый план тот или иной материальный элемент, это была односторонность, и тем не менее за два века своего существования эта односторонность породила целый ряд великих философских систем, включая Гераклита и Демокрита. Платон учил о том, что каждая вещь, если она есть именно она, а не что-нибудь другое, чем-нибудь отличается от другой вещи, то есть имеет какой-нибудь свой собственный смысл или свою идею. Учить об идеях как о принципах сущего – это тоже односторонность, и тем не менее в течение двух с половиной тысяч лет она дала ряд выдающихся философских систем платонизма. Спрашивается: чем же в таком случае скептики хуже досократиков или хуже Платона и Аристотеля? Они тоже вырастают на своей собственной односторонности, а именно на абсолютном феноменализме, который тоже претендует на некую своеобразную диалектику, а именно на фактологическую диалектику, противопоставляя ее диалектике платоновских идей, аристотелевских форм или стоических огненных истечений.
Итак, античный скептицизм и его последний и по времени и по разработанности системы представитель Секст Эмпирик только в отрыве от всей истории античной философии является чем-то неантичным. Но отрывать его от всей античной философии никак нельзя, так как скептицизм все же просуществовал в Греции не меньше шести столетий.
6. Исторический и жизненный смысл скептицизма
Все те односторонности, о которых мы сейчас говорили, выдвигаются историей в соответствующее время, будучи обусловлены соответствующими социально-историческими обстоятельствами, и ставят себе те или иные человеческие задачи и цели. Естественно спросить себя: когда же могла появиться такая релятивистская система, как античный скептицизм, и такая абсолютизация субъективно-воспринимаемого феноменального мира?
а) Вероятно, читатель не очень удивится, что античный скептицизм есть одна из философских систем античного эллинизма, а эллинизм возник на развалинах классического рабовладельческого полиса, поглощенного теперь огромными и многонациональными военно-монархическими организациями, главными из которых были государства наследников завоеваний Александра Македонского и затем Римская империя. Античный грек в те времена уже перестал жить цельной общественно-личной и полисной жизнью и всячески старался куда-нибудь спрятаться от этого нового и небывалого социально-исторического колосса, то есть, в конце концов, Римской империи.
Скептицизм особенно характерен для раннего эллинизма, то есть для IV-I вв. до н.э. В дальнейшем, когда зародился поздний эллинизм, то есть в I-VI вв. н.э., эллинистическая философия уже перестает быть просветительской, то есть перестает строить такие философские системы, которые обеспечивали бы для отдельной личности ее независимое, невозмутимое и бесстрастное состояние. Таковыми системами и являлись характерные для раннего эллинизма философские системы стоицизма, эпикуреизма и скептицизма. В века позднего эллинизма, в связи с настоятельными социально-историческими потребностями, философия все более и более приобретает консервативный и даже реакционный характер. Она базируется теперь не столько на создании новых форм мысли, сколько на реставрации классических форм и даже до-классических, включая древнюю мифологию. Здесь отдельный индивидуум опять выходит из своего уединения и опять хочет создавать новую жизнь на основе реставрации Платона и Аристотеля с постепенно нарастающим мифологическим и даже мистическим содержанием. Здесь уже не было места для скептицизма на манер Пиррона или академиков. И если Секст Эмпирик жил и действовал во II в. н.э., то это означало только то, что он не мог быть создателем скептицизма на манер Пиррона или академиков, но был только поздним, если не последним, систематизатором скептицизма, зачастую довольно скучным схематическим излагателем. Он тоже весь обращен к прошлому, как весь поздний эллинизм. Но это прошлое, как мы видим, рассматривается у него с негативной стороны, так что в Сексте Эмпирике вся предыдущая античная философия пытается прийти к самоубийству. Этого не случилось только потому, что огромнейшая мировая держава, Римская империя, уже не нуждалась в скептиках и просветителях, но нуждалась в активной и глубочайшей реставрации старины, а это значит и тончайшем развитии личности, без которого, как и без огромною государственного аппарата, уже невозможно было держать в повиновении неимоверные массы рабского населения. Другими слонами, социально-историческое место античного скептицизма определяется условиями развала старинной, цельной и наивной полисной общины и необходимостью соединять максимально возросший в те времена государственный универсализм с тоже максимально возросшим в те же самые времена углубленным индивидуализмом.
Античный скептицизм – это одна из самых упорных разновидностей античного просветительства, возникшего в период раннего эллинизма и угасшего в период позднего эллинизма.
б) Наконец, ко всему предыдущему необходимо добавить еще и то, что не столь уж анекдотичными являются дошедшие до нас сведения о личности и поведении разных скептиков. Эти материалы свидетельствуют о том, что античные скептики были вполне нормальными греками и что все их учения негативного характера отнюдь не таковы, чтобы лишать самих скептиков их типично греческого облика. Среди них были самые разнообразные люди, начиная от традиционного образа уединенно мыслящего философа и кончая любителями светских удовольствий и страстей.
Судя по Диогену Лаэрцию (IX 62-69), Пиррон был действительно и отшельником, и безмолвником, и любителем уединенных и углубленных рассуждений, далеким от всяких прихотей и капризов. Если он начинал что-нибудь говорить и его собеседник удалялся, он все равно не прекращал свою речь до тех пор, пока она не приходила к концу. Когда однажды его застали разговаривающим с самим собою и спросили, в чем дело, он ответил: "Учусь быть добрым". Он не стал спасать своего утопающего учителя Анаксарха, но тот только похвалил его за это, потому что здесь Пиррон проявил подобающее античному скептику "безразличие" и "безлюбие". Кур и свиней он сам носил продавать на базар, но был к этим животным вполне безразличен. Он похвалил ту свинью, которая на корабле во время морской бури, когда все боялись гибели, спокойно поедала свой корм.
Совсем другого типа был его ученик Тимон Флиунтский. Он вполне точно следовал за учениями Пиррона, но, кроме того, был еще злой насмешник и сатирик, так что в своих стихах (не дошедших до нас) обливал помоями всех античных философов, кроме
Ксенофана и Пиррона. Кроме того, известно, что этот Тимон был любитель выпить (Diog. L. IX 110). Подобно тому как Пиррон вначале был живописцем, так и Тимон был сначала танцором, потом ездил в колонии по коммерческим делам и разбогател (IX 109-110). Любил он не только мудрость, но и свое садоводство. Говорят, что он был быстр умом и быстро сочинял планы для драм. За сохранностью своих рукописей он никак не следил, они валялись у него где попало и их ели крысы, а когда он начинал читать свою рукопись, то часто не мог различить, что в ней написано им и что не им. Передается и об его неумеренной шутливости (IX 113-115).
Известный академический скептик Аркесилай, как сообщает Диоген Лаэрций, был прежде всего гомосексуалист. Писал стихи. Любил Гомера и Пиндара. Некий Аристон сказал о нем: "Лицом Платон, и задом Пиррон, Диодор серединой". Из этого видно, что его платонизм был во всяком случае только маской. "В речах он был сжат, сводил все к исходным положениям, любил четко различать слова, умел говорить колкости и насмешки" (Diog. L. IV 33). Он имел красивую наружность, умел вежливо и завлекательно разговаривать с людьми. Был добр (IV 37). Он был также богатым человеком и любил роскошно пожить, проявляя большие субъективные капризы в оценке обедов. Открыто жил с двумя женщинами. Любил мальчиков. Некоторые называли его даже наглецом (IV 40). Тщеславием не отличался (IV 43). Умер в пьяном виде (IV 44).
Из этого маленького обзора уже можно заключить, насколько скепсис не мешал античным скептикам быть самыми настоящими античными людьми со всеми их достоинствами и недостатками. Если о греках не раз говорили, что ничто человеческое им не чуждо, то и о скептиках, несмотря на их исостению, несмотря на их "воздержание", все равно необходимо сказать, что ничто человеческое им не чуждо. Поэтому наша оценка скептицизма как своего рода вполне позитивной диалектики, характерной и вообще для всего античного мира, этими примерами из личной биографии скептиков может только подтвердиться.
7. Некоторые эстетические прасимволы скептицизма
Точно так же античные скептики не хуже всех прочих античных философов умеют изображать все сложности своей абстрактной философии в виде не только одного конкретного или интуитивного образа, но и в виде такого образа-символа, который очевиден и понятен решительно всякому, кто никогда даже и не занимался философией.
В конце своей II книги трактата "Против логиков", то есть VIII по общему счету трактатов, входящих в сочинение "Против ученых", Секст сравнивает свое положение как отвергателя для всякого доказательства со следующим рассуждением. Зевс, говорит он, отец богов и людей, но сам он – тоже бог. Не значит же это, что Зевс является отцом самого себя? Поэтому и доказательство, доказывающее, что никакое доказательство невозможно, тем самым отнюдь не подрывает самого себя; и нельзя скептика упрекать в том, что, отвергая всякое доказательство, он в то же время сам пользуется для этого ничем иным, а тоже доказательством (VIII 479).
Точно так же, по Сексту, отнюдь не все вещи, уничтожая другие вещи, сами продолжают оставаться вещами. Огонь, например, уничтожая те или иные вещи, существует только до тех пор, пока не сгорели эти вещи. Как только эти вещи сгорели, погас и сам огонь. Поэтому и скептическое доказательство того, что никакое доказательство невозможно, нисколько не теряет оттого, что оно разрушило все вещи, а само, дескать, осталось. Да, оно тоже погибло вместе с теми вещами, которые оно разрушило, но это нисколько не значит, что вещи остались неразрушенными. Погибло доказательство несуществования вещей, но само-то несуществование вещей все-таки осталось, то есть сами-то вещи все-таки оказались разрушенными (VIII 480).
Наконец, по Сексту, нет ничего невозможного в том, что человек, взобравшийся на высокое место, тут же откинул ту лестницу, по которой он взбирался. Ведь нужно было пустить в ход очень много доказательств для того, чтобы доказать невозможность знания и бытия. Но это не значит, что пребывание на высоком месте, помимо всякого знания и бытия и помимо всяких доказательств для достижения того высокого места, где уже не нужно никакое знание и никакое бытие, само является бездоказательным и даже противоречит всяким доказательствам несуществования знания и бытия. Можно путем многих доказательств забраться на высокое место и можно, в то же самое время, это высокое место считать вполне бездоказательным (VIII 481).
Это не просто художественные или бытовые образы, это – образы-символы, к тому же чрезвычайно понятные и очевидные, не хуже того, что, по Гераклиту, дважды нельзя войти в одну и ту же реку, или не хуже Демокрита, по которому бесконечная делимость вещи должна же иметь какой-то свой предел в виде атома, дальнейшее дробление которого уничтожило бы самую вещь и превратило бы все бытие в хаос.
Таким образом, при всей своей абстрактности, при всем своем схематизме, при всей своей нуднейшей системе доказательств, повторяющих одно и то же, Секст Эмпирик все же остался античным человеком, для которого бытие или небытие обладает такой очевидностью, понятностью и непререкаемостью, как для глаза воспринимаемое им чувственное ощущение.
8. Позитивные элементы античного скептицизма
Наконец, заключение, к которому мы пришли, вполне оправдывает и нашу попытку в начале этого очерка нащупать скептические элементы в философии и литературе периода самой классики. Теперь мы видим, что скептицизм является вообще одним из основных свойств всей греческой философии и литературы, часто играя не отрицательную, но вообще даже и положительную роль. Именно благодаря этой универсальной роли греческого скепсиса такие мыслители, как Гераклит или Демокрит, смогли создать свои отнюдь не скептические системы. Точно так же элементы скептицизма очень ярко дают о себе знать даже и в системах Платона и Аристотеля, хотя системы эти, взятые в целом, тоже ничего общего со скептицизмом не имеют. Об отрицательной роли скептицизма можно говорить разве только в тех случаях, когда он пытался играть самостоятельную роль в полном отрыве от общеантичной традиции. Но и здесь он весьма оригинально, сильно и глубоко выполнял просветительские функции и всегда будил умы к более критической оценке всего философского наследия греков. Критицизм скептиков вошел в виде составного элемента даже и в такую отнюдь не скептическую систему, как неоплатонизм, как раз получивший свое начало после Секста Эмпирика или даже еще при нем.
Но все наши указания на скептические элементы античной философии могут иметь в настоящем очерке только пропедевтическое значение. Полное же исследование скептицизма во всех периодах античной философии до сих пор пока еще остается делом будущего.
9. Трактат "Против риторов"
Для того чтобы все наши предыдущие рассуждения о скептической эстетике Секста Эмпирика получили свое подтверждение на текстах самого философа, сделаем обзор содержания двух его трактатов – "Против риторов" и "Против музыкантов". Здесь мы едва ли получим что-нибудь принципиально новое, поскольку о методах скептической эстетики Секста мы говорили достаточно. Однако будет любопытно проследить реальный ход его доказательств, как он наблюдается при рассмотрении конкретных художественных областей. Начнем с трактата "Против риторов".
Трактат "Против риторов" Секст начинает следующим утверждением:
"Поскольку понятие [предмета] является тем же самым и в случае его существования и в случае его несуществования и поскольку ничего из этого невозможно исследовать без предвосхищения самого предмета исследования, то мы сначала рассмотрим, что такое риторика, привлекая сюда наиболее знаменитые ее определения у философов" (Adv. math. II 1).
Таким образом, обладая понятием того или иного предмета, мы еще ничего не можем сказать о его существовании или несуществовании. Каково же понятие риторики? Секст приводит мнение Платона, Ксенократа, стоиков и Аристотеля (2-8). Платон, по Сексту, считает, что специфическим свойством риторики является создание убеждения не через обучение, но через убеждение же при помощи слов (2-5). Ксенократ считал, что риторика – знание хорошей речи, опирающееся на древнее установление. Так же считали и стоики, но последние полагали, что хорошая речь зарождается только у мудреца. Специфическим свойством риторики, по Ксенократу и стоикам, является речь, рассматриваемая в своем протяжении и в качестве непрерывного течения, чем риторика и отличается от диалектики с ее краткостью и закругленностью (6-7). Аристотель считал, что риторика – искусство слов в непосредственном смысле, в отличие от других наук, относящих слова к некоей другой цели (8).
Итак, в понятие риторики включается следующее: 1) это наука, 2) предметом, или материалом, которой является речь, 3) а целью – создание убеждения (9). Поэтому свое опровержение риторики Секст и строит, придерживаясь этих трех пунктов. Таково введение трактата (1-9).
I. Первый раздел (10-48) призван доказать, что риторика не наука.
1. Всякая наука есть система выработанных постижений, допускающих отнесение к какой-нибудь цели, полезной для жизни. Но риторика не может быть системой постижений, так как в риторике не может быть постижений, поскольку в отношении ложного постижений не существует. Предписания же риторики, например, необходимость убеждать судей вопреки действительности, являются ложными. Как не существует науки проламывания стен или науки воровства и вырезывания кошельков, так не может быть и риторики (10-12).
2. Кроме того, риторика не обладает никакой устойчивой целью (как философия или грамматика), ни целью, имеющей в виду преобладание чего-либо в существующем (как медицина и наука кораблевождения). Действительно, риторика не всегда приводит к победе над противником, да и сам ритор всегда может опровергнуть собственную аргументацию. Так что и с этой точки зрения риторика не является наукой (13-15).
3. Далее, можно стать ритором без приобщения к риторике, как стал им гребец Демад и множество других. И наоборот, многие упражнявшиеся в риторике и доходившие в научных изысканиях до крайней степени, оказывались неспособными ораторствовать в суде. Следовательно, ораторы существуют не в силу науки (16-19).
4. Кроме того, науки полезны, а риторика не полезна. Поэтому государства содействуют процветанию наук, а риторику и риторов прогоняют. Критский законодатель и спартанцы приняли закон, запрещающий появляться в их государствах тем, кто хвастается своими речами. Спартанцы особенно прославились, как известно, краткой речью без обиняков. Итак, поскольку государства не прогоняют наук, но прогоняют риторику, – риторика не наука (20-24). Что же касается высылки философов, то прогонялась не наука философия, но представители отдельных школ, например эпикурейской, за проповедь наслаждений, или сократовской – за принижение божественного (25).
5. Риторика не только не полезна, но даже вредна. Во-первых, она вредна для владеющего ею, так как ему приходится иметь дело с людьми дурными, не щадить свой стыд, быть наглецом, обманщиком, шарлатаном; он должен иметь многочисленных врагов и питать ко всем неприязнь, преследовать и терпеть преследования и в результате испытывать постоянный страх перед теми, кто обладает деньгами, и иметь жизнь, полную печали и слез (26-30). Во-вторых, риторика вредна для государства. Законы являются как бы душой государства, с их гибелью гибнут и государства. Но риторика призвана именно выступать против законов. Риторы подходят к закону жульнически: они то толкуют слова законодателя слишком буквально, то предлагают не следовать буквальному смыслу. Они употребляют двусмысленные выражения и вообще создают множество приемов для их уничтожения, так что один византийский оратор, когда его спросили, в каком состоянии находятся византийские законы, ответил: "В таком, в каком я хочу". Риторы – шарлатаны, ловкачи и крючкотворы, отнимающие голоса судей у законного решения и предлагающие противозаконные постановления (31-40). Поэтому, в-третьих, риторы вредны для народа, поскольку они учат народ дурному. Итак, если риторика не полезна ни владеющему ею, ни его ближним, то она не может быть и наукой (41-43).
6. Некоторые возражают на это и говорят, что наукой могут пользоваться люди культурные и люди обыкновенные, средние, и что якобы все вышеприведенные возражения относятся к риторике людей дурных. Так, никто не бранит науку панкратиста, бьющего своего отца, но дурной нрав панкратиста. Но в науку панкратиста действительно не входит употребление ее во зло, тогда как риторика всегда специально занимается выдумыванием противоположностей, а неправое и заключается в противоположности (43-47).
II. Таким образом, как наука риторика невозможна. Теперь, продолжает Секст, следует рассмотреть нереальность риторики из ее материала. Таковым является речь.
1. Риторика была бы научной, если бы она вырабатывала полезную речь. Однако риторика касается не полезных речей, но вредных (48-49).
2. Сам же тот факт, что риторика просто вырабатывает способность речи, не делает ее наукой. Науке доноса и лести народу обучают, но она не является наукой. Используют речь и все другие науки, но от этого они не становятся риторикой, так что и риторика, используя речь, не становится наукой (50-51).
3. Но вообще-то говоря, риторика не создает и хорошей речи. Ведь она не дает для этого научных правил, а без них речь становится шаткой. Не дает она правил и для изменения смысла речений, так что на основании риторики не может быть хорошей речи, и красиво говорить не является специфическим свойством риторики (52-55).
Дело в том, что сама по себе речь не хороша и не дурна. Она зависит от того, кто ее произносит, человек ли уважаемый или же мим. Она может быть хорошей, если объясняет полезные предметы, или является хорошей греческой речью, или умеет выразить предмет кратко, ясно и искусно. Ни то, ни другое, ни третье не специфично для риторики: полезных предметов она не знает; хороший греческий язык не может отличать ее специально, ибо является общим и для людей обычных и для занимающихся свободным искусством; а что касается ясности и краткости, то риторы, наоборот, стремятся говорить длинно, с восклицаниями и т.п. (56-58). Да и кто станет пользоваться риторским языком, если и сами риторы, покидая занятия и состязания, пользуются обычным языком. Так что желающий хорошо говорить должен опираться на обычай, а не на какую-то постороннюю науку (58-59).
III. Как уже говорилось, всякая наука имеет в виду определенную цель. Но у риторики нет никакой цели. Между тем многие внушающие доверие лица в той или иной форме утверждают, что цель риторики – создание убеждения. Таковы ученики Платона, ученики Ксенократа, Аристотель, Аристон, Гермагор, Афиней и Исократ. Само же слово "убедитесь", если верить этим мужам, имеет три смысла. В одном случае речь идет об очевидном и истинном, требующем признания; в другом – о ложном, требующем признания как ложное, о чем риторы говорят "правдоподобное"; в третьем имеется в виду общее относительно истины и лжи. С чем же имеет дело риторика (60-64)?
1. Очевидно, истинное убеждает само по себе, так что здесь риторика не нужна. Но можно рассуждать иначе. Допустим, что риторика рассматривает ясное и очевидное в меру его убедительности. Но тогда она должна рассматривать и неубедительное. Все истинное либо убедительно, либо неубедительно; таким образом, риторика есть наука об истинном, но тогда она должна быть и наукой о ложном. В таком случае риторика оказывается познанием истинного и ложного. Отсюда само собою не получается, что она есть познание истинного. К тому же она защищает то, что само себе противоречит, а противоречащее не есть истинное. Следовательно, риторика не стремится к истинному (66-68).
Но она не стремится и к ложному. Ведь относительно лжи нет науки. Так что риторика или не наука, или же она – жульническая наука. Кроме того, здесь снова возникают те же самые апории, поскольку ложное может быть убедительным и неубедительным. Далее, защищая противоречие, риторика стремится столько же к правдоподобному, сколько и к тому, что ему противоречит (68-70). Но она не преследует и того, что является общим в отношении истины и лжи. Наука не может пользоваться ложным, а риторика опять оказывается знанием истинного и ложного, но это не так. Следовательно, если риторика не может быть теорией ни истинного, ни лжи, ни того, что обще тому и другому, – а помимо этого ничего убедительного не существует, – то создание убеждения не относится к риторике (70-71).
Кроме того, относительно риторики рассуждают и так: она или наука или не наука, а если не наука, то нельзя доискиваться ее цели, если же наука, то у нее оказывается та же цель, какую можно достичь и без помощи риторики, так как убеждают и богатство, и красота или слава и т.п. (72).
Убеждение не является целью риторики и по следующим причинам. Убедив судей, риторы добиваются еще чего-то и продолжают просить; следовательно, целью является не убеждение, но то, что следует за ним (73). Далее, риторическая речь противоположна убеждению, так как она страдает излишествами, не ясна, не вызывает благосклонности и ей противятся все, кто не переносит ее бахвальства. Вызывает же сочувствие простая и искренняя речь, почему в древности ареопаг не разрешал подсудимым приглашать защитника, но каждый защищался сам без изворотливости и хитрости (74-78).
2. Убеждение, таким образом, не цель риторики. Но ею не является ни нахождение соответствующих теме слов, ни внушение судьям мнения о вещах, желательных говорящему, ни полезное. Риторика не может находить соответствующих теме слов, поскольку речь здесь идет о темах истинных или могущих быть выраженными. У риторики же нет критерия истины, так что она не может судить и о могущем быть выраженным. Но речь не может идти и просто о соответствующих словах самих по себе; тогда целью риторики оказывалась бы риторика же, но это не так (79-83).
Что касается внушения судьям соответствующего мнения, то это то же самое, что и внушение убеждения, а это, как показано, не цель риторики (84).
Полезное не относится к жизненной части любой науки, так что оно не может быть целью риторики в собственном смысле (85).
Остается еще одержание победы. Но это не может быть целью риторики, так как тогда, поскольку риторы часто терпят поражение, риторика постоянно не достигала бы своей цели, за что нельзя было бы ее хвалить, а проигравшего ритора мы иной раз хвалим (86-87). Итак, риторика не имеет ни материала, с которым она могла бы оперировать, ни цели. Следовательно, риторика как наука не существует (88).
IV. Исходя из целого, мы видим невозможность риторики, но это же можно доказать исходя и из ее частей.
1. Целью судебной, совещательной и восхвалительной частей риторики являются соответственно справедливое, полезное и прекрасное. Но тогда цель одной части не будет целью другой части, и может оказаться, что прекрасное будет несправедливым и т.п., а это нелепо. Если же целью всей риторики является создание убеждения, то цель ни одной из ее частей не совпадает с частью целого, поскольку для создания убеждения риторы, например, часто пользуются и несправедливыми словами (89-93).
2. Вообще же что касается справедливости как цели судебной части, то если бы это было так, речь не должна была бы состоять из противоположных суждений. Риторика пользуется и справедливыми и несправедливыми словами, то есть является и добродетелью и пороком. Но это нелепо. Следовательно, не может быть судебной части риторики, имеющей целью справедливое (94). Кроме того, справедливое или бесспорно или спорно. Если оно бесспорно, то тогда нет необходимости в риторике. Если же спорно, то риторы не только не стремятся разрешить спорность, но навязывают ее, примером чего может служить история об учителе риторики Кораксе и его ученике (95-99).
3. Это же относится и к совещательной части. Что же касается восхвалительной части, то у нее нет метода восхваления, так как риторика часто восхваляет за дурное, она не знает, кого и за что нужно восхвалять. Следовательно, риторы не могут восхвалять, чему можно было бы привести множество примеров (100-105).
4. Но пусть мы даже согласимся с частями риторики. Однако справедливость справедливого и красота прекрасного обнаруживаются при помощи доказательств, а их не существует. А доказательств не существует, поскольку они являются речью, однако не существует и речи, как было установлено в другом месте (106-107). Но пусть доказательство существует. Тогда оно или очевидно или неясно. Однако оно не очевидно, так как охватывает неясное и вызывает разногласие. Итак, оно неясно. Но если оно неясно, оно требует доказательства, и так до бесконечности. Но если нет доказательства как рода, то нет его и как вида. Если родовое доказательство имеет посылки и вывод, оно не является родовым, а если оно их не имеет, то оно ничего не может доказать, и прежде всего свое собственное существование. К тому же доказательство не может быть предметом исследования, ибо для этого нужны другие доказательства, и так – до бесконечности. Следовательно, никакого доказательства не существует (107-112).
После этого Секст от риторики переходит к геометрии и арифметике (113).
10. Трактат "Против музыкантов"
Трактат "Против музыкантов" (VI) можно разделить на пять частей: 1) введение (1-6), 2) изложение общих теорий музыки (7-18), 3) критика общих теорий (19-39), 4) техническая теория музыки (40-51) и 5) критика технической теории музыки (52-68).
Во введении Секст говорит о трех смыслах, в каких понимается музыка: 1) как наука о мелодии, звуке, творчестве ритмов и т.п.; 2) эмпирическое умение, относящееся к инструментам; 3) "музыка" и "музыкальный" употребляются в переносном смысле, как, например, говорят о "музыкальности" живописного произведения (1-2). Но наиболее совершенный – первый вид музыки; против него-то и выставляет свои возражения Секст (3). Возражения вообще могут быть двух родов: догматические, когда доказывается, что музыка не наука, необходимая для блаженства, но, скорее, она приносит вред, как на основании критики музыкальных высказываний, так и на основании опровержимости главнейших аргументов в ее пользу. Второй способ – пользование апориями: поскольку основные положения музыкантов постоянно меняются, музыка не может иметь права на существование. Поэтому Секст считает своим долгом сначала дать общее изложение среднего и умеренного музыкального учения (4-6).



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



