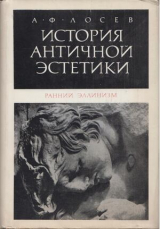
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 66 (всего у книги 78 страниц)
В антропологии Панеция животные лишены разума; разумом обладает, с одной стороны, божественный род, а с другой стороны, человеческий род (frg. 79). Свойством живого существа является то, что оно отклоняет вредное для своей телесной жизни и стремится ко всему, что этой жизни способствует. Общей для всех живых существ является и тяга к соединению ради целей воспроизведения, а также забота о своих детях. Наибольшее различие между человеком и зверем в том, что животное стремится к тому, что чувственно-налично и дано, лишь в очень малой мере ощущая прошлое или будущее. Напротив, человек, будучи причастен разуму, с помощью которого распознает последствия, видит причины, знает, что было раньше и в какой последовательности шло, сопоставляет подобное, связывает настоящее с будущим, легко обозревает весь ход жизни и оказывается в состоянии подготовить вовремя все необходимое (frg. 80). Животные ощущают лишь чувственное влечение и стремятся к его предмету со всей своей энергией, и только человеческий ум питается поучением и раздумьем, всегда стремясь к чему-либо и действуя, ведомый наслаждением от видения и слышания (frg. 81). Если во вселенной все состоит из четырех элементов, то душа должна состоять из огненной стихии, чем и объясняется ее стремление вверх (frg. 82). Панеций считал, что, поскольку дух неразрывно связан с телом, он рождается и гибнет вместе с ним. Поскольку же в платоновским "Федоне" говорится явно противоположное, Панеций называл этот диалог неподлинным (frg. 83; 84).
Согласно Немезию, Панеций считал самопроизвольную действующую способность и движущуюся способность двоякой: с одной стороны, она "звучащая" (phoneticё) и является частью души, а с другой – "семенная" (spermaticё), являющаяся частью не души, а природы (frg. 86). К способностям души относятся, с одной стороны, начала движения, а с другой стороны – ощущение. При этом начал движения, зависящих от человеческой воли, три: обеспечивающее движение всего тела, "звучащее" и дыхательное. Кроме того, существуют функции природные и животные, действующие независимо от воли человека (frg. 86 а).
Все эти фрагменты говорят, с одной стороны, о большой зависимости Панеция от прежнего стоицизма, а с другой стороны, они говорят также и о некоторых новостях. То, что мир состоит из традиционных греческих элементов и что огонь из всех элементов самый легкий и самый высокий, – это, несомненно, старое стоическое учение, как равно и толкование души в качестве происходящей из этого огня. Однако антропология и психология Панеция выступает у него в гораздо более развитом и терминированном виде. Важно отметить также и признание самой субстанции души не как постоянной, самостоятельной и вечной, но как уходящей в космический первоогонь. И за индивидуальной душой остаются только ее второстепенные и более поверхностные свойства. В данном пункте прежнее стоическое учение, как мы сказали, только укрепляется, и о бессмертии индивидуальной души у Панеция не может идти и речи.
Панеций поражен богатством индивидуальностей, возникающих от природы (Cic. De off. I 30, 107), и в случае естественных недостатков он предлагает бороться с ними хирургическими или воспитательными мерами, вроде того, как Демосфен избавился от своей картавости (Cic. De div. II 46, 96 = frg. 74).
6. Эллинизация начального стоицизма
В итоге необходимо сказать, что, сохраняя учение и о логосе, и о провидении, и о телесности бытия, и о разуме, и о долге, Панеций впервые показал, как можно эллинизировать эти ужасные неэллинские учения об апатии, о камнеподобном мудреце, о признании большинства людей сумасшедшими, о презрении к естественным потребностям жизни, о самоубийстве и как можно, оставаясь на стоической почве, и в теологии, и в космологии, и в психологии, и в обществоведении давать чисто эллинскую философию о радостях жизни, а не только о "любви к року", и веру в силу человеческой солидарности и всемогущую надежду на лучшее будущее. Даже эллинское, но только слишком уж давнишнее досократовское учение о мировых пожарах, по-видимому, казалось ему слишком ужасным, почему он в нем и сомневался, признавая мир вечным. Историки философии отмечают у Панеция его большую роль в насаждении гуманности, в мягком отношении к своим философским противникам и в перенесении на римскую почву как раз тех форм стоицизма, которые для Рима были приемлемы, а иной раз даже и необходимы. Необходимо также помнить, как это блестяще доказал М.Поленц{519}, что Панеций есть не что иное, как эллинизация Стои, переполненной до него совсем не эллинскими учениями.
Что при этом речь шла не о полном разрыве с Древней Стоей, а только о некотором ее смягчении, об этом можно судить по многим текстам, где тоже у Панеция проповедуются вполне стоические строгости (ср., напр., Cic. De off. II 14, 51; 17, 60 = frg, 95, 122). По-видимому, и здесь у Панеция не обошлось без влияния Платона, который при всей суровости своих этических взглядов вполне признавал реальную борьбу за осуществление прямых путей божества (Plat. Legg. IV 716 а), как и в логике, кроме абсолютного разума, он признавал и просто "правильное рассуждение", и притом в самых ответственных пунктах своей системы (например, Phaed. 72 е, 94 Ъ).
7. Эстетические выводы
а) Мораль и польза для Панеция совершенно одно и то же, и быть в противоречии между собой они могут только при неправильном их понимании (Cic. De off. III 7, 34 = frg. 10), что каждый раз требует особого рассуждения (там же, III 2, 7) и, конечно, с опорой на разум (там же, I 29, 90 = frg. 12).
Свой стоический антропоцентризм Панеций развивал в духе конкретно-жизненного и художественного творчества, когда человек сам, своими руками, создает красоту и в себе и вокруг себя.
Панеций называл целью человека жизнь согласно данным нам от природы началам (frg. 96). Мы не должны противодействовать вселенской природе, но, соблюдая ее, мы должны следовать и нашей собственной природе. Если же подражать природе других людей и оставить свою собственную, то невозможно соблюсти и гармонию всеобщей вселенской жизни (frg. 97).
В первую очередь человеку должно быть свойственно вопрошание и исследование истины (frg. 98). Поэтому, когда человек освобождается от обычных нужд и забот, он старается увидеть, услышать и изучить то, что, давая ему познание как скрытых, так и явных вещей, необходимо для блаженной (beata) жизни. Этому желанию видеть истину сопутствует в человеке стремление к некоторому первенству, потому что ум, верно сообразующийся с природой, не хочет никому следовать, кроме как наставнику, учителю или справедливому и законному повелителю, действующему ради всеобщей пользы. Так возникает благородство души и презрение к человеческим обыденным делам. Только человек, благодаря своей природе и разумной способности, понимает, в чем заключается порядок, что благопристойно; и никакое другое животное не ощущает красоту, прелесть и гармонию частей в видимых предметах. От их созерцания подобие этой внешней красоты передается человеческой душе, и она начинает еще более блюсти красоту, постоянство и порядок в своих суждениях и деяниях, остерегаясь поступать неблагопристойным, безобразным и слабодушным образом. Так возникает прекрасное в поведении (honestum, как часто переводили по-латыни греческое calon) (frg. 98).
Не являются благими мужами те, кто опускается до сравнения нравственно-прекрасного с полезным. Наиболее же низменны те, кто не только ценит полезное выше прекрасного, но при этом еще и увязает в сравнении полезных вещей между собой (frg. 100). Благо лишь то, что прекрасно и сообразно природе (то есть добродетельно); и когда полезное кажется большим благом, чем прекрасное, то, согласно Панецию, это не подлинно полезное, а только кажущееся таковым (frg. 102). Панеций учил, что когда полезное связано с чем-то постыдно-безобразным, в нем нет и ничего по-настоящему полезного, но нужно уметь понимать, что там, где представляется нечто безобразное, не может быть никакой пользы (frg. 102).
б) Все нравственно-прекрасное, по Панецию, бывает четырех видов: 1) познание истины и искусство; 2) справедливость и государственная добродетель; 3) возвышенная твердость души; 4) порядочность, скромность и умеренность всего поведения человека. Все эти четыре вида нравственно-прекрасного связаны и переплетены между собой, однако каждый из них предполагает нравственный долг особого рода. Причем исследование истины дается лишь первой добродетели, а именно мудрости и благоразумию. Эта же первая добродетель и всего более отвечает человеческой природе. Недаром все люди движимы стремлением к познанию и науке, в чем мы видим высшую красоту (excellere pulchrum putamus), а ошибку, заблуждение, незнание, обман (labi, errare, nescire, decipi) мы считаем и злом и безобразием (et malum et turpe, frg. 103-104).
в) Первым трем видам нравственно-прекрасного, как можно думать, соответствуют у Панеция две разновидности великолепия (splendor), которое проявляется в презрении ко всему внешнему и культивировании только прекрасного и благопристойного (honestum decorumque), с одной стороны, и в мужественной суровой жизни ради всеобщей пользы – с другой (frg. 106). Это соответствует двум видам добродетели – "теоретической" и "практической" (frg. 108). Четвертый вид нравственной красоты (honestum) сопровождается скромностью (verecundia) и как бы некой красивостью жизни (ornatus vitae), причем не скрытой красивостью, о которой можно только косвенно догадаться, но явной и зримой. Поэтому только рассуждение (cogitatio) позволяет отделить от врожденной телесной красоты и прелести (venustas et pulchritudo) то сливающееся с ней благообразие (decorum), которое дается добродетелью (frg. 107). Подобно тому как телесная красота благодаря соразмерному складу членов трогает взор и услаждает тем, что все части благолепно гармонируют друг с другом, так красота (honestum) добродетелей, сияющих в жизни (elucet in vita) чинностью (ordine), постоянством (constantia), умеренностью (moderatione) речей и поступков, вызывает одобрение всех окружающих (frg. 107). Любовь в виде душевного смятения, слабости, невладения собой Панеций считал низменной страстью; и он советовал воздерживаться от всего, что с приятностью увлекает человека, – от вина, созерцания внешней красоты (forma), фанатической привязанности (frg. 114).
8. Основная эстетическая проблема
Здесь перед нами весьма продуманная и оригинальная эстетика, которой Панеций весьма глубоко отличается от классического стоицизма. Выше мы находили у него как некоторые стоические черты, так и некоторые отклонения от стоицизма. Но в эстетике у него получилось уже не просто отклонение от стоицизма, а прямая ему противоположность. Мы видим, что у Панеция исчезают решительно все черты внешнего стоического ригоризма. Красота, как и у всех античных авторов, конечно, мыслится здесь вместе с нравственно-возвышенным. Красота нравственно-безобразного здесь никак не мыслится и является чем-то невообразимым. Тем не менее красота ни в каком случае не сводится на нравственно-возвышенное и не имеет ничего общего с жизненно-полезным. Правда, красота расценивается как наивысшая жизненная польза, потому что она помогает жить и общаться людям между собою. Но полезное, взятое само по себе, то есть без всякой красоты, вовсе даже и не есть полезное. Красота практична, и это относится к самой ее сущности. Но практицизм вовсе не есть красота и может ей только мешать.
Интереснее всего то, что Панеций здесь выражает одно из глубочайших воззрений античности на красоту, а именно красивое для него является всегда полезным и жизненно-практичным, но в то же самое время оно есть нечто вполне самодовлеющее, и на него можно любоваться так, как будто бы оно не относилось ни к каким обыденным человеческим потребностям. Кое-где в старом стоицизме такой момент тоже давал нам чувствовать себя, и это мы в свое время отмечали. Но у Панеция эта жизненно-практическая красота овеяна совсем не стоической мягкостью и воспринимается какими-то нашими чрезвычайно искренними и даже интимными чувствами. А этого, конечно, не было в старом стоицизме, который все же являет собою некую чрезвычайно суровую и ригористическую картину. Самодовление красоты и наше любование на нее нисколько не делало старый стоицизм чем-то мягким и ни в какой мере не лишало его глубочайшей и безоговорочной суровости.
С другой стороны, однако, не нужно понимать эстетику Панеция в виде какой-то разнеженной и расслабленной структуры. Признаваемая Панецием красота, несмотря на свою изысканность, все же продолжает быть и мудрой, и строгой, и весьма мужественной. Больше того, в источниках имеются материалы, которые рисуют красоту у Панеция в очень суровых, принципиальных и вполне неподатливых чертах. Излагая Панеция, Авл Геллий передает его рассуждения о том, что благоразумный человек, деятельный и желающий быть полезным себе и ближним, должен быть подобен атлету-панкратиасту.
"В самом деле, они [такие атлеты], будучи вызваны для боя, выступают, высоко приподняв руку и выставив кулаки, как бы стеною обороняют свою голову и лицо, причем все их члены еще до начала боя либо насторожены с целью избежания ударов, либо готовы к нанесению их. Точно так же душа и ум мудрого человека должны быть всегда и везде упреждающе настороженными против насилия и разгула враждебных сил, бодрыми, возвышенными, неприступно огражденными, добрыми и деятельными среди тревог, никогда не смыкающими глаз, никогда не отклоняющими своего взора, простирающими свои рассуждения и соображения против бичей фортуны и против злоумышлении преступных людей, подобно рукам и кулакам, чтобы ни в чем противное и внезапное нападение не застигло нас неподготовленными и незащищенными" (frg. 116).
В связи с такой антропологией и этикой Панецию уже не нужно было так напряженно связывать бесстрастие человеческой личности с общими космическими законами, а также понимать этику только в смысле учения о непреклонной практической разумности. Его не страшат ни болезни, ни страсти, так как он умеет находить в них разумную сторону, равно как и то, с чем необходимо бороться (Aul. Gell. 12, 5 = frg. 111). А при всех страданиях и неприятностях жизни Панеций предлагает подражать Анаксагору, который при известии о смерти сына сказал, что смертность его сына была ему давно хорошо известна (Plut. De coh. ira. 16 = frg. 115).
Вслед за Аристотелем Панеций ввел различие теоретических и практических добродетелей (Diog. L. VII 92), однако снабдил его учением о воспитании естественных аффектов и о доведении их до таких добродетелей. Панеций также учит о следовании природе (Aul. Gell. XII 5); но как стоик он, конечно, различает естественные и противоестественные удовольствия (Sext. Emp. Adv. math. IX 73 = frg. 112), признавая за благо кроме самодовлеющей добродетели также и здоровье, силу, способности и достаток (Diog. L. VII 128 = frg. 110), а единой целью всех добродетелей признавая счастье, к которому каждая добродетель идет по-своему (Stob. II р. 63, 26 Wachsm.-Hense = frg. 109).
Таким образом, эстетическая позиция Панеция весьма оригинальна: там, где долг требует от нас трудных и тяжелых подвигов, мы должны забыть о самодовлеющем любовании на красоту; но там, где жизненные условия позволяют нам иметь дело с прекрасными предметами, мы должны их самодовлеюще созерцать, хотя они в то же самое время и остаются полезными для нас в житейском смысле.
Можно сказать еще и так. Отступая от раннестоического ригоризма, Панеций хочет приблизить красоту к обыкновенным человеческим переживаниям как можно более реалистически. Поэтому красотой является для него не только космос с его огненной иерархией и не только космический логос, но и самая обыкновенная субъективная жизнь человека в тех случаях, когда она полна разного рода страстями, чувствами и мыслями и в то же самое время полна стремлениями к высшей разумности. Для Панеция прекрасна уже эта реальная борьба внутри человека, если только имеется то высшее и разумное, ради чего стоит бороться. Намеки на такого рода субъективно понимаемую эстетику мы могли находить и в раннем стоицизме. Однако после приведенных у нас материалов всякий должен согласиться с тем, что у Панеция, пожалуй, впервые эстетически расценивается самый процесс борьбы внутри человеческого субъекта ради достижения тех или других целей. Здесь мы находим небывалое смягчение древне-стоического ригоризма, признававшего в основном за последнюю человеческую красоту только бесстрастие мудреца.
Наконец, выясняя специфику стоической эстетики у Панеция, мы должны вспомнить тот основной принцип стоической логики, который определял собою как всю стоическую этику, так и всю стоическую космологию. Древние стоики, впервые ставшие на путь чистой субъективности и разыскивая в этой последней наиболее характерный ее результат, выдвинули теорию лектон, которое, хотя и возникало в результате словесного обозначения предмета, но не было ни этим обозначением предмета, ни самим предметом, но тем, что обозначалось в предмете и было, таким образом, подлинной словесной предметностью. Это лектон не было ни физическим предметом, ни психическим предметом, ни психологическим переживанием, ни чем-то обязательно истинным или ложным, ни даже чем-нибудь вообще существующим или несуществующим. Эту древнюю стоическую теорию мы подробно проанализировали выше. Желая формулировать специфику той новой философской ступени, на которой оказались стоики, а именно ступени субъективности, они всячески отличали это лектон решительно от всего того, о чем трактовала предшествовавшая объективистская философия. Лектон предмета – это было то, что можно было назвать смыслом предмета или идеей предмета, но никакого платонизма или аристотелизма здесь никак не существовало. И вот это строгое и ни с чем не сравнимое лектон как раз и заставило прежних стоиков учить об их суровой морали и добродетельности только малого числа философов, противостоящих всему человечеству, которое стоики считали недобродетельным и даже сумасшедшим.
Новость Панеция заключалась в том, что он впервые дал более мягкое учение о добродетели, и если бы он занимался логикой и грамматикой, то дал бы и более мягкое учение об этом лектон. Не теряя своей строгости и суровости, оно оказалось погруженным во все глубины и хаос человеческих страстей и во все процессы целенаправленной воли. Оно везде и всюду своим присутствием определяло степень красоты и разумности всего, что происходило в человеческой душе, но нисколько не мешало человеческим страстям и человеческой воле. Благодаря этому только и стало возможным понимать всю моральную жизнь человека как нечто эстетическое, как нечто вечно стремящееся к разумности и красоте.
У Панеция нет никакой теории лектон, поскольку логикой и языкознанием он не занимался. И тем не менее, разыскивая специфику эстетических взглядов Панеция, мы только и можем формулировать ее как теорию смягченного, уже морально-жизненного, уже психологически-напряженного, а не просто от всего удаленного и ни с чем не совпадающего раннестоического лектон. Впрочем, эту эстетическую специфику Панеция мы выше формулировали и без всякого указания на ее соотношение с раннестоическим лектон. Здесь мы вспомнили о раннестоическом лектон только ради характеристики того огромного эстетического расстояния, которое должна была пройти греческая мысль между ранними стоиками и Панецием.
9. Один конкретный пример морально-эстетической концепции Панеция
Учение Панеция о дружбе и любви Ф.А.Штейнметц{520} излагает в основном по материалам цицероновского трактата "Лелий о дружбе" (Laelius De amicitia), где, не прибегая к ссылкам на источник, чтобы не отяжелить изложение, Цицерон широко пользуется сочинениями Панеция.
Конечно, почти все учения Панеция, пересказываемые Цицероном, не представляют ничего необыкновенного по сравнению с обычными древнегреческими воззрениями на дружбу и любовь. Но такая традиционность представляет как раз главную черту этого платонизирующего стоика. Каковы же главные моменты этического учения о любви, как их излагает цицероновский Лелий, за которым стоит Панеций? Прежде всего, мы узнаем здесь, что дружба возможна лишь среди достойных и добрых людей. Эта мысль почти в тех же выражениях имеется уже у Платона (Lys. 214 d). Аристотель, опираясь на Платона (который в свою очередь размежевывается с Эмпедоклом), вводит свои дистинкции и говорят отдельно о трех видах дружбы – ради добродетели, ради пользы и ради удовольствия (Ethic. Nis. VIII 3, 1236 а 32), из которых только первая свойственна одним лишь достойным. Уже отсюда ясно, что Лелий и, следовательно, Панеций, опирается здесь не на Аристотеля, а на Платона; и это вполне понятно, потому что у Диогена Лаэрция (VII 124) мы читаем, что именно стоики возвратились в учение о дружбе к платоновским воззрениям. Дружба между добродетельными составляет при этом только часть, только как бы обостренное выражение той всеобъемлющей "общительности", которая скрепляет весь человеческий род и которая свойственна самой человеческой природе. Природа "приобщает" (oiceiosis) человека к человеку, и это их влечение друг к другу в своем высшем развитии связывает в конечном счете все общество в единое целое.
Дружба естественным образом возникает между людьми, связанными кровным родством. Но такая дружба и не единственная и не самая сильная. Подлинная дружба опирается на доброжелательство (benevolentia) и участие (caritas). И это доброжелательство оказывается у Панеция главной чертой дружбы между достойными (Lael. 19). Оно входит в определение дружбы: "Дружба (amicitia) есть согласие (consensio) во всех божественных и человеческих вещах, с доброжелательством и участием" (там же, 20). "Согласие" здесь передает у Цицерона греческий термин homonoia, который можно было бы перевести как "единомыслие" или "единодушие". Дружба и есть в последнем счете это "единодушие". А единодушие возникает на основе мудрости, которая составляет высшее и единственное благо души, в отличие от "безразличных" благ достатка и здоровья и от прямого зла сластолюбия и других пороков. Добродетель, в первую очередь мудрость, "и рождает и поддерживает дружбу" (там же). И для иллюстрации этого положения Цицерон, явно отступая здесь от Панеция, заставляет своего Лелия перечислить целый ряд римских национальных героев, отличавшихся блестящей добродетелью (21).
Отсюда Лелий переходит к описанию преимуществ, которые дает дружба. "Что может быть сладостнее, – риторически спрашивает он, – чем иметь, с кем можно было бы решиться говорить так же, как с самим собой" (22). И это еще далеко не исчерпывает всех благодеяний, какие можно получить от друга и в счастье, и в несчастье. В истинном друге человек видит свое отражение, что пробуждает в нем самом мужество и уверенность в себе (23). Однако подлинная высокая дружба бывает крайне редко; и за все века едва лишь три или четыре дружеские пары упоминаются как образцовые (15).
Вместе с тем не преимущества, даваемые дружбой, понуждают людей дружить; поводом для дружбы служит не только бессилие и бедность частного человека, заставляющие его искать друга, а другие, более положительные природные причины (26). Эти причины "древнее" и "прекраснее", чем простая польза. Основание дружбы не польза или выгода, а природа – вот твердое убеждение Панеция. Не являются основанием дружбы и поиски удовольствия и наслаждения. Здесь Панеций (26 слл.) выступает против Эпикура, в защиту природного, незаинтересованного понимания дружбы. Всевозможные временные интересы тускнеют по сравнению с вечным и неизменным законом природы, сближающим людей. Это справедливо как в отношении отдельных друзей, так и в отношении скрепляемого общей дружбой общества. Последнее складывается в первую очередь не с целью компенсировать немощь отдельных людей, а благодаря природному стремлению душ к соединению (27).
Благожелательство и согласие, определяющие дружбу, начинаются с любви (26). Это соотношение – именно, что любовь, эрос, порождает дружбу – сформулировал из ранних стоиков Зенон (SVF I 263). Критерием подлинной дружбы для Панеция и является, в отличие от лицемерной ее имитации, опирающаяся на природу любовь. Природа понимается при этом не просто как физическая природа, а в первую очередь как разумная, интеллектуальная природа. Таким образом, и здесь все зависит от той сферы, из которой вырастают и добродетель и нравственная красота (honestum). Лелий прямо говорит: "Нет ничего более любезного (amabilis), чем добродетели, и ничто в большей мере не склоняет к любви" (28); и "мы некоторым образом готовы любить за добродетель и достоинство даже тех, кого мы никогда не видели" (там же).
Когда вследствие притягательности добродетели и нравственной красоты возникают любовь и влечение, начинается упрочение дружеского чувства, причем любящий, оценив доблесть любимого, добрыми делами, стараниями и доверительным обращением пробуждает в нем доброжелательность; и благодаря привычке доброжелательность превращается в подлинную дружбу. И видя, что любимый равен ему достоинством, любящий настолько распространяет свою доброжелательность к нему, что начинает любить его ничуть не меньше, чем самого себя (27-29).
Обрисовав свою концепцию дружбы как склонность разумной природы, Панеций подробнее переходит к критике эпикурейского учения о дружбе, которое видит начало дружбы в пользе и удовольствии. Панеций выдвигает парадоксальное положение: чем более человек достигает добродетели и мудрости, и следовательно, чем более самодовлеющим и независимым он становятся (ut nullo egeat), тем более он склонен заключать и культивировать дружеские союзы (30). В полную противоположность этому у Эпикура достигший самодовления человек не нуждается и в дружбе, а дружба всего более процветает среди слабых и зависимых. Но здесь вместо того, чтобы разобраться логически в проблемах самодовления и пользы, как это, по-видимому, делал Панеций, Лелий – Цицерон снова обращается к конкретному примеру и указывает на то, сколь нелепым было бы предположение, что его знаменитый друг Сципион Африканский дружит с ним, Лелием, потому, что нуждается в нем. Эпикуровское же понимание дружбы как обмена услугами он отбрасывает, называя такую дружбу торговлей.
Конечно, незаинтересованная дружба также приносит великую пользу, но она возникает не в надежде на эту пользу. Польза – это нечто постороннее, случайное. Весь подлинный плод дружбы – в самой этой дружбе, подобно тому как великодушны и щедры мы не по какой-либо иной причине, а только по влечению собственной природы. Такое сравнение между дружбой и великодушием Ф.-А.Штейнметц считает особенно типичным для Панеция{521}.
Но самая мысль о незаинтересованной великодушной дружбе недоступна для тех, кто все сводит к выгоде и удовольствию, не будучи в силах подняться к более возвышенному образу мысли (32). А между тем, когда дружба укрепляется благодаря привычке, уже благородное соревнование между друзьями приносит им обоим неоценимую пользу; и таким путем природная дружба достигает прочности и подлинности, немыслимой у своекорыстных друзей. Когда друзей связала взаимная польза, изменившиеся обстоятельства могут вновь развязать их; но природа неизменна, и так же неизменна природная дружба (там же). Природу, подчеркивает автор, правильно понимать здесь как вечный закон разумного и совершенного мирового духа{522}. Неизменность природы – это еще одна важная новость учения Панеция, который не придерживался официальной стоической догмы периодических воспламенений и говорил о нерушимости космоса (frg. 66 v. Str.).
Обсудив несколько более частных вопросов, связанных с дружбой, Лелий у Цицерона – Панеция приступает к превратностям дружбы, могущим даже превратить вечную привязанность в вечную ненависть. Но во всей этой части речи Лелия Ф.-А.Штейнметц усматривает уже влияние не Панеция, а Феофраста с его учением о всемогущем случае, тем более что те ситуации, в которых возможны расхождения между друзьями, у Лелия определены прежде всего случаем.
Однако одной из важнейших причин расхождения между друзьями может оказаться и ситуация, когда из дружбы нужно поступать против справедливости (Lael. 61). И здесь возникает традиционный для греческой, а позднее и римской философии вопрос, до какой степени должна заходить дружба. Известно, что, согласно Периклу, дружба должна храниться только "до богов", то есть до тех пор, пока она не переходит в неблагочестие (I 3, 20). Цицерон в первую очередь и более всего обращает в своем "Лелий" внимание на случаи расхождения между требованиями дружбы и требованиями верности своему государству. Конечно, в случае дружбы между совершенными мудрецами, или философами, такого расхождения возникнуть не может. Однако Лелий говорит о дружбе, "известной в повседневной жизни", а здесь возможно всякое (Lael. 38). Здесь опять Ф.-А.Штейнметц узнает влияние Панеция с его тезисом о невозможности совершенного мудреца. Решение в данном случае выносится однозначное. Никакой сговор злоумышленников не может быть оправдан дружбой между ними, и преступления против отечества должны наказываться независимо от того, совершены ли они по собственному побуждению или из верности другу (42).
Несомненно, Панеций служит источником для Цицерона, когда его Лелий выступает против "обеспеченности", securitas мудреца, как по-латински Цицерон переводит греческие понятия "безболезненности" и "бесстрастия". При "обеспеченности" была бы невозможна никакая дружба; и, наоборот, только забота (sollicitudo), то есть прямая противоположность "обеспеченности", связывается у Лелия с нравственной красотой (honestum) (47). "Если отнять движение души, то <...> какая разница будет между человеком и бревном или камнем?" (48). Добродетель вообще сопряжена с трудом и скорбью; и непонятно, почему ради собственной добродетели человек должен быть готов к этому, а ради друга – нет. Те тяготы, которые могут быть связаны с дружбой, не являются причиной для того, чтобы избегать дружбы вообще (там же). Те, кто не хочет никаких трудностей и предается роскошной и обеспеченной жизни, вообще не знают дружбы. А добродетель, проявленная в дружбе двух людей, имеет свойство постепенно распространяться на многих, особенно если пример добродетельной дружбы показывают государь и правитель (50, 52).
При выборе друга нужно сдерживать первый наплыв дружелюбных чувств, подобно тому как сдерживают стремящихся сорваться с места коней, испытав сначала характер друга, подобно тому как испытывается норов коней (63). Надо знать, не легкомыслен ли он – особенно в отношении богатства и почестей, потому что лишь редко удается встретить людей, которые готовы поставить дружбу выше почетного общественного положения, власти и влиятельности. Крайне редка истинная дружба, в которой друг проявляет себя неизменно серьезным, постоянным и стойким. Но человек с подобными качествами принадлежит уже почти к божественному роду людей (62). Для того чтобы можно было сказать такое о друге, должно пройти долгое время и "съедено много соли" (67).



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



