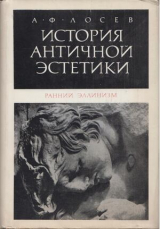
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 78 страниц)
11. Музыка в ораторском искусстве
Среди вспомогательных средств ораторского искусства Квинтилиан рассматривает музыку.
Еще Орфей и Лин, по преданию, оказывали магическое воздействие на людей, животных и природу. Пифагор же строил весь мир по законам гармонии. Не должен пренебрегать музыкой и оратор. Если уже простое напевание мелодии облегчает человеку его тяжелое настроение и если гребцы пользуются пением для облегчения своей работы, то и оратор найдет для себя в музыке прекрасное орудие для воздействия на публику. Музыка, прежде всего, научит его пользоваться звуками своего голоса соответственно внутреннему содержанию речи, заставляя о высоких предметах петь величественно, о нежных – приятно, научая, где и как надо повышать и понижать голос. Музыка, далее, научит соответствующим образом располагать слова в пьесе, пользоваться телодвижениями и находить нужный тон для произнесения. Безусловно необходима она еще и потому, что оратору приходится иной раз прямо произносить стихи, которые в античности часто совсем не отличались от пения. Квинтилиан предостерегает от изнеживающей, сладострастной музыки, но предписывает мужественную, строгую и бодрую (I 10, 9-33).
12. Заключение
Подводя итог, нужно сказать, что в Квинтилиане, может быть, больше, чем у кого-нибудь другого, выражена эллинистически-римская тенденция ощупывать художественную форму изнутри. Его отдельные характеристики и выражения доходят в этом отношении почти до импрессионизма. Заговорит ли он о стилях живописи или архитектуры, упомянет ли об особенностях того или другого писателя – наконец, коснется ли той или другой художественной формы, мы всегда найдем у него, во-первых, рационально-обоснованную и расчлененную форму искусства, а во-вторых, внутренне-живой, как бы дышащий, трепещущий коррелят. Общеэстетические позиции Квинтилиана выясняются при внимательном анализе материала. Максимальная формалистическая сознательность в риторике и поэтике, на какую только была способна античная мысль, находится именно у Квинтилиана; и максимально четкое чувство живого эстетического содержания этих форм содержится именно в этом "Ораторском наставлении". Дальше этого античное искусствоведение не пошло.
1. Вводные замечания
В заключение нашего анализа эстетических тенденций в науке об ораторском искусстве вполне закономерен вопрос о том, что же, по мнению знатоков этого искусства, питало красноречие и что было причиной его упадка в I в. н.э.
Как было сказано, "Ораторское наставление" Квинтилиана оказалось той высшей "суммой риторики", дальше которой теория не только римского, но и вообще античного красноречия не пошла. Совершенно естественно при этом ожидание некоего итога, ставящего последнюю точку на линии многовекового развития родного для каждого грека и римлянина искусства вдохновенного художественного слова, создавшего знаменитое учение о стилях и качествах речи. Такой печальный итог отчасти, как мы уже видели (с. 549), был подведен автором трактата "О возвышенном". Обратимся теперь к младшему современнику Квинтилиана и, по всей видимости, современнику Псевдо-Лонгина знаменитому историку Корнелию Тациту (ок. 57 – ок. 117 г. н.э.).
Тациту принадлежит некогда оспаривавшийся диалог "Об ораторах", который раньше относили к годам юности историка, а теперь датируют приблизительно 100-105 гг. н.э. В этом диалоге, написанном не без влияния цицероновского трактата "Об ораторе", ведут беседу известные ораторы – М.Апр, В.Мессала, Куриаций Матерн и Юлий Секунд. Повод к беседе – желание К.Матерна оставить поприще оратора и уйти в поэтическое творчество среди "дубрав и рощ" (12), в "безмятежном уединении" (13).
В связи с этим диалог делится как бы на три части: гл.5-13 – спор о предпочтении судебного красноречия или поэтического творчества, в котором участвует защитник первого – Марк Апр, и апологет второго – К.Матерн; главы 15-26 – спор о сравнительной ценности древнего и нового красноречия и, наконец, гл. 27-42 – причины упадка красноречия. До некоторой степени позиции Тацита можно объединить с точкой зрения его героя К. Ма-терна. А так как трактат Квинтилиана "О причинах порчи красноречия" до нас не дошел, то основная тема диалога Тацита может считаться особенно ценной и подытоживающей.
2. Проблема упадка красноречия
Характерно, что Тацит в своем диалоге даже ставит под сомнение жизненность самого жанра ораторской речи и риторического обучения в специальных школах. То, что для Квинтилиана было безусловно необходимо, для Тацита является предметом горьких раздумий. Реставраторские тенденции Квинтилиана на основе греко-римской классики Тациту отнюдь не импонируют{436}. Он констатирует упадок красноречия, потерявшего реальные условия общественно-исторического развития. Поэтому и Тациту и герою его диалога Куриацию Матерну остается только один выход – покинуть область риторики и уйти одному – в историю, другому – в поэзию. В диалоге "Об ораторах" позиция Тацита резко противоречит также и автору трактата "О возвышенном", который считал ответственными за вырождение подлинного чувства высокого ораторского искусства тех, кто нарушал нормы морали, строгого воспитания и благочестия.
3. Эстетика ораторской речи
На основе диалога "Об ораторах" можно сделать ряд выводов о тех художественно-эстетических требованиях, которые предъявляет к ораторскому искусству Тацит, и даже обрисовать образ идеального оратора.
Выясняется, что настоящее ораторское искусство обладает "неподдельным мужеством" (5), "силой", "пользой" (6), которые сочетаются с "возвышенным наслаждением для "свободной" и "благородной" души (6). Оратор должен обладать "утонченной изобретательностью", "краткостью", "убедительностью", "глубоким содержанием" и "великолепием слога" (23). Речь должна быть "красивая", "изящная", "убедительная", одетая скорее в "грубошерстную тогу", чем "в кричащее тряпье" (30). Хотя широкая образованность и "научное знание" (33) совершенно обязательны для оратора, как и "опыт" (33), но в "искусстве красноречия главное – это "талант", который "рождается сам собой" (6), "природное дарование" (10), "обогащение души" (31) и некое "дуновение", необходимое для горения пламени (36). Тацит не раз говорит о "красоте" ораторской речи (20), о том, что можно назвать "уместностью", или "подобающим", о "блеске" и "возвышенности", о правильно построенном предложении и выборе слов (21). "Прекрасная" речь основана на целесообразном сочетании всех ее частей, уподобляемых гармонии человеческого тела (там же). Красота и целесообразность создают некое единение, которое можно сравнить с жилищем, находящимся под крышей, что служит защитой от дождя и вместе с тем радует глаз (22).
"Форма и содержание" ораторской речи, по Тациту, относительны в их красоте, так как происходит смена "обстоятельств" и "общественных вкусов" (19). Отсюда рождается представление об исторически сложившихся категориях "изящного", "утонченного", "ясного", "возвышенного", "мягкого" стилей речи, а также о "страстности", "четкости", "основательности" (18), проявляемых в индивидуальности, характерной для ораторов разных эпох.
Мы бы сказали, что Тацит проявляет себя в диалоге "Об ораторах" не как реставратор классики или поборник "нового стиля", а придерживается той благодатной середины, которая помогла в свое время Цицерону преодолеть и азианство, и аттицизм, создавая свой собственный, неповторимый стиль.
Отсюда – тонкая и умная критика классического ораторского искусства Рима во всей его историко-эстетической обусловленности и попытка понять "излишества" "нового стиля". Устами своего героя Куриация Матерна Тацит говорит об "умеренности", о том, что следует "пользоваться благами своего века, не порицая старого" (41).
4. Предпосылки для процветания ораторского искусства
Упадок красноречия произошел, по Тациту, вовсе не из-за "оскудения дарований", "оскудения" древних нравов, "невежества" обучающих и "нерадивости" молодежи (28). Вся древняя философия, взятая вместе, перипатетики, академики и эпикурейцы, вся совокупность наук во главе с диалектикой и весь авторитет Платона, Ксенофонта и Демосфена (31) не могут помочь современному ритору, взращенному в среде "надуманных, оторванных от жизни декламаций" школьного обучения (35). Ораторское искусство питается "значительностью дел" (37), "простором форума" и "народным собранием", а не архивами и судами, подъемом и энтузиазмом народа, "своего рода театром", а не судебными разбирательствами, "как в пустыне" (39). В тоне легкой иронии Тацит восхваляет благоденствие Римской империи, чья строгая и абсолютная власть положила конец тому "своеволию" народа, которое "неразумные называют свободой". Но вместе с гибелью этого своеволия, то есть активной политической жизни, ушло в прошлое "великое и яркое" красноречие (40). По Тациту, "началом начал" для процветания ораторского искусства являются не высоконравственные идеи автора трактата "О возвышенном" и не только продуманное обучение по Квинтилиану, а политическая свобода. Таким образом, при чтении диалога Тацита "Об ораторах" мы наблюдаем как бы умирание и последние вздохи великой греко-римской риторики, занимавшей собою эстетически образованные умы в течение нескольких столетий.
В заключение коснемся самого общего вопроса – об эстетическом значении риторики вообще в античном художественном сознании.
Мы не знаем ни одного народа, ни одной литературы, где риторика стояла бы на столь высоком месте, как в Греции или Риме. Уже самое количество риторических трактатов на наше ощущение является чем-то невероятным, в особенности если сравнить это с состоянием теории изобразительных искусств. Но дело, конечно, не в количестве дошедших до нас трактатов, которое, допустим, случайно. Дело в той невероятной склонности античного гения к риторическим методам мысли и представления, которой никогда не перестаешь удивляться, несмотря на огромную численность соответствующих фактов{437}.
Как бы мы ни были склонны к красноречию, как бы Европа ни ценила своих талантливых ораторов, все же везде, конечно, обращается внимание прежде всего на основательность, на правильность, на само идейное содержание речи, а ее украшение, услаждения, даваемые ею, игривость и музыкальность ее построения – все это, при самом изощренном художественном подходе, никогда не стоит на первом плане и остается совсем необязательным, а часто даже и нежелательным придатком. Так смотрят на дело новые народы и новые литературы. И – совершенно противоположное этому находим мы в Греции и в Риме. Можно сказать, что всякое сочинение, написанное на ту или иную тему, будь то философия, будь то история, будь то медицина, обязательно должны были содержать в себе в Греции и в Риме те или иные черты риторики, чтобы иметь хоть какое-нибудь распространение. Писать в каком-нибудь стиле было обязательно решительно для всех. Пластика и музыка речи тут – далеко не пустые слова. Как ни много говорят о пластике античного гения, но никакие похвальные слова, никакие теоретические характеристики и определения не дают и тени того впечатления, которое получаешь от реального столкновения с древними языками, и в особенности там, где, казалось бы, место для самой отвлеченной прозы, лишенной всяких сознательных стилистических приемов.
Возьмите Ксенофонта, того самого простейшего, наивнейшего, даже простоватого Ксенофонта. Только профан может считать язык Ксенофонта простым и безыскусственным. О, конечно, это – самый наивный и самый естественный язык из всей классической прозы. Но как раз тут и убеждаешься в правильности афоризма О.Уайльда, что искренность – тоже поза. Современное исследование показало, что Ксенофонт, это очень наивная грациозность, но она находится под сильнейшим влиянием тогдашней – и притом софистической – риторики, отличаясь, однако, мудрым равновесием между формой и содержанием и ориентируясь, действительно, на наивную естественность. После диссертации Г.Шахта{438} даже Фр.Бласс изменил свое мнение о безыскусственности Ксенофонта во втором издании своей известной книги{439}. Но тогда что же сказать о Фукидиде{440}, об Эсхине и прочих ораторах?{441} Что сказать об языке Платона?
Вполне осязательна софистическая риторичность в языке Фукидида. Но это – очень "возвышенный" язык, стиль очень большого калибра. Если угодно, тут есть даже нечто архаизирующее. Он дает такие новообразования, которые можно найти только в эсхиловском трагическом языке. И в то же время это невероятный консерватор и даже педант в языке. Ясные, простые, классические приемы рассыпаны у него там и сям. Попробуйте-ка дать связную характеристику такому языку. Она оказалась бы очень сложной.
Искусственность и риторичность языка Платона можно уловить даже на переводах. Э.Норден совершенно прав, когда считает "Пир" драмой, вторую речь Сократа в "Федре" – лирическим стихотворением, конец "Государства" – мифом, "Тимея" – теогоническим стихотворением, начало "Федра" – идиллией в прозе{442}. Однако не всякий знает, с каким искусством Платон пользуется горгианскими фигурами, с каким искусством употребляет дифирамбический способ повествования, как ловко меняет он тон завзятого краснобая на серьезную, простую и возвышенную стилистику своей положительной философии{443}. Риторике отнюдь не чужд и Аристотель{444}.
Когда мы пишем историю, то нас прежде всего интересуют факты и их объяснение. Но это совсем не античная точка зрения. Нередко античный историк прямо дополнял своей фантазией недостающие ему факты прошлого. А главное – стиль. Что ни античный историк, то свой стиль. Прочитайте хотя бы с десяток страниц у Геродота. Вы сразу почувствуете эту наивную любознательность, эту эпическую наивность, эту естественность, простоту и плавность языка Геродота{445}. И этот стиль для нас не менее важен, чем его многочисленные, но проблематические факты. Самый далекий от всякой риторики, самый в этом смысле "научный" историк античности, это – Полибий. Но посмотрите, с каким презрением относится к нему Дионисий Галикарнасский. Дионисий (De comp. verb. 4) считает его верхом бездарности и думает, что его даже невозможно дочитать до конца. Кто читал Полибия, тот знает, насколько этот историк настроен враждебно против всяких "стилей", против восхваления героев и друзей, против принижения врагов, против любой риторической прикрасы. Но как раз эта полемика Полибия и обнаруживает, насколько же действительно риторика и поэзия пронизывали собою исторические сочинения древних. Из многочисленных античных текстов приведем Лукиана (De hist. conscr. 7), который осуждает историков, когда "они забывают, что разграничивает и отделяет историка от похвального слова не узкая полоса, а как бы огромная стена, стоящая между ними, или, употребляя выражение музыкантов, они отстают друг от друга на две октавы". По Лукиану, историк не должен писать хвалебное слово, энкомий и переходить тем самым в иной, пронизанный риторикой жанр. История "не выносит никакой даже случайной и незначительной лжи" (7). У поэзии "одни задачи и свои особые законы, у историка – другие" (там же, 8).
Особенно любили античные историки сочинять речи и вкладывать их в уста изображаемых героев. Это вполне отвечало их чувству пластики и риторики. Но все эти речи настолько прозрачно совпадают с общим стилем данного исторического повествования, настолько они, как правило, не содержат в себе ничего личного и местного, что уже и без дальнейшего ясен их внутренний смысл, это – быть пластическим и риторическим орудием так же пластически и риторически мыслящего и творящего античного историка. То, что у нас является анализом документов, мемуаров и писем, то, что в нашей исторической науке является характеристикой героев, то в античной истории уступает место речам; и в этих речах исторических героев все – критика данным историком тех или иных документов, и анализ источников, и синтетическая характеристика героя или эпохи.
Если такова была история, то что же говорить о самом красноречии? Delectatio "услаждение" – вот что ставилось задачей наряду с логическими аргументами и фактическими материалами. Квинтилиан прямо выставляет три основных цели оратора (III 5, 2) – поучение, воздействие на волю и услаждение. И об этом услаждении он говорит довольно часто. В IV 2, 46 мы тоже читаем о преимуществах более длинного пути для оратора, но зато "приятного и мягкого", чтобы не исчезло "удовольствие" (voluptas, ср. Quint. IV 2, 121; V 14, 29; 33 слл. и др.). В конце концов, "eloquentia" – красноречие стало тут отождествляться с "литературой" вообще. И нас теперь уже нисколько не должно удивлять то, что риторическую традицию мы находим не только повсеместно в поэзии, не только в трактатах о поэзии (таких, например, как Горация), но и в таких произведениях, как, например, трактат Витрувия "Об архитектуре" или трактат Лукиана "О пляске". Еще блаженный Августин признается (Conf. V 13), что, посещая Амвросия, он часто заслушивался самими словами проповедника и "услаждался приятностью речи" более, чем ее глубоким содержанием. Греки и римляне едва ли были в этом случае серьезнее и отвлеченнее Августина. Пластика, пронизывавшая все духовное существо античного человека, часто заставляла засматриваться на внешнее, заслушиваться внешним, раскрывать рот на второстепенное, но зато – какую красоту, какую музыкальность, ритмичность, плавность, какое разнообразие стилей и выразительных форм чувствовал он там, где мы не обращаем никакого внимания на красоту и где нас интересует только деловое существо вопроса.
Вот эту невероятную склонность античного уха к музыкальной, стилевой речи, удивительную чувствительность его к акцентам, к ритмам, к звуковым эффектам и отражает собою античная риторика. На примерах Дионисия, Деметрия, Псевдо-Лонгина, Гермогена, Цицерона и Квинтилиана мы уже достаточно могли осязать эту риторическую музыкально-словесную стилевую чувствительность. Но, может быть, самое яркое выражение этого мы найдем в античной теории художественной прозы. Здесь наиболее выпукло сказалось античное риторическое чувство. В художественной прозе нет стихов, ритмика здесь гораздо более сложная, запутанная, разнообразная. Для ее восприятия необходимо гораздо более тонкое ухо, чем для стихов. А как тонко разбирались в этой ритмике греки и римляне! Можно рекомендовать прочитать хотя бы цицероновского "Оратора", чтобы понять, насколько обстоятельно античность в этом разбиралась.
Цицерон исходит из опыта, из живого художественного опыта. Он не дает тут совершенно никакой философской теории.
"Некоторый ритм в прозаической речи существует, – пишет он, – и это установить нетрудно: его распознает ощущение. Как несправедливо отрицать ощущаемое только потому, что мы не можем объяснить его причины. Ведь и самый стих был открыт не рассудком, а природой и чувством, а размеряющий рассудок объяснил, как это произошло. Так наблюдательность и внимание к природе породили искусство" (Orator. 55, 183).
Для Цицерона важен только самый факт: существует ритмическая художественная проза, и – больше ничего. Этот факт не требует для него никаких философских обоснований. Он просто говорит сам за себя.
И раз это так, то Цицерона уже нельзя убедить в том, что художественная проза есть что-то искусственное или противоестественное. Он говорит против критиков этой прозы.
"Неужели они не ощущают ни пустот, ни недоделок, ни кургузости, ни спотыкливости, ни растянутости? Целый театр поднимает крик, если в стихе окажется хоть один слог дольше или короче, чем следует, хотя толпа зрителей и не знает стоп, не владеет ритмами и не понимает, что, почему и в чем оскорбило ее слух; однако сама природа вложила в наши уши чуткость к долготам и краткостям звуков, так же как и к высоким и низким тонам" (Orator. 52, 174).
Это внутреннее и совершенно реальное чувство ритма заставляет Цицерона давать очень мудрые советы в смысле избежания в прозе чистой стихотворности, в смысле незлоупотребления каким-нибудь одним размером, в смысле соблюдения всегда живого и убедительного потока ритмической речи. Не будем касаться этих интересных подробностей, но читайте хотя бы "Оратора", и вы поразитесь четкости и реальности для античного уха всех этих гибких и текучих форм ритмической художественной прозы.
Вероятно, ничто так не было в античности и характерно для отдельных культурных эпох, как то или иное состояние риторики. В этом убеждает ставшая классической книга Э.Нордена, указанная у нас выше. Здесь на огромном материале мы видим смену риторических стилей, их теории и их практики. Мы понимаем, почему первый сознательный риторический стиль, и притом стиль свободно-вычурный, субъективно-несвязанный, был создан именно софистами. Мы прекрасно понимаем, как с падением демократии, с македонским владычеством и на подъеме эллинизма падает строгость классических образцов и как в виде реакции на классику торжествует теория и практика анархического азианства. Вполне понятна и новая волна классицизма в связи с возвышением Рима, та волна, которая будет теперь уже не архаикой, но архаизмом, не классикой, но классицизмом, не аттическим стилем, но аттицизмом. Э.Норден на обширном материале (который, однако, прекрасно расположен и легко обозрим), яснейше обнаруживает всю реакционность аттицизма, его неспособность (в чистом виде) к прогрессу. Наоборот, азианство, когда-то образовавшееся на основах софистики, всегда давало все новые и новые ростки и неизменно эволюционировало впредь до самого конца Римской империи. Однако из материалов Э.Нордена хорошо видно также и то, что азианизм только в соединении с аттицизмом давал наиболее интересные образцы риторического стиля. И мы на основании предыдущего изложения должны сказать, что действительная ценность таких авторов, как, например, Псевдо-Лонгин или Квинтилиан, в том и заключалась, что они умели мудро обходить Сциллу архаизма и Харибду неотеризма, беря самое ценное из обоих источников.
Этот живой нерв античной художественной и общесоциальной жизни мы и находим в риторике. Античность не была способна к простой музыке, подобно возрожденческой Европе, ибо пластика задерживала, сковывала бесконечную и свободную неуловимость музыкального восторга. Но как раз по причине той же самой неуничтожимой пластики своего духа она понимала музыку словесно, внешне-логически выражение. И вот вместо бесконечного разнообразия чисто музыкальных форм Новой Европы мы находим здесь бесконечное разнообразие и самую нервную чувствительность в смысле риторических форм. Риторика для античности – гораздо более музыкальна, чем просто игра на инструментах или чистое пение. Риторика – это и есть настоящая античная музыка. И вот почему она так невероятно там распространена. Она удовлетворяла здесь общечеловеческому музыкальному инстинкту. И вот почему историк античного эстетического сознания не может пройти мимо этой огромной сферы античной духовной культуры, не зафиксировав ее с наивозможными подробностями в своих научных инвентарях.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



