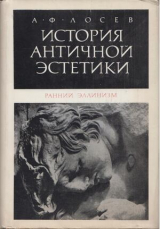
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 78 страниц)
Что касается специально Лукреция, то никак нельзя пройти мимо этого замечательного учения, имевшего большое распространение в Риме. Оно перешло и к Вергилию, и к Горацию, и к Сенеке. Сенека высказал слова, которые кажутся почти уже совсем неантичными, а заставляют вспоминать об эпикурейско-христианском историзме и мессианизме. В конце своих "Естественнонаучных исследований" Сенека говорит о большой эволюции, которую проделала наука, и о том великом будущем, которое ей еще предстоит. Он пишет:
"Наступит время, когда скрытое теперь будет извлечено на дневной свет благодаря стараниям более продолжительного периода. Для исследования столь великих вещей недостаточно одного поколения, чтобы целиком заниматься небом. Да и как же может быть иначе, если столь немногие годы мы делили между занятиями и порочной жизнью [таким] неравномерным делением! Потому объяснение это получит только в течение длинного ряда поколений. Наступит время, когда наши потомки будут удивляться тому, что мы не знали таких ясных вещей" (Natur. quaest. VII 25). "Мы не можем знать то, без чего ничто не существует; и – мы удивляемся, когда чуть-чуть узнаем какие-то искорки, в то время как величайший момент (pars) мира, бог, остается скрытым. Сколько много живых существ мы впервые узнали в этом веке и какие огромные трудности даже в этом. Многое, неизвестное нам, узнает народ только в веке грядущем. Многое сохраняется будущим векам, когда уже исчезнет и память о нас. Ничтожная вещь мир, если весь мир не содержится в последующем". "Однако не сразу передаются те или иные тайны. Элевсин хранит то, что он показывает только вновь созерцающим. Природа вещей не сразу передает свои тайны. Думаю, мы начинатели. Мы застреваем только в вестибюле. Эти таинственные предметы не открываются просто и не открываются всем. Они удалены и заперты в глубине святилища. Одно из этого расследует наш век, другое – тот, кто последует за нами" (VII 30).
Чтобы привести в окончательную ясность источники теории прогресса у Лукреция и вообще ее историческое положение, необходимо рассуждать так. Издавна в Древней Греции была популярна теория пяти веков у Гесиода: самое лучшее и самое блаженное время было в глубине веков, и Гесиод называет его золотым, а остальные века были все хуже и хуже, и последний век Гесиод называет железным. Полной противоположностью этому явилась теория прогресса у Демокрита и Эпикура, у которых человеческая жизнь начинается с первобытной дикости и кончается расцветом цивилизации. Платон, по-видимому, совмещает эти две линии развития: раньше всякой человеческой истории существует мир идей, первобытные люди под влиянием нужды и требований разума переходят к более цивилизованному состоянию, а в конце истории мыслится полное осуществление идеального мира в человеческой жизни. Насколько можно судить, стоический платоник I в. до н.э. Посидоний тоже совмещал Гесиода и демокрито-эпикуровскую концепцию и верил в человеческий прогресс от животного состояния к идеальному состоянию. Лукреций, вообще говоря, продолжал или, вернее, хотел продолжать демокрито-эпикуровскую теорию прогресса. Однако, живя в период катастрофы римской республики и не находя никакого выхода для тогдашнего катастрофического положения, он присоединял к демокрито-эпикуровской линии еще и гесиодовскую теорию регресса, сам не отдавая себе в этом полного отчета. Возможно также, что в нем бурлила злоба против его великого современника Посидония (ср. особенно V 988-1010), который жил в Риме и во времена Лукреция был очень популярен. Что же касается полного объединения двух теорий, гесиодовской и демокрито-эпикуровской, то ему предстояло большое будущее, поскольку все христианство в качестве своих основных учений выставляло теорию первозданного рая, первородного греха и всемирно-человеческого падения, восстановления путем нового божественного вмешательства и конечного восстановления первозданной райской чистоты. С этой теорией можно познакомиться у христианского неоплатоника IV-V вв. Немезия{269}.
Так можно было бы представить себе историческое место теории прогресса у Лукреция.
1. Социально-историческая основа
Прежде чем давать эту общую характеристику, необходимо обратить внимание на одно обстоятельство, нам особенно хорошо известное из общей характеристики эллинистически-римской эстетики, а также из характеристики Лукреция, и впервые только и дающее возможность понять происхождение и сущность данного типа античной эстетики.
Выше мы уже достаточно говорили о кризисе и гибели греческого классического полиса, о необходимости перехода его на путь широкого межнационального развития и об отчаянии многих крупнейших мыслителей тогдашнего времени, не нашедших у себя сил для перенесения этой гибели свободного греческого полиса. Возникшие в конце VI в. до н.э. философские школы стоицизма, эпикуреизма и скептицизма стали проповедовать уход человека в самого себя и охрану собственного и глубоко внутреннего безмятежного покоя. Это мы тогда называли ступенью абстрактной субъективности, противополагая ее чистой классике, еще не знавшей глубин изолированной человеческой личности и развивавшейся на путях абстрактно-всеобщих принципов. Эта социально-историческая картина верна и для Лукреция, почему нас и не должны удивлять его черты пессимизма и отчаяния.
С другой стороны, однако, древние греки со своим стихийным материализмом мало были склонны к тому, чтобы останавливаться навсегда только на одном отчаянии, унынии или безысходности. Они всегда находили выход. В частности, эпикурейство находило выход не только в такой натурфилософии, которая обеспечила бы для них безмятежное и блаженное состояние, но и в учении о богах, которых они умели виртуозно изображать как самую настоящую и уже универсальную иррелевантность, то есть как полное исключение всякого влияния богов на реальное бытие и всякого воздействия на них космоса и людей. Обычно это именуется "деизмом". Но термин "иррелевантность" подходит здесь гораздо больше, поскольку он как раз подчеркивает абсолютную невозможность воздействия богов на людей и людей на богов. Именно в этом эпикурейцы находили для себя утешение, то есть в этом вполне бескорыстном и чисто эстетическом любовании на предельные идеалы замкнутой в себе и сосредоточенной в себе безмятежности и потому блаженства.
Если мы учтем эти два обстоятельства, а именно склонность к пессимизму ввиду потери объективных и субстанциальных ценностей, а также постоянную уверенность в полной возможности и безболезненности внутреннего сосредоточения, тогда нам будет не страшно подводить все эти итоги античного эпикуреизма, вытекающие из глубины тогдашних социально-исторических отношений. Сюда вполне относится и Лукреций. Если его время далеко ушло от катастрофы греческого классического полиса, то в социально-историческом отношении оно тоже выступало как растущая гибель римской республики, и аристократической и демократической, и как постепенно нараставший и еще никогда в Риме не виданный абсолютный принципат с его тоже никогда еще в истории не возникающей мировой Римской империей. Поэтому развал римской республики и ее постепенный переход к принципату был повторением все того же распада греческого классического полиса накануне македонского завоевания, но только на гораздо более высоком уровне, повторением еще более драматическим и еще более трагическим и теперь уже на горизонтах мировой империи. Только такого рода социально-историческое объяснение эпикурейской эстетики и дает возможность подвести для нее соответствующие итоги и не заблудиться в той внешней противоречивости, которой она обладает.
2. Общая картина эпикурейской эстетики
В конце второй книги своей поэмы Лукреций, как мы знаем, констатирует факт постарения и одряхления мира. "Да, сокрушился наш век..." (II 1150). Мир клонится к смерти, правда, для того, чтобы когда-то потом воссоздаться снова из атомов. Но сейчас мир – приговоренный к смерти больной. Невольно вспоминается это странное рассуждение Лукреция, когда пытаешься бросить общий взгляд на эстетику эпикурейства. Действительно, что-то усталое и если не старческое или дряхлое, то, во всяком случае, что-то бессильное, как бы махнувшее рукой на реальное устроение жизни слышится в философии Эпикура. Однако старости, в отличие от молодости, действительно свойственно не стремиться, но уже иметь, не хлопотать о далеком, но обладать, владеть, пользоваться приобретенным. Отсюда-то и происходит этот удивительный эпикурейский имманентизм, который, кажется, уже ничего не оставляет неиспытанным, ничего не оставляет незнакомым, неизвестным. Эпикурейство так же утеряло способность удивляться, как и стоицизм. Но оно, кроме того, еще утеряло способность рассуждать. Это сделало его еще более неподатливым, чем-то как бы совсем отчаявшимся, около чего можно только зарыдать, как у преждевременного, но непреоборимого гроба. Имманентизм всегда старит физиономию философии. Это всегда вызывает морщины и раннее поседение. Имманентизм – это какая-то исчерпанность, сосчитанность всех возможных ресурсов, какая-то трезвость и здравость, идущая далеко не ко всякому возрасту и не ко всякому темпераменту.
Эпикурейцы учили об атомизме всего существующего и в то же время об атомизме души. Сущность этого учения заключается не в чем ином, как в предельно развитом имманентизме. Когда душа состоит из огненных атомов, только более тонких и гладких, чем атомы обычного огня, то это чудовищное воззрение возможно только там, где не только не отличают себя от всего внешнего, но, главное, там, где все это внешнее уже испытано изнутри, уже превращено в ощущение, где уже нет различия между человеком и воздухом или человеком и огнем. Эпикурейская эстетика – это чувствование себя воздухом, огнем, теплым дыханием. Превратиться в это теплое дыхание и забыть все остальное, все, все забыть, – вот что значит эпикурейски чувствовать красоту. Сладко не мыслить, не думать, не стремиться, не хлопотать; безмыслие и безволие – сладостно, сосредоточенно-упоительно; оно густо насыщает нас. И уже не знаешь, где тут тело и где душа; не знаешь, душа ли полна этой густой и насыщенной пустотой, или это наполнено тело сладким, но сосредоточенным упоением. Наслаждающийся – тих, углублен в себя, погружен в свое безмыслие. Он покоится в своей равномерной сосредоточенности; его серьезность – насыщена, его страсть – задумчива. Не трогайте его: он наслаждается... Не отвлекайте его от этих печальных, но как-то торжественных, усладительных, но почему-то невеселых умозрений. Веселость и скорбь, вожделение и самодовление скрыты в нем и претворены в одно ровное и скрытое горение. И только удивляешься, как это могло совместиться и слиться до такой окончательной неразрывности.
Пустота осязается в эпикурейском идеале красоты. Но имманентизм почти всегда пуст. Его полнота ненадежна, призрачна. Когда в бытии не оставлено ничего неощутимого, ничего несоизмеримого с личностью и субъектом, – вся надежда тогда на глубины личности и субъекта. Но это хорошо для последующих культур, воспитанных на опыте абсолютной личности. Впадая в имманентизм, они абсолютизируют свою личность так, что открываются необозримые просторы для самоуглубления, бесконечные глубины человеческой личности. Греки не знали этого опыта абсолютной личности. Абсолютизируя субъект в век эллинизма, они не могли найти, не могли ощущать здесь бесконечные возможности. Да иначе это было бы просто романтизмом. Нет, переводя все в субъект, эпикурейцы ощущали не бесконечность, не пустоту, не глубину, но плоскость, не интимность личностных соприкосновений, а только холодное любование на собственное самодовление. Сладко было жить в пустоте, погружаться в это море неосуществленных снов, в это загадочное море небытия, когда уже не знаешь, сон ли это, действительность ли это, – до того все и сонно, и призрачно, и туманно. Эпикурейское эстетическое сознание – это известное промежуточное состояние, когда человек почти уже проснулся, настолько проснулся, что уже ощущает себя лежащим и грезящим, но еще не настолько оправился ото сна, чтобы бодро встать и начать ходить. Он еще лежит, но уже грезит, уже понимает свою грезу, и только волшебная и сладкая сила сна не отпускает его покоящихся членов на полное бодрствование. Эпикурейство – это какой-то сонный иллюзионизм, дремотная молитва, некая приятная усыпленность, когда чувствуешь, что не можешь двигать руками и ногами и чувствуешь, что и не надо ими двигать, ни для кого и ни для чего не нужны такие движения.
Древнегреческое эпикурейство есть философия и эстетика пустоты. Но это – особенная пустота, подозрительная пустота. Отчего эпикурейский мудрец так спокоен? Откуда это самообладание, это бесстрашие, это удивительное бесстрашие перед смертью, даже, можно сказать, вызывающее бесстрашие, это эстетическое кокетство со смертью, какое-то гордое повертывание спиною и аристократическое презрение к этому вульгарному, уличному, бездарно-демократическому явлению? Тайна этой переполненной пустоты, вернее, этого переполнения пустотой, заключается в обнажении своего, безличного, вернее, до-личного и в то же время естественного, нормального, устроенного так на всю вечность существования. Ведь спокойствие не там, где высота и сила в абсолютных размерах, но там, где выявлено как раз то (пусть маленькое и незаметное), что и содержалось внутри, ни больше и ни меньше. Недорастая до абсолютно-личностного опыта, античный человек обладал другим опытом, – опытом взаиморастворения личности и природы, когда личность теряет свою абсолютную неповторимость, а природа – свою безжизненную механичность. И когда он осознавал себя на лоне этого растворения, он успокаивался. Так и Эпикур. Он дошел до ощущения назначенного ему пустотой природно-духовного безличия, погрузившись в него вплоть до телесности этого ощущения, и вот он – спокоен. Он так же, точно так же тих и безмолвен, как мистически самоупоенный неоплатоник на высоте его интеллигибельных состояний.
Вот почему эпикурейская пустота – звучит; вот почему она содержательна, глубока и неотличима от полноты. Вот почему она если не ясно говорит что-нибудь, то, во всяком случае, загадочно бормочет, как-то шумит тем говорящим, хотя и нерасчлененным шумом природы, который издает водопад или горная река с порогами. Но только это шумящая стихия души, а не рек, не тополей, не морского прибоя. Ведь душа же и есть этот воздух, этот теплый, вечно шумящий воздух, блаженно-расплывчатая стихия самоощущения.
Эпикурейская красота есть уход в пустыню, в далекую безвозвратную пустыню духа. И кажется, только отчаяние могло довести человека до такого решения. И действительно, не отчаяние ли это? Это эпикурейское "проживи в сокрытии" (lathe biosas, frg. 551 Us.), это – эпикурейский запрет "не заниматься общественными делами" (Diog. L. X 119), все это упование на хлеб и на воду, это щепетильное отгораживание себя от всякого беспокойства и озабоченности, не есть ли это результат полного разочарования в жизни, окончательной и бесповоротной неудачи в жизни, внутренней и принципиальной негодности, неспособности для жизни? Ведь эпикуреец разочарован? Эпикурейство, это – отчаяние? Ничего подобного! Эпикурейство – это самодовление, а не какое-то разочарование, это – наслаждение, а не отчаяние! Однако мы будем ближе к истине, если скажем, что тут произошло как раз соединение того, что обычно считается несоединимым. Тут слилось разочарование с самодовлением и отчаяние – с наслаждением. Впрочем, вдумавшись, мы замечаем, что это Соединение не так уже редко в жизни. Но только отчаяние с наслаждением мы привыкли видеть у бесшабашных людей, которые в наслаждение бросаются очертя голову, а к отчаянию приходят от реальной неудачи в жизни. Не то в эпикурействе. Тут наслаждение мудро, размеренно, уравновешено, дальновидно, а отчаяние не потому, что в жизни не повезло, а потому, что таково само бытие и таково его осмысление. Эпикурейская эстетика есть осязание пустоты, вслушивание в объективное безличие духа, но это музыкальная пустота, античная шумящая вечность, грезящее и богатое видениями, хотя и усыпленное безличие.
Эпикурейская красота бесполезна, бесплодна. Она привлекает своей бесплодностью: богатая, насыщенная бесплодность! Не только ведь плодовитое нужно для жизни, не только активность. Разве не хочется иной раз полной пассивности, совершенной незаинтересованности ни в чем, принципиальной бесплодности и ненужности? Больше того. Люди склонны к ничегонеделанию, к ротозейству, к праздности нисколько не меньше, чем к энергии, к действию, к труду. Почему одно естественнее и нормальнее другого? И то и другое – дело природы. Я по крайней мере очень люблю смотреть беспредметно в небо, зевать по сторонам, толкаться без дела в толпе и даже ловить мух. Не все ли равно, чем заниматься? А Эпикур допускает даже гораздо меньше. Он только допускает практическую бесполезность настроения, но продолжает быть очень требовательным к культуре этого настроения. И нужно с ним согласиться: приятно быть бесполезным, усладительно бесплодное существование; для эпикурейца слишком скучны дела и занятия, слишком бессодержательна всякая активность, политическая, общественная, личная, научная и художественная. Ему дорог только покой, только внутренний покой самоудовлетворения, счастливая пустота от всяких страстей и дел.
Эпикур придумал для этого и подходящее космологическое учение. "Случай" – вот интимное слово у эпикурейцев. И тут имеется в виду не простое голое отсутствие смысла и цели, не просто какой-то темный провал мысли, запутавшейся в своих собственных тенетах. "Случай" здесь – это вожделенная радость хаоса, беспринципно-анархическая стихийность, о цели которой не только ничего нельзя сказать, но то-то и усладительно, что ничего об этом сказать нельзя и даже нет желания говорить. "Случай" – это все та же смеющаяся беспринципность, все тот же внутренне-тревожный, но чувственно понятный и мягко-ласкающий анархизм бытия. Что-то вот есть там, за этой видимостью, и мутной тревогой начинает истаивать сердце при мысли о такой всеобщей бессмыслице бытия. А я вот никакой тревоги не имею! Я вот умру, а мне ничего! Вы будете хвататься за жизнь; вы, исповедующие смысл жизни, будете кричать, стонать, рыдать, лезть на стену. А я, исповедующий бессмыслицу бытия, буду спокоен и невозмутим, и ничья смерть, ни чужая, ни моя собственная, меня не потревожит. Смерть – это только немножко вульгарности; смерть – это только немножко скуки... И все! Эпикур, когда почувствовал приближение смерти, только принял теплую ванну и потребовал чистого вина. И – все! Два слова друзьям, чтобы оставались верными философами. И – все!
Эпикурейство звучит как некая укоризна. Кому? Чему? За что? Трудно сказать, кому и чему, но не трудно сказать, за что. За жизнь, за устроение жизни, за такую вот жизнь, какая суждена всем людям. Вы предлагаете мне науку, сулите радость искусства, обещаете политический и экономический рай на земле, приманиваете милостями богов? Нет, возьмите себе вашу науку и ваше искусство, а я уж как-нибудь обойдусь без этого. Возьмите себе и всю политическую жизнь с ее импозантными идеалами, да заодно и всех богов с их неизреченными милостями. А я уж как-нибудь так, без этой дорогой и тревожной, изнурительной роскоши. Все это – надежды, тревоги, ожидания, море страстей и чувств; все это – упование на будущее, на очень отдаленное будущее. Нет уж, надейтесь сами, а я обойдусь без вас. Умру один, и без вас, без богов и героев, без борьбы и надежды, без победы и поражения.
Сладко думать, что душа смертна. Представьте только себе, что душа бессмертна, да что она, чего доброго, освободившись от тела, возымеет полное знание о своей грешности, низости, безобразии, так что, не будучи в состоянии повернуть время назад, начнет сокрушаться и мучиться о своем безобразии, устраивая тем самым уже не временные, а вечные муки и себе и другим. Жуткая штука! Душа, да еще бессмертная, – жуткая штука! Вот почему Лукреций опроверг целых тридцать доказательств бессмертия души, и он мог бы с таким же успехом опровергнуть и еще триста доказательств. Нельзя не опровергать. Иначе – неминуемые вечные муки, и – все насмарку! Правда, оно и так все насмарку, но зато – уже воистину ни печали, ни воздыхания. Атомы рассыпались по сторонам, и – конец всей божественной комедии жизни! Только и надежда на то, что мы умерли взаправду, не так, как говорит религия, которая, в сущности, отрицает всякую смерть, а так, что действительно и духу нашего не останется. Религия предпочитает смерти плохую вечность (ад). Ну а мы лучше хорошо и всерьез умрем, чем останемся навеки в этой темной и паршивой вечности. Не всех ведь допустят к райскому блаженству.
Эпикурейство – бездомно, бродяжно. Неудивительно, что оно и мир придумало себе беспредельный, и даже устами Лукреция довольно ловко доказывало, что вселенная не имеет никакого центра. Это нужно понимать так, что эпикуреец не имеет нигде пристанища, что он покинут на самого себя, что все его радости – только в нем самом. Правда, мир сам по себе, даже при всем эпикурейском имманентизме, все еще слишком занимателен; и Лукреций неоднократно уподобляет сложение мира и вещей из атомов появлению сложной поэмы из отдельных звуков и слов. Эта – еще демокритовская – словесная трактовка бытия, эта риторическая скульптура атомной вселенной все еще слишком привлекательна, чтобы отвергать его начисто. Но эпикурейство не хочет и такого мира. Мир – только пустыня, и мудрец – только скиталец, не больше. Эпикурейская эстетика знает слабость бесцельности; это – красота намеренного беспорядка. Можно расчистить лес, вырубить низкорослые деревья и посыпать дорожки песком. Это будет красиво. Но можно оставить лес в его диком беспорядке и случайном существовании. И что же? Будет ли он хуже? Дело вкуса! Эпикурейцы предпочитают видеть красоту в принципиальной бесплодности и бесполезности бытия, в его абсолютной случайности и разбросанности. В этом тоже своя тайная анархическая радость бесцельной случайности. Ее-то и исповедует эпикуреец, отрицающий промысл богов и намеренность миропорядка. Тут-то и хочется спокойно и сладостно безмолвствовать, когда все кругом шумит и волнуется и не знает своего смысла. Сладко мудрецу смотреть на бушующее море жизни, когда он спокойно ощущает свою внутреннюю свободу и независимость.
Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого,
Не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны,
Но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко.
Сладко смотреть на войска на поле сраженья в жестокой
Битве, когда самому не грозит никакая опасность.
Но ничего нет отраднее, чем занимать безмятежно
Светлые выси, умом мудрецов укрепленные прочно:
Можешь оттуда взирать на людей ты и видеть повсюду,
Как они бродят и путь, заблуждался, жизненный ищут;
Как в дарованьях они состязаются, спорят о роде,
Ночи и дни напролет добиваясь трудом неустанным
Мощи великой достичь и владыками сделаться мира.
(Лукреций, II 1-13)
И вообще многому учит нас в эпикурействе Лукреций, хотя это уже не тот изначальный тонкий, чтобы не сказать утонченный, и ароматный эпикуреизм самого основоположника этой философии. Лукреций приподнимает завесу для целого ряда философских секретов эпикурейства, которые иначе приходится находить только путем очень обстоятельного и вдумчивого анализа. К числу таких, несомненно, секретов относится учение об отклонении атомов. Лукреций откровенно рассказал нам всю спиритуалистическую тайну этого учения; и из его изложения замечательно отчетливо видно, что заставило Эпикура ввести этот странный и непонятный пункт. Толкование мира по типу человеческого "я" или, конкретнее говоря, понимание атомного движения по типу процессов человеческой психики, – вот оно, простое и ясное, чему учит тут Лукреций; и только после этого изложения становится вполне ощутимой связь теории отклонения с общим эпикурейским имманентизмом.
Далее, Лукреций с очень большой легкостью, почти беззаботностью открывает нам тайну появления вещей и мира из атомов; и мы тут начинаем видеть всю беспомощность, но в то же время и всю жизненность такого материализма. Лукреций ставит вопрос: ведь и в самом деле, атомы – бесцветны, атомы не осязаемы, не обоняемы, атомы никак не ощущаемы и сами лишены ощущения; как же в таком случае появляется из них то, что имеет цвет, что звучит, пахнет, осязается и т.д. и т.д.? Этот роковой вопрос поставлен у Лукреция очень остро и очень обнаженно, так как философ с особенной определенностью и резкостью выставил на первый план абсолютную бескачественность атомов и их полную несхожесть с вещами и со всем миром. Читайте стихи II 730-1022. Редко где содержится такая четкость постановки вопроса. И вот открывается единственный подлинный аргумент среди всех разнообразных суждений Лукреция, единственная убедительная мысль, это аналогия с появлением художественного произведения из отдельных малозначащих элементов, звуков и слов. Почему порядок элементов и есть единственный принцип построения вещей? Вот почему (II 688-699):
Даже и в наших стихах постоянно, как можешь заметить,
Множество слов состоит из множества букв однородных;
Но и стихи, и слова, как ты непременно признаешь,
Разнятся между собой по своим составным элементам:
Не оттого, что из букв у них мало встречается общих,
Иль что и двух не найти, где бы всё было точно таким же,
Но что они вообще не все друг на друга похожи.
Так же и в прочем, хотя существует и множество общих
Первоначал у вещей, тем не менее очень различны
Могут они меж собой оставаться во всём своём целом;
Так что мы вправе сказать, что различный состав [constare] образует
Племя людское, хлеба наливные и рощи густые.
И еще раз (II 1013-1021):
Даже и в наших стихах ведь имеет большое значенье
Расположение букв и взаимное их сочетанье [ordine quaeque locata]
Теми же буквами мы означаем ведь небо и землю,
Солнце, потоки, моря, деревья, плоды и животных;
Если не полностью все, то все-таки большая часть их
Те же, и только один распорядок их дело меняет.
То же и в самых вещах: материи все измененья -
Встречи, движения, строй, положенье ее и фигуры
[Concursus, motus, ordo, positura, figurae] -
Необходимо влекут за собой и в вещах перемены.
Что это значит? Это значит, что эпикурейство здесь так же описательно, пассивно, незаинтересованно, как и везде. Конечно, простейшая истина, что из одних и тех же элементов путем разных их комбинаций получаются самые разнообразные, абсолютно несходные вещи. Правильно то, что, например, животный организм ничем не отличается, в смысле различных элементов, от растительного организма и от любого органического препарата, изготовленного в лаборатории. И тем не менее только сумасшедший может не отличать человека от коровы, корову от березы и березу от червяка. Как же поступает тут эпикурейство? Лукреций показывает, как оно поступает. Оно ограничивается вялым констатированием разного "распорядка" атомов в телах и организмах, и – больше ничего. Эта вялая, пассивная позиция по стилю очень подходит к этой философии, и мы без труда узнаем здесь мягкие и слабовольные формы эпикурейского уклада мыслей. Эпикурейство, можно сказать, и не думало отвергать чудо. Оно прекрасно видит это чудо, когда из мертвых атомов вдруг родится живое. Но оно отказалось объяснить это чудо; и при этом мы видим, что оно имело право отказаться от такого объяснения.
На Лукреции видны яснее многие отличия эпикурейства потому, что его эпоха была очень энергичная эпоха. Это – великолепный бурный Рим первой половины I века до н.э. Внешняя пассивность и внутренняя сосредоточенность эпикурейства, несомненно, составляла контраст с яркими, страстными, волевыми эпизодами истории, которыми заполнено это время. Потому многое здесь получило не только более грубый, но и более яркий и резкий характер. И стоит привести еще два примера, чтобы ощутить эту разницу римского понимания эпикурейства с пониманием старым, греческим.
В конце концов, неясно, как Эпикур относится к половой любви. С одной стороны, его жизненная эстетика, несомненно, включает в себя это наслаждение любви; и мы видели, что в одном месте об этом так и говорится. С другой стороны, чрезвычайная заботливость эпикурейства относительно всякого обременения и настороженность перед всякими жизненными осложнениями должна была вносить в этот вопрос очень существенные и глубокие коррективы. Теперь – читайте Лукреция. Любовным делам этот страстный древний итальянец посвятил не одну сотню стихов, и нельзя не указать на замечательное место, весь конец четвертой книги поэмы, начиная с 1030 стиха. Тут вы находите и ряд существенных рецептов и массу психологических и физиологических наблюдений. Самое главное – это, по Лукрецию, отделять влечение как таковое от всего психологического антуража любви, который так воспевается поэтами. Ведь самое главное для эпикурейского мудреца – это избегать тревоги. Поэтому Лукреций рекомендует всячески воздерживаться от влюбленности, от идеализации, от подарков и вообще от всех беспокойных и тревожных чувств любви. Но, храня природную потребность, он не рекомендует воздерживаться физиологически, и "влаги запас извергать накопившейся в тело любое" (1065). Эпикурейская эстетика жизни не допускает никакого романтизма, никакого парения чувств, никаких восторгов. Нужно сходиться с любой женщиной – по потребности, ибо все остальное слишком тревожно. В возбужденных стихах Лукреций описывает всю неудовлетворенность влюбленного, нескромность и ненасытность его дрожащих рук в отношении тела возлюбленной, эти страстные объятия и поцелуи, когда люди впиваются друг в друга губами, стремясь слиться в одно тело, и пр. Но это – слишком тревожно. Не надо этого. А если и хочет человек обзавестись семьей (эпикурейство, вообще говоря, это допускало), то и для этого нужно употреблять минимальные усилия любви. Во время соития женщина не должна делать похотливых движений бедрами или грудью, как это делают блудницы для возбуждения мужчин и избежания зачатия. Легче забеременеть можно женщине, если она будет опускать грудь и поднимать матку для восприятия от мужчины (1270-1277). Немало говорит Лукреций и о том, какая бывает семья и когда какое появляется потомство.
Этот конец четвертой книги "О природе вещей" наглядно показывает нам как центральную особенность эпикурейской эстетики вообще, так и отличие самого Лукреция. Эпикурейский опыт красоты есть избежание "пестроты" и углубление в тонкую и ровную, как бы пустую стихию самонаслаждения. Поэтому даже половое удовлетворение является тут слишком пестрым и тревожным, слишком мелочным. Но в особенности великолепен тут сам Лукреций. На нем мы видим, как обнажалась в Риме вся недостаточность и наивность эпикурейства. Достаточно прочитать указанные места у Лукреция, чтобы понять, насколько же ближе была римлянам вся эта бесконечная и тревожная стихия любви, чем уединение, почти аскетическое поведение древнегреческого эпикурейца.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



