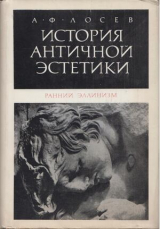
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 70 (всего у книги 78 страниц)
Причина преобладания страстей, то есть противоречия и злосчастной жизни – в недостаточном следовании живущему в самих нас демону, который сроден тому, кто пронизывает весь космос и устрояет его (то есть Зевсу) и имеет одну с ним природу при склонности к худшему и звериному. Счастье же и согласие – в том, чтобы ни в чем не руководствоваться неразумной, злосчастной и безбожной частью души (frg. 187) и созерцать истину всего (frg. 186).
г) Далее, богатство, здоровье и подобное, согласно Посидонию, – не блага, потому что не дают ни величия души, ни подлинности, ни достоверности существования (frg. 170).
Впрочем, в других фрагментах Посидоний как будто говорит, что высшими человеческими благами являются богатство и здоровье (frg. 171-172). Посидоний не считал также одну голую добродетель достаточным основанием для эвдемонии; для этого нужны также здоровье, достаток и сила (frg. 173). Вместе с тем он говорил, что "один день ученых людей более убедителен, чем длиннейший век неопытного" (frg. 179).
Таким образом, преодоление этического рационализма стоической школы – тема почти всего, что нам известно через Галена, об этике Посидония. Посидоний придерживается фактов повседневной жизни (frg. 156), наблюдает детей, животных, зачастую цитирует Гомера и других поэтов, из которых предпочитает, по-видимому, Еврипида (frg. 164). Он много говорит о постепенном воспитании человека, его закалке против смущающего действия страстей, о том, что с течением времени страсти "успокаиваются" и над порывами душевных сил берет верх разум (frg. 165).
д) Итак, мы видим, что тот же иерархизм, или, если угодно, эволюционизм, что и в демонологии и в мантике, Посидоний проводил и в своей психологии. Вместо того чтобы по примеру Платона и стоиков развенчивать человеческие влечения и трактовать их лишь как ошибку и падение ума, он вместе с Аристотелем и перипатетиками считает их вполне естественным достоянием человеческой и животной души; и если он их подчиняет уму, то это делается у него лишь в порядке его общей иерархической теории. Интеллект также трактуется у него как естественное достояние человеческой души, так что весь мир, и органический и неорганический, и одушевленный, и разумный, и человеческий, и демонический, и божественный, являясь разными степенями уплотнения огня, оказывается в то же время и разными степенями интеллектуальности и сознания. И, в частности, органическая природа оказывается здесь объясненной не из понятий, как у Платона, и не из метафизической субстанции, как у стоиков, но из того, что можно назвать силами, ибо огненная сперма в организме и есть его жизненная сила, благодаря которой он существует. Посидоний является поэтому активным сторонником, а может быть, и прямо создателем виталистической теории в биологии и психологии. В этике Посидоний также расстается с интеллектуалистеческим ригоризмом стоиков, и в его понятии добродетели находят себе место, кроме интеллекта, также и иррациональные аффекты, создающие в соединении с интеллектом все высшие формы знания и вдохновения.
11. Дальнейшее углубление стоически-платонической этики Посидония
Выше мы уже формулировали общий очерк этой эстетики. Но те материалы, которые мы рассмотрели после этого очерка, повелительно заставляют нас во многом углубить общие эстетические контуры философии Посидония, о чем мы и скажем сейчас несколько слов.
Во-первых, огненно-смысловая основа всего бытия и всей жизни у Посидония, являющая в столь разительной форме своеобразие данной эстетики, оказывается, получает у Посидония особого рода структуру, в которой Посидоний пытается слить в одно нераздельное целое все раздельные точки бытия с подчеркнуто иррациональным становлением этого бытия. Прерывность и непрерывность довольно глубоко умели совмещать при помощи своей диалектики и Платон и Аристотель. Но у них не было такого субъективно-имманентного подхода к бытию, чтобы это бытие можно было, при всей его идеальности, вдыхать в свой организм наподобие воздуха. Раз душа есть теплое дыхание, то и все живое, вся природа есть только теплое дыхание. А это значит, что и красота тоже есть теплое дыхание. Но теперь, оказывается, мало и этого. Эта теплота, расходящаяся по всему миру из первоогня, есть к тому же обязательно и нечто иррациональное, которое Посидоний никогда не забывает указывать наряду со всей рациональной раздельностью космоса. Об этом слиянии прерывного и непрерывного у Посидония мы еще скажем ниже.
Но уже сейчас необходимо выставить один фундаментальный тезис, который до Посидония, насколько можно судить, никем в античности не переживался с такой большой интенсивностью. Этот тезис гласит: красота есть такая единораздельная структура, которая вся пронизана иррациональным становлением, которая вся пульсирует внутри себя непрерывными потоками и которая даже и вокруг себя овеяна этими тающими радостями вечно живых и подвижных и вечно нерасчленимых становлений.
Такого рода красоту, конечно, проповедовал уже Гераклит, но он не имел такого понятийного аппарата, чтобы объяснить эту красоту при помощи мысленного усилия. Такого рода прерывно-непрерывную красоту, конечно, знали Платон и Аристотель. Но они обладали слишком сильным аппаратом мысли, и потому такая красота также и у них ускользала от точных формул. Посидоний, стоящий в самом начале того историко-эстетического процесса, который в дальнейшем привел к неоплатонизму, тоже не мог выбраться из этой антитезы древней натурфилософии и платоно-аристотелевской эйдологии. Но он поднялся на ту ступень эстетического сознания, которая до него не была доступна ни для кого. Это – ступень рационально-иррациональной красоты, разлитой по всему миру и воспринимаемой нами через дыхание. Это субъективно-имманентное тождество рационального и иррационального в эстетике найдет для себя адекватный и систематический понятийный аппарат только в самом неоплатонизме.
Во-вторых, это рационально-иррациональное эстетическое тождество Посидоний пытается провести решительно во всех областях человеческой жизни и мысли. И прежде всего оно проявляется у него в виде учения о мировой симпатии и в вытекающем отсюда учении о мантике, о ведовстве. Раз в космосе все сплошно и непрерывно, то ничто не мешает по одной точке мирового процесса узнать и о других его точках.
Это, далее, выражается у Посидония и при помощи понятия о человеческих страстях. Никто до него не понимал человеческой страсти так иррационально, как это выходило у него. А это значит, что и эстетическое чувство у него оказывалось прежде всего одной из разновидностей иррационального вообще.
Такая иррациональная эстетика охватывала у него и вообще все науки, так что и они, при всей своей раздельности, тоже переходили одна в другую сплошно и непрерывно.
Наконец, этот монизм доходил у Посидония до того, что даже добро и зло, а следовательно, прекрасное и безобразное, тоже исходили у него из одного и того же источника. Зло оказывалось у него только лишь недостаточно выраженным добром. Следовательно, и все безобразное, в конце концов, тоже было у него прекрасным, но только выраженным недостаточно.
Об этом небывалом монизме Посидония мы еще будем говорить ниже.
12. Философия истории
Особенно интересна у Посидония его философия истории. В связи с синтетическим характером своей философии Посидоний пытается глубоко объединить две философско-исторические концепции, имевшие хождение у греков в предыдущее время. Одна концепция, восходившая еще к Гесиоду (Орр. 109-201), выражала собою идеологию побежденных сословий и классов, учила о золотом веке первобытного человечества и об его постепенном вырождении. Другая концепция, выражавшая собою настроения прогрессирующих элементов общества, была формулирована Демокритом (В 5, 1 = Маков. 305; В 5, 3 = Маков. 308), Эпикуром (Diog. Oenoand. frg. 10 Chilt.) и Лукрецием (V 925-1027; 1241-1457) и говорила о прогрессе человечества от полуживотного состояния через научные, технические и художественные открытия и изобретения до высших форм культуры. Посидоний удивительным образом, хотя в то же время и очень ясно и понятно, объединяет обе эти концепции в том смысле, что вначале он признает полуживотное состояние человека, но в то же время трактует это состояние как невинное и наиболее близкое к божественному огню, то есть как золотой век, который к тому же является и царством философов. Люди здесь живут в пещерах, в расщелинах земли и в дуплах деревьев, но они не знают преступлений и потому не нуждаются ни в каких законах. В дальнейшем начинается развитие наук, ремесел и искусств, – и тут Посидоний повторяет то, что нам известно из демокрито-эпикурейской традиции, – но одновременно с этим происходит и падение нравов, так что роль философов делается существенно иной, поскольку они теперь должны воспитывать людей при помощи законов, стараясь пробудить в каждом человеке потемневшего и огрубевшего в нем демона.
Объединительной тенденции Посидония также нужно приписать еще и то, что он, стоя на точке зрения Гиппократа относительно зависимости человека в его истории от климата и почвы и, кроме того, присоединяя к этому методу Полибия, трактовавшего человеческий индивидуум как определяемый исторической средой, отнюдь не доводит своей философии истории до полного детерминизма, но он одновременно с этим воскрешает здесь другое старинное учение, именно о "следовании своему собственному демону", учение, которое мы находим у Платона и даже еще у Гераклита (22 В 119).
Эта философия истории только с внешней стороны имеет такой наивный и безобидный вид. Античные писатели, говорящие о социально-политических теориях, вообще не любят распространяться о перспективах исторического развития, и этого не нужно требовать также и от Посидония. Однако достаточно уже беглого взгляда на философию истории Посидония, чтобы сразу понять всю ее безвыходность и бесперспективность. Конечно, всякому захочется спросить у Посидония, чем же кончится, по его мнению, этот непрерывный научно-технический прогресс и моральный регресс. Но едва ли Посидоний занимался таким вопросом, а если и занимался, то его космология еще до всякой философии истории давала на это свой безрадостный и безгорестный ответ о периодических мировых пожарах, в которых погибают и все возможные миры и все возможные в них живые существа со всей их историей. Такой ответ вполне достоин этого философа, если твердо усвоить его исходные позиции.
В одном отношении, впрочем, Посидоний является теоретиком и несомненным защитником исторического прогресса, это – в области наук, ремесел и искусств. Сенека в своих письмах (особенно в 90-м), равным образом он же в трактате "Quaestiones naturales" (особенно VII 24, где высказывается мысль о наличии множества неисследованных вопросов и о том удивлении, которое будут испытывать наши потомки в отношении нашей теперешней неосведомленности){537}, наконец, также и Цицерон в Тускуланах (V 7-11, 162), – эти авторы используют как раз Посидония, – заставляют нас предполагать, что Посидоний всерьез учил о постоянном научно-техническом прогрессе; и здесь он, несомненно, весьма близок к указанной выше демокритовской традиции. Но, конечно, эту теорию прогресса надо брать в связи с его общей философией истории, и тогда получается здесь не демокритовская, но и не гесиодовская традиция, а своя собственная, коренящаяся еще у Платона и находящая себе завершение у Сенеки.
В заключение нашего анализа философии истории у Посидония, пожалуй, имеет смысл сказать, как по этому поводу рассуждает Ф.Ф.Зелинский, тем более что эти рассуждения как раз подчеркивают в философии истории у Посидония ее эстетический момент. Ф.Ф.Зелинский обращает наше внимание на то, что исторический трактат Посидония является продолжением "Истории" Полибия. Полибий кончил свой трактат картиной покорения римлянами Карфагена и Греции, а Посидоний довел эту историю до диктатуры Суллы в 82 г. до н.э., чему предшествовало взятие им Рима у марианцев в 83 г. до н.э. и пожар Капитолия. "Пожар Капитолия! Надо вчувствоваться в римскую душу, чтобы оценить значение этого события, в котором тогда видели первый удар, направленный против наследника древней Трои, предвестника грядущей его гибели. Пожар Карфагена и Коринфа там, ответный пожар Капитолия здесь – таковы были обе багровые зари, освещавшие начало и конец "истории" Посидония"{538}.
Ф.Ф.Зелинский не утверждает того, что историческое повествование Полибия является демонстрацией какой-то исключительно только мировой трагедии. Все же, однако, свободную индивидуальность, руководимую фортуной, на что опирается Полибий, Посидоний наделил идеей рока, в результате этого получилось то, что Ф.Ф.Зелинский совершенно правильно формулирует так: "История под пером Посидония стала динамической философией умирающего эллинизма"{539}.
Таков эстетический аспект философии истории у Посидония.
13. Общефилософский эстетический метод
Необходимо отметить также и общую философско-эстетическую идею Посидония, с которой мы частично уже встречались, но которую здесь необходимо формулировать в специальном виде. Это есть то, что можно было бы назвать эволюционно-иерархическим монизмом или непрерывным универсализмом. Очень удачно используя гераклито-стоическую теорию всеобщей текучести, Посидоний путем внедрения в нее платоновской космической структуры делает ее еще более яркой и эффективной, поскольку эта непрерывная мировая текучесть продолжает у него определять собою весь мир, несмотря на четко ограниченные друг от друга области мира. У Посидония нет непроходимой пропасти между человеком и божеством, между свободной волей и судьбой, между человеком и животным, между органическим и неорганическим миром, между душой и телом, между самоопределением человека и предопределением его географически-исторической средой, между мужчиной и женщиной, между греками и варварами, между свободными и рабами, между космополитизмом и национализмом, между философом и нефилософом, между мышлением и ощущением, между спекулятивной теорией и научно-эмпирическим позитивизмом, между философско-аллегорической религией и наивным суеверием.
Достаточно прочитать у Немесия (De nat. hom, 11-13), рассуждающего здесь по Посидонию, как совмещается в одном и том же существе чувствительность и нечувствительность, а в человеке – мышление и ощущение, и как эти составные элементы незаметно переходят один в другой, как равно и в случае перехода от хаотических звуков к артикулированной речи человека, чтобы убедиться в этой прерывной непрерывности у Посидония. Максим Тирский (8, 8, р. 96) свидетельствует о непрерывности перехода от человеческого к божественному через демонический мир; а видимые и невидимые боги, согласно тому же источнику (100, 11; 11, 12, р. 145), тоже переходят друг в друга непрерывно, оставаясь индивидуально различными. Дион Хризостом (XII 27 слл. Bude), подражающий философии Посидония, дает яркую картину огромной пестроты и разнообразия, даже хаотичности, царящей в природе и в обществе, и притом с глубоким и даже художественным сознанием буйного разума, творящего всю эту космическую беспорядочность. Всем управляет мудрость, несмотря на постоянные катастрофы в мире (Euseb. Praep. evang. VIII 14, 43 слл. Dind.). Божественная пневма проникает все живое вплоть до его костей (Eustath. II. р. 910, 40 Stallt).), а природа снабжает все живое бессознательным, но весьма действенным инстинктом самосохранения (Sen. Epist. 121, 5-24 Hense). Под влиянием Посидония Диодор Сицилийский (11, II 51 Vogel-Fischer) тоже ставил своей задачей обозреть множество стран и эпох как в зависимости от природы, так и в зависимости от единого принципа, главенствующего в истории. В сочинениях известного врача II в. н.э. Галена можно найти немало текстов (см. фрагменты Посидония), написанных также под влиянием Посидония, об иррациональности человеческих аффектов (против приравнения их к суждениям, как то делали древние стоики), о борьбе этих аффектов между собою, а в соотношениях с умственной способностью и об эффективной борьбе одного человека с другим. Всю эту хаотичность жизни Посидоний неустанно трактовал как проявление единого абсолютно целостного мирового разума (Cic. De nat. deor. II 45, 115; Sext. Emp. Adv. math. IX 119 слл.) и возводил к небу, в котором, по его мнению, царят порядок, истина, разум и постоянство (Cic. De nat. deor. II 21, 56), так что в мире царит только одна красота (там же, 22, 58).
Такая система всеобщей прерывной непрерывности, хотя и залегала еще в досократике, но там она не была выявлена во всех подробностях; и, кроме того, дуалистические элементы Платона и Аристотеля сделали эту непрерывность еще более абстрактной. Только у Посидония мы встречаем полное и бесстрашное проведение принципа мировой непрерывности, ибо она у него проводится совместно с теорией прерывных областей и явлений в космосе и проникает всех их насквозь, несмотря ни на какую их прерывность. Эта непрерывная, хотя в то же время и ступенчатая универсальность посидониева космоса тем самым резко отличается от всех встречаемых нами до Посидония античных типов универсализма.
Это не есть ни универсализм внутренне разъединенных и взаимонепроницаемых атомов у Демокрита, ни энциклопедическая полиматия Демокрита и Аристотеля. Все индивидуальные атомы внутренне проникнуты тут единой космической силой и переливаются один в другой без остатка, а все отдельные науки призваны здесь демонстрировать все ту же единую мировую и непрерывную универсальность. Сама философия является для него не только живым организмом, но и цельным живым существом, где мясо и кровь соответствуют физике, кости и сухожилия – логике и душа – этике (Sext. Emp. Adv. math. VII 19; почти то же самое, но без упоминания имени Посидония Diog. L. VII 40; Sen. Epist. 88, 17-18 = frg. 88. 91). Посидоний тут, несомненно, синтетичнее Аристотеля. Он не только философ, мистик, астроном, географ, этнограф, биолог, психолог и историк, но он давал также и такого рода рецепты, как, например, по борьбе с вредителями растений (Strab. VII 5, 8 = frg. 235). Между прочим, эту пронизывающую сверху донизу космическую непрерывность, вплоть до мельчайших частиц материи вместе с прерывными областями, хорошо характеризует Рейнгард{540}. Понимая философию как учение "о причинах божественных и человеческих дел" (Sen. Epist. 89, 5), Посидоний нисколько не боялся разногласия философов и считал, что иначе нужно было бы отказаться не только от философии, но и от самой жизни (Diog. L. VII 129 = frg l. 39), поскольку философия есть не только теория, но и жизненное дело человека (Sen. Epist. 95, 65 = frg. 176). У Цицерона (Tusc. V. 2, 5) по этому поводу мы читаем целые гимны, под влиянием Посидония, по адресу философии. Разнообразие мнений только отражало для него бесконечное "свойство самого бытия, и под влиянием Посидония Сенека в том же самом 90-м письме после рассуждения о пестроте развития человека в истории восхваляет единство и глубину философии, единственно только и способной понять причины божественных и человеческих деяний. Подлинными философами являются не те, которые путаются в мелочах жизни (Cic. Tusc. II 4, 11-12), но те, которые созерцают вечное движение неба и познают вечные законы жизни, несмотря на ее пестроту (там же, V 24, 67-70). Промелькивают даже мотивы древнего стоического учения о мудреце (Diog. L. VII 124 = frg. 40; Cic. Tusc. I 30, 70).
Более последовательный монизм в эллинистически-римской эстетике трудно себе и представить.
14. Терминологические наблюдения
Для того чтобы философско-эстетическая картина, почерпаемая нами у Посидония, стала окончательно ясной также и в филологическом отношении, нужно было бы дать подробный анализ и отдельных терминов, которыми пользуется Посидоний. Изучение этой терминологии Посидония вызывает у нас, однако, некоторый оттенок разочарования, поскольку отдельные термины не оказываются у него достаточно разработанными и определенными. Может быть, только терминология космоса представлена у него в более или менее ярком виде, что и понятно ввиду общестоического пристрастия к рассуждениям о природе как о всеобщей художнице. Некоторый интерес представляет собою у Посидония узкоэстетическая область, где мы находим не только попытки определения искусства и художественного творчества, но даже и целую классификацию искусств. Последняя, впрочем, как мы увидим ниже, трактуется Сенекой до крайности моралистично, а для этой посидониевой классификации искусств Сенека является единственным источником. Кроме того, в своем кратком обзоре терминологии Посидония мы будем базироваться только на фрагментах Эдельштейна и Кидда, потому что привлечение многочисленных рассуждений у разных греко-римских авторов, которые не фиксируют имени Посидония, было бы в данном случае предприятием довольно рискованным. Может быть, этим и объясняется меньший интерес этой терминологии Посидония в сравнении с его общей философско-эстетической картиной.
Начнем обзор терминологии Посидония с более общих терминов и постепенно будем переходить к терминологии более узкой, а) Пересмотрим сначала такие термины, как noys ("ум"), logos (трудно-переводимый термин, по преимуществу "разум"), idea ("идея"), eidos ("идея", "форма", "вид", "эйдос").
Космос упорядочен нусом и промыслом. Нус проникает во все части космоса, подобно тому как душа достигает всех частей тела, причем одних больше, других меньше, и в одних – преобразуясь в их имманентное состояние, как, например, в костях и мышцах, а в других существуя именно как нус, как, например, в ведущей части души (frg. 21). Из этих фрагментов видно, что понятие нуса Посидоний, собственно говоря, нигде не определяет. Зато ярко подчеркивается пронизанность всех вещей этим нусом, его иерархийное строение, а также его всеобщая упорядочивающая сила.
Что касается термина "логос", то в двух текстах логос очень резко противопоставляется материи как оформляющее и осмысляющее активное начало – началу пассивному. Божественный логос есть действующее начало всего, в противоположность материи (frg. 5). В толковании на "Тимея" Платона Посидоний говорит, что как свет воспринимается световидным зрением, а звук – воздуховидным слухом, так же и вселенская природа воспринимается сродным ей логосом (frg. 85).
Много фрагментов у Посидония имеется с этическим, умственным, педагогическим и вообще субъективно-человеческим значением. Разумным существам естественно "правильно жить в соответствии с логосом" (frg. 185). У малых детей нет логоса (frg. 169, 5). Следует воспитывать аффективную часть души с тем, чтобы она была более "соразмерна" поведениям и установлениям логоса (frg. 31, 13), когда логос становится более властным (frg. 165, 120; frg. 169, 25). Логос борется против аффектов и берет верх над ними (frg. 165, 139; frg. 165, 164). Сам по себе логос не может стать неумеренным, не может выйти из своей сущности и размеренности (frg. 34, 15). "Правильный логос" является критерием, как сообщает Посидоний о "древних стоиках" (frg. 42). Иррациональные части души с необходимостью приходят и к иррациональным добродетелям, у разумной же части души и добродетель разумная, а именно – наука (epistёmё) о природе сущего (frg. 31).
Несколько раз термин "логос" употребляется во фрагментах Посидония не в специально-философском смысле. Когда Посидоний говорит, что логос философии тройственный, а именно – он является физикой, этикой и логикой (frg. 87), то "логос философии" нужно понимать здесь просто как "часть философии (как ее "отдел", "раздел", "вид", "разновидность"), или как содержание" философии. Равным образом, когда в своем рассуждении о тяжелых и влажных элементах, в отличие от легких и сухих, эти последние Посидоний считает активными, а первые пассивными, то он говорит, что здесь "тяжелое и влажное имеет смысл (logon) материи" (frg. 93 а, 25). В последнем тексте "логос" едва ли имеет какое-либо другое значение как "смысл".
Такое же значение термина встречается не раз (frg. 93 а "сводка содержания" или "учения", frg. 182 "древнее учение"). Наконец, какое отношение логоса и нуса, во фрагментах нет отчетливого суждения. Термин "идея" однажды встречается в чисто платоновском смысле: душа есть идея того, что повсюду разрозненно (frg. 141 а). По Платону, действительно и идея и душа есть то, благодаря чему разрозненное и дискретное превращается в единую и цельную сущность. Но у Посидония не отсутствует и исконное греческое понимание этого термина как указующего на физический предмет, достаточно отчетливо видимый глазу: статуя Брута и сам Брут обладают известной "идеей", то есть образом или наглядно данным видом (frg. 256).
Термин "эйдос" Посидоний употреблял, по-видимому, так же разнообразно, как и Платон. Здесь имеется в виду и чувственное значение эйдоса, когда эйдос трактуется в виде "объемлющего" для "объемлемого" (frg. 93 а). Здесь эйдос является просто той границей предмета, которая делает его оформленным и способным занимать то или другое место. Такого рода эйдос иной раз обладает активно оформляющей силой, как, например, более легкие элементы оформляют собою более тяжелые элементы (frg. 93 а). Этому чувственному и внешнему значению эйдоса противостоит у Посидония внутреннее значение, когда три части души он называет эйдосами души (frg. 160). Как и у Платона, эйдос понимается у Посидония иной раз во внутренне-внешнем смысле, когда, например, говорится о том, что эйдос человека меняется от страха (frg. 154). Наконец, у Посидония не отсутствует и формально-логическое значение эйдоса, когда он, как видовое понятие, противопоставляется родовому понятию (frg. 196).
Таким образом, термин "эйдос" во фрагментах Посидония нигде не употребляется в виде указания на идеальную субстанцию в смысле Платона.
б) Гораздо более богато во фрагментах Посидония представлены термины "космос", "небо", "природа" и "огонь".
Космос у Посидония не только един (frg. 4.8), имеет границу (frg. 8), сферичен (frg. 8; 49, 7; 117), не только возникает и уничтожается (frg. 13) (так что "пустота есть разрушенность мира", frg. 84 97), но и "весь космос и небо есть сущность (oysia) бога" (frg. 20). Здесь мы привели бы один текст из Аэция, который относится вообще к стоикам и не содержит упоминания имени Посидония, почему он и не попал в собрание фрагментов Эдельштейна и Кидда. Та мысль, которая развивается здесь о космосе и его красоте, весьма напоминает собою стоические дедукции позднего времени и потому с большой вероятностью может быть отнесена к Посидонию. Этот текст гласит (Aet. 1 6, 2-3; Doxogr. Cr. Diels3): "[стоики] имели понятие об этом, прежде всего делая заключение от красоты внешней выраженности (ton emphainomenon). Ведь ничто из прекрасных предметов не возникает понапрасну и случайно, но – в результате некого демиургического искусства. Поэтому космос и прекрасен. Это ясно из фигуры, окрашенности, величины и из разнообразия звезд в космосе. Ведь космос шаровиден, что первенствует среди всех фигур. Потому что только эта [фигура] одинаково [направлена] в своих собственных частях: будучи округлой, она и все части свои имеет тоже округлыми". Дальнейшие приводимые у нас тексты уточняют это учение о шаровидном космосе как об определенной системе, возникающей в результате творчества первоогня и являющего собою наиболее совершенное произведение искусства, которое является самим богом и всей природой и материально-чувственной данностью.
Космос есть "система", состоящая из неба, земли и находящихся в них "природ", либо из богов, людей и того, что существует ради них (frg. 14). Космос устрояется в соответствии с умом и промыслом (frg. 21). Космос – разумное (logison), одушевленное и "умное" (noeron) "мыслительное", "мыслящее" "живое" существо. Живое существо есть одушевленная чувственная сущность. Живое существо лучше неживого; но нет ничего лучше космоса; следовательно, космос – живое существо. То, что он одушевленный, явствует из того, что наша душа является его "отрывком" (frg. 99 а). Интуицией в мантическом искусстве руководит некая чувствующая божественная сила, разлитая во всем космосе (frg. 106). Демон человека сроден демону мира (frg. 202). Движение солнца соответственно обращению космоса (frg. 208). Не отсутствует у Посидония и чисто украшательное значение термина cosmeo ("украшаю"), поскольку у него говорится об "украшении" (stromnais) письменами, статуями и серебром (frg. 253, 52; ср. frg. 240 а, 28).
"Небо" – это прежде всего ведущая часть космоса (frg. 23). Дело "астрологии", в отличие от физики, показывать "порядок небесных предметов, поистине обнаруживая, что небо есть космос. Дело же физики – сущность неба (frg. 18,8). Небесные тела удерживаются испарениями мирового океана (frg. 214).
"Огонь". Посидоний этимологически возводил слово "зрение" к слову "касание", "соединение", считая, что все то из "подлежащего", что производит свет и озаряет, подобно огню, есть касание (frg. 193). Огонь трактуется у Посидония прежде всего как элемент (frg. 93). Посидоний заимствует то аристотелевское воззрение, что вышележащее охватывает нижележащее, и таким образом огонь охватывает воздух (frg. 93 а). Солнце является чистым, несмешанным огнем (frg. 17). Луна смешана из огня и воздуха (frg. 122). Солнце – чистый огонь высшей силы, который поэтому сразу же разрушает и уничтожает пары, поднимающиеся от земли и от моря. Огонь же луны менее чистый и более слабый и бессильный, и поэтому он неспособен поглотить все восходящие пары, так что луна лишь приводит влагу своим слабым огнем в некое движение, не уменьшая количество влаги. Поэтому от солнца вода в море как бы уравнивается, будучи прижигаема огнем, а от луны она вздымается, расширяется, и этим Посидоний объясняет происхождение приливов от луны, не от солнца (frg. 219). Галактика есть некий огненный состав (frg. 129). Молнии являются воспламенениями вследствие столкновения и трения потоков воздуха (rfg. 132). В собственном смысле слова светилами называются солнце и луна; звезда же отличается от светила: всякая звезда необходимо называется и светилом, но не наоборот (frg. 127). Посидоний называл бога умным и огневидным духом, не имеющим формы, однако изменяющимся, во что хочет, и уподобляющимся всему (frg. 101). Посидоний называет светилом божественное тело, состоящее из эфира, светлое и огненное, никогда не останавливающееся, но всегда вращающееся по кругу (frg. 127). Из всех этих фрагментов делается ясным, что огонь как элемент понимается Посидонием не вполне вещественно. Он тоньше всякого другого элемента. Из него состоит небо, и он-то является в собственном смысле богом, он даже "умный", или "умопостигаемый", вернее же "мыслящий", или "мыслительный" (noeron), и он приводит все в движение, хотя Посидоний не перестает его именовать "телом". Тут мы имеем одну из самых точных формул эстетики стоического платонизма: тончайший огонь, или эфир, разумное существо, чувственный космос и божество – одно и то же.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



