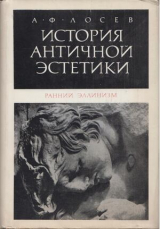
Текст книги "Ранний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 78 страниц)
Всегда "подобает" "уравновешенность и спокойствие" (aequalitas, I 31, 110).
В чем же особенно выражается это "подобающее"? Для Цицерона есть три несомненных вещи, в которых зримо просвечивает "подобающее", – "красота, порядок и приличествующий обстоятельствам убор" (I 35, 126). И здесь образцом для человека является природа, которая "искусно и разумно" устроила наше тело, расположив на виду все, что есть в нашем облике "прекрасного и достойного" (там же).
"Расположение" и "форма частей тела" могут создать "гармонию", только будучи одухотворенными". "Лишенные духа", они лишаются и гармонии (Tusc. disp. I 18, 41). Вообще "духу" Цицерон придает огромное значение. "Мощь духа" и "необыкновенное его величие" – "самое прекрасное" (pulcherr imae res, там же, II 26, 64).
Так эстетические требования Цицерона, предъявляемые им к ораторской речи и к художественному стилю поэзии, оказываются результатом уроков природы, великой творящей силы и наставницы жизни.
Категории "меры" и "подобающего" основаны на преобладании в душе разума над "стремлением" (греческое hormё, переданное по-латыни как appetitus). "Разум, – пишет Цицерон, – господствует, стремление – подчиняется" (De offic. I 28, 97). Если стремления заходят далеко, "подчиняясь страсти или страху", они "переходят границу и меру" (I 29, 102). Стоит только Цицерону заговорить о разуме и подавлении страстей, как он уже готов воздать хвалу человеку и его уму, который "всегда что-то исследует или что-то творит, подчиняясь радости видеть и слышать, превосходя животный мир именно нравственной красотой" (decorum I 30, 105).
Однако ведущая роль разума не исключает "ораторского пафоса" (contentio), особенно в публичных речах (I 37), хотя все-таки следует избегать "излишне сильных движений души, не подчиняющихся разуму" (I 38). Гнев тоже мешает оратору, не позволяя ему поступать "правильно и обдуманно" (там же).
Даже пафос у Цицерона должен сочетаться с "величием" и "чувством меры", так как речь оратора становится "умной и мудрой" (II 14, 48). "Пафос надлежит сдерживать, а инстинкты подчинять разуму" (II 5, 17). Мудрость же (sapientia), которую Цицерон приравнивает к греческой Софии и понимает возвышенно и божественно, – есть первая из всех добродетелей, и житейское благоразумие (prudentia) не может с ней сравниться (I 43, 153).
О чем бы ни рассуждал Цицерон, он не преминет сказать об "упорядоченности" (ordo rerum I 40), "сохранении упорядоченности" (ordinis conservatio), "уместности" (collocatio loco suo), "удобном случае" (occasio), что опять-таки приводит Цицерона к понятию "чувства меры" (modestia), для понимания которого он пользуется определением, заимствованным у стоиков. Оказывается, "чувство меры" есть знание уместности всех наших "действий и слов" (scientia rerum earum, quae agentur aut dicentur loco suo collocondarum).
Итак, Цицерон вновь возвращается к "соблюдению меры" (moderatio), но уже ощущаемой не только разумом, но и чувством. И здесь и в других рассуждениях Цицерон апеллирует к стоикам, выдвигавшим как высшее благо жизнь "согласно с природой" (III 3, 13), вполне приравнивая природу к добродетели. Правда, эта нравственность доступна лишь "мудрецам", но стоики, на которых постоянно ссылается Цицерон, являются такими именно мудрецами.
Как видим, Цицерон следует здесь жизненным принципам стоической мудрости{407}, полагая ее тем образцом, которому должно следовать искусство, причем искусство высокое, свободное, исполненное "мудрости", "пользы", "достоинства", "приличия", а не рабские низменные ремесленные искусства (I 42), осуждаемые Цицероном совсем в духе аристотелевской "Политики".
Цицерон, таким образом, твердо следует классическим принципам ораторской речи, усвоенным от великих греческих наставников и выдвигаемым в дальнейшем на первый план всей эллинистически-римской риторикой{408}.
6. "Мысленный образ"
Цицерон, выражая главным образом принципы классической греческой эстетики, был близок тем самым к стоическому платонизму, что особенно заметно в том случае, когда он утверждает некий "мысленный образ" (cogitata species), созерцаемый художником в глубине собственного духа и воплощаемый в его произведениях.
Цицерон пишет:
"Я утверждаю, что и ни в каком другом роде нет ничего столь прекрасного, что не уступало бы той высшей красоте, подобием которой является всякая иная, как слепок является подобием лица. Ее невозможно уловить зрением, слухом или иным чувством, и мы постигаем ее лишь размышлением (cogitatione) и разумом (mente)... Так, мы можем представить себе изваяния прекраснее Фидиевых, хотя не видели в этом роде ничего совершеннее, и картины прекраснее тех, какие я называл. Так и сам художник, изображая Юпитера или Минерву, не видел никого, чей облик он мог бы воспроизвести, но в уме у него обретался некий высший образ красоты, и, созерцая его неотрывно, он устремлял искусство рук своих по его подобию" (Orator. 2, 8).
Здесь же Цицерон разъясняет, что еще Платон называл такие "мыслимые образы" предметов "идеями", утверждая их вечность в "мысли и разуме", "между тем как все остальное рождается, гибнет, течет, исчезает" (там же, 3, 10). Поэтому необходимо, заключает Цицерон, "о чем бы мы ни рассуждали разумом и последовательностью, возвести свой предмет к его предельному образу и облику" (там же). Этот замечательный текст впервые в истории эстетики вызывает на первый план понятие cogitata species, "мысленного образа", созерцаемого художником в глубине собственного духа и воплощаемого им в его произведении вместо платоновского подражания чувственным явлениям или объективно-нормативным, застывшим метафизическим идеям. И чтобы отчетливо представить себе историческое происхождение этого учения, формулируем все заключающиеся здесь моменты.
Во-первых, вполне ощутительна здесь стоическая основа или, если угодно, вообще старо-эллинистическая традиция. Одной из бросающейся в глаза сторон этого учения является именно имманентизм бытия и сознания, соизмеримость с ним, и притом такая, что субъект оказывается не только "погруженным" в него, но он существенно, интимно связан с ним, он покоится в глубине его духа. Нельзя не узнать в этом стоических ennoemata, эти rationes anticipatae, которые в значительной степени совпадают и с эпикурейскими "пролептическими" представлениями. Тут – вполне эллинистический корень учения Цицерона.
Во-вторых, однако, нельзя не отметить и совершенно нового, прямо-таки небывалого раньше в стоической гносеологии момента. А именно – эта cogitata species, "мысленный образ", оказывается чем-то "нестановящимся", противостоящим всему рождающемуся, гибнущему и вообще всякому становлению. Этот прекрасный мысленный образ, оказывается, художник вовсе не взял из окружающей чувственной обстановки, вовсе не получил путем "подражания", путем уподобления его познавательной способности тому или другому чувственному предмету. Здесь Цицерон, следовательно, подчеркивает чисто идеальный, чисто смысловой характер "мысленного образа", и хотя он как-то образовался в уме художника, по самому существу своему он и не рождается и не гибнет, а есть чистая идея, к которой совершенно не применимы признаки времени. Ссылкой на главный платоновский термин "идею", который он к тому же называет по-гречески, Цицерон вполне ясно свидетельствует свою зависимость от платонической традиции.
У Платона (R.Р. V 472 с) читаем: "В качестве образца мы исследовали самое справедливость – какова она и совершенно справедливого человека, если бы такой нашелся, – каким бы он был". Совершенный человек здесь только идеал, а не просто идея (как справедливость-в-себе). В таком же смысле немного далее (472 d) Платон говорит об идеале "самого красивого человека", которого в качестве "образца" рисует художник.
Как и у Цицерона, здесь имеется в виду не чувственное бытие, но и не метафизически-идеальное бытие, а только лишь мысленный идеал в уме человека. Вряд ли Цицерон взял свое представление об уме как идеале непосредственно из платоновского "Тимея" (28 а), где идет рассуждение о "неизменно сущем", которое демиург берет "в качестве первообраза при создании идеи и потенции данной вещи".
Тут были посредниками академические комментарии "Тимея" (напр. Альбин intr. 9 р. 163 приводится к этому месту из Цицерона уже В.Кролем в издании "Оратора", 1913 года, на с. 25).
В-третьих, мы не имеем, однако, ровно никаких данных считать рассматриваемое цицероновское учение чисто платоническим. Дело в том, что Платон рассматривает свою идею как некий общий идеальный мир, который сам по себе вполне достаточен для него в смысле адекватного изображения всей действительности. Он не испытывает никакой потребности рассматривать, кроме этого, какую-то там еще эмпирию. Установка и изображение идеального мира есть настоящее и подлинное изображение действительности во всем ее существе; и никакое другое изображение, никакая другая методология не способна дать чего-нибудь нового. Думал ли так Цицерон? Едва ли. Все указывает на то, что его "мысленный образ" не отделим от реальной вещественной действительности. Трезвый практик Цицерон и в искусстве находил все ту же реальную действительность, хотя и отмечал в ней моменты, не сводимые на вещественный и чувственный опыт. Это заставляет нас видеть в приведенном тексте подлинно аристотелевские черты. Это – платонизм, эволюционировавший в направлении аристотелизма, хотя тут и не полный аристотелизм – ввиду усиленного подчеркивания противоположности всему текучему. Совсем не в стиле аристотелизма исключается здесь из понятия формы момент становления.
В-четвертых, можно указать и вполне персональный источник для Цицерона в интересующем нас тексте, уже комбинирующий черты платонизма, стоицизма и аристотелизма{409}. Это эклектический платоник Антиох Аскалонский (ум. в 68 г. до н.э.), который нашел возможность объединить объективную сущность идеи Платона, стоически-текучий субъективизм и учение Аристотеля об энергии, выраженной в материальном явлении (феноменологический энергизм). Особенно роднит Цицерона с Антиохом учение о красоте, которая есть не что иное, как духовный образ художественного произведения, становящийся все прекраснее и прекраснее. Цицерон говорит не просто о species Iovis eximia quaedem (что было бы старым учением о подражании), но о species pulchritudinis eximia quaedam, а эта красота (pulchritudo) и есть не что иное, как духовный образ художественного произведения, который может становиться все прекраснее и прекраснее.
Б.Швейцер связывает цицероновский species с стоической phantasia, утверждая, что здесь Цицерон объединил стоическое учение о "фантазии" с платоновской концепцией "мании"{410}. Цицероновское выражение intuens in eaque defrxus – это, утверждает он, технические термины для греческих theomenos и cataschomenos (catechomenos) ("созерцающий", "одержимый"). Что касается "фантазии", то латинский species гораздо больше соответствует греческому eidos. Относительно же intuens in eaque defixus, то Э.Бирмелин{411} довольно удачно привела в качестве прототипа этого выражения Платона (R.Р. V 484 с), где Платон говорит об остроте взгляда у художников, которые способны "усматривать высшую истину", не теряя ее из виду, постоянно воспроизводить ее со всевозможной тщательностью". Тем не менее и Э.Бирмелин{412} указывает их безусловно стоические черты в анализируемой концепции Цицерона. Как известно (SVF II frg. 1132-1140), стоики уподобляли творящую природу (physis) творчеству изобразительных искусств. У Посидония читаем о стоиках:
"Они получили первое понятие об этом, исходя из красоты явлений, потому что ничто из прекрасного не возникает даром и случайно, но – при помощи мастерства искусства. А космос – прекрасен. Это ясно из его формы, окраски, величины и разнообразия звезд в космосе" (SVF II frg. 1009).
Хрисипп же прямо говорит:
"Как, рассматривая прекрасное произведение из меди, мы стремимся узнать мастера, хотя материя здесь сама по себе установлена неподвижно, так и созерцая материю целого, подвижную и оказывающуюся в известной форме и распорядке, мы с полным основанием можем заключить о причине, которая ее двигает и многовидно оформляет" (SVF II frg. 1163-1167).
Однако та же Э.Бирмелин отдает себе полный отчет в различии Цицерона и Антиоха от Стои, которая была все же слишком натуралистична со своим божественным "умом", понимаемым в смысле "художественного огня" и "сперматических смыслов", и со своим принижением всей сферы искусства вообще{413}.
На этом пути так понимаемого эклектизма нам встречается имя, упомянутое выше, которое, кажется, должно иметь для нас огромное значение. Это – Антиох Аскалонский, глава Пятой Академии, один из самых принципиальных "эклектиков". Секст Эмпирик прямо писал, что "Антиох привел с собою в Академию Стою... он показал, что стоические учения залегают у Платона" (Pyrrh. I 235).
По-видимому, именно Антиоху принадлежит первая формула того синтеза, который был проблемой позднего эллинизма и нашел для себя систематическое разрешение в неоплатонизме, то есть объединения субъекта с миром идей в форме учения об идеях как о мыслях божества, как об уме бога. Поскольку тут идет речь об идеях, мы ощущаем традицию, ныне воскресшую, старого платонизма; и, поскольку эти идеи числятся как имманентное содержание некоего универсального субъекта, мы здесь на твердой почве эллинизма. Это новое учение об идеях, которое у более поздних академиков относилось и к универсальному субъекту и соответственно к человеку-художнику. Позже мы и встречаем это учение у Цицерона (и у Сенеки).
Недаром Цицерон писал (Orat. 3, 12), что говорит только с виду о новых вещах, а по существу все это "весьма старое", но "многим незнакомое" и что, в частности, образ оратора взял он не у риторов, но "из недр" (ex spatiis) Академии.
После исследования В.Тайлера{414} и Э.Бирмелин{415} зависимость Цицерона и Сенеки от Антиоха становится почти достоверной. Сенека также учит (Epist. 65, 7) об идеях как об exemplares в уме бога (исходя, вероятно, из Plat. Tim. 47 о демиургии "через ум"). Правда, не все платоники признавали существование идей "художественных произведений" (ton technicon). Но В.Тайлер{416} на основании Цицерона и Халкидия убедительно показывает, что Антиох учил именно так. В частности, В.Тайлер{417} считает Антиоха создателем варроновской аллегорезы у Августина (De civ. d. VII 28), отождествляющей небо с Зевсом, землю с Герой, "идеи" с Афиной. Афина, родившаяся из головы Зевса, и есть символ идей как мыслей бога.
Это – огромная идея, имеющая в дальнейшем всемирно-историческое значение. Художник, который до сих пор в представлении античных эстетиков только копировал и "подражал", оказывается, является носителем того, что немецкие классические эстетики называли "идеалом". Самое понятие "подражания" получает сейчас второстепенное значение. Теперь не просто демиург творит по идеям, как это изображал Платон, но отношение подражания к первообразу интерпретируется как портретирование (Sen. Epist. 58, 19-21; Alb. 163, 17) или как восковой слепок.
Цицерон пишет о словах, что, "когда мы берем эти слова, первые попавшиеся прямо из жизни, то мы формуем и лепим их по своему желанию, как мягкий воск" (De orat. III 45, 177). В этом необходимо видеть действительно "подготовку" всей будущей неоплатонической эстетики.
Итак, Цицерон намечает такую концепцию художественной формы, которая есть вполне закономерный сплав платонизма и аристотелизма на общей стоической основе. От Платона и Аристотеля эта форма отличается подчеркнутым имманентизмом и субъективизмом (это именно cogitata species, как и в раннем эллинизме мы находим "каталептические" и "пролептические" формы, свидетельствующие о том же). Но и от раннего эллинизма эта художественная форма отличается очень ярко тем, что несет с собою идеальную значимость, чистую смысловую оформленность, которая сближается тут с платоновской "идеей" и аристотелевской "формой" и коренным образом противоречит всякому сенсуализму и материализму. Нечто подобное мы находим и в учении Филострата о фантазии. Однако Цицерон здесь заметно отличается наличием платонической тенденции, в то время как у Филострата здесь самое большее – опыт, но не сознательный принцип.
7. Целесообразность и красота
Другой пример сходного же "эклектизма" мы находим в учении о целесообразности и красоте.
Вспомним, как этот вопрос решался в предыдущей эстетике. Платон ставил полезное ниже красоты, если под последней понимать чисто эстетическую категорию. Но когда заходила речь о красоте как об онтологической форме самого же бытия, он превозносил красоту очень высоко, и она становилась для него самой реальной и самой необходимой стороной бытия. Тут красота была вечной формой бытия, неотъемлемой от него самого, или просто этим же самым бытием в его расцвете. Стоики, формально рассуждая, думали не иначе. Но их сенсуализм и материализм отрицал в понятии красоты всякий идеальный момент, и красота сказывалась здесь просто хорошей сделанностью предметов{418}. Поэтому красота и польза, красота и целесообразность у стоиков вначале смешивались и отождествлялись. Тут, как и везде, осуществлялось все то же основное отличие эллинизма от эллинства: идея и материя строго различались и приходили в строгий синтез в платонизме. У стоиков же это различие хотя и присутствовало, но не было положено в сознании. При осознании философы и раньше приходили к космической телеологии, стоики же – к телеологии антропологической. Цицерон пишет:
"Но так уже устроила с непостижимым совершенством сама природа: как во всем на свете, так и в человеческой речи наибольшая польза обыкновенно несет в себе и наибольшее величие и даже наибольшую красоту. Мы видим, что ради всеобщего благополучия и безопасности само мироздание устроено от природы именно так: небо округло, земля находится в середине и своею собственной силой держится в равновесии. Солнце обращается вокруг нее, постепенно возвышаясь вновь, Луна, увеличиваясь и убавляясь, получает свет от Солнца, и по тем же пространствам движутся с разной скоростью и по разному пути пять светил. Все это настолько стройно, что при малейшем изменении не могло бы держаться вместе; настолько восхитительно, что и представить себе нельзя ничего (species) более прекрасного (ornatior). Взгляните теперь на вид и облик (formam et figuram) людей и животных, и вы найдете, что все без исключения части тела у них совершенно необходимы, а весь их облик создан как бы искусством, а не случайностью" (De orat III 45, 178 сл.).
Далее, Цицерон рисует строение деревьев и переходит к искусствам, кораблям с их "изящным видом", колоннам, у которых "достоинство не уступит пользе"; к крыше Капитолия, которой необходимость, а не изящество придало особый вид. Цицерон говорит о совершенстве речей, когда "за пользой и даже необходимостью в ней следует и приятность и прелесть" (venustas, там же, 46, 180 сл.).
Что это значит? Как понять исторически это учение о совпадении красоты и целесообразности? Здесь необходимо рассуждать следующим образом.
Во-первых, здесь красота и целесообразность резко противопоставляются одна другой. Они так резко противопоставляются, что их объединение даже представляется невероятным (incredibiliter). В этом нельзя не видеть платонических корней. Только сознательное и очень упорное противопоставление идеи и материи могло заставлять исключить из красоты всякий утилитарный и всякий вещественный момент. Тут и не пахнет стоицизмом.
Во-вторых, однако, красота и целесообразность у Цицерона не только противопоставляются, но и отождествляются. Как это могло бы произойти? Это могло быть относимо к миру идеальному, где у Платона цель и красота есть действительно одно и то же и где нет различия между вещью и смыслом, назначением и выполнением. Этого, однако, мы не находим у Цицерона, да это и было бы уже слишком строгим, слишком неримским платонизмом. Но можно отождествлять красоту и целесообразность физически. Фронтон здания может одинаково и быть произведением искусства и служить для стока дождевой воды. Это будет уже не столько по-платоновски, сколько по-стоически, хотя от стоицизма, повторяем, здесь резкое отличие в первоначальном противопоставлении обеих категорий.
Следовательно, вполне очевиден стоический платонизм, или эклектизм, в концепции красоты и целесообразности у Цицерона. Нечего и говорить о том, насколько она была близка римскому практическому, утилитарному духу, жившему в то же время среди прекрасных и утонченно-культурных форм.



![Книга Борьба идей в эстетике [V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-borba-idey-v-estetike-v-gegelevskiy-i-v-mezhdunarodnyy-kongressy-po-estetike-273414.jpg)



