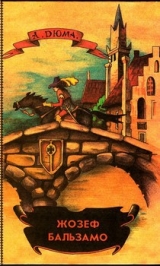
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 47 страниц)
– Разумеется, это я могу.
– Об этой единственной милости я и хотел просить ваше высочество, если только вы не пообещали уже другой особе ходатайствовать о ней перед ее высочеством Луизой Французской.
– Полковник, вы меня безмерно удивляете, – сказала Мария-Антуанетта. – Возможно ли, чтобы люди, столь ко мне приближенные, пребывали в такой благородной нищете? Ах, полковник, нехорошо вводить меня в заблуждение!
– Я не полковник, сударыня, – мягко возразил Филипп, – я всего лишь преданный слуга вашего высочества.
– Вы не полковник? С каких это пор?
– Я никогда не был полковником, сударыня.
– Король при мне обещал вам полк…
– Но патент никогда не был мне отправлен…
– Но у вас был чин…
– От которого мне пришлось отказаться, ваше высочество, когда я попал в немилость у короля.
– Почему?
– Это мне неизвестно.
– Ах! – с глубокой печалью в голосе вымолвила принцесса. – Ах, все этот двор!
Тут Филипп невесело улыбнулся.
– Вы ангел небесный, ваше высочество, – сказал он, – и я очень жалею, что мне не довелось послужить французскому дому: тогда я мог бы отдать за вас жизнь.
Глаза дофины полыхнули столь живым и ярким огнем, что Филипп закрыл лицо обеими руками. Принцесса даже не пыталась утешить его или отвлечь от мыслей, завладевших им.
Онемев и с трудом дыша, она обрывала лепестки с нескольких бенгальских роз, которые в рассеянности и тревоге сорвала со стеблей.
Филипп справился со своими чувствами.
– Прошу у вас прощения, ваше высочество, – сказал он.
Мария-Антуанетта не ответила на эти слова.
– Ваша сестра, если ей будет угодно, может хоть завтра поступить и обитель Сен-Дени, – бросила она с лихорадочной поспешностью, – а вы через месяц будете командовать полком – так мне угодно!
– Ваше высочество, – отозвался Филипп, – извольте в доброте своей выслушать в последний раз мои объяснения. Сестра моя принимает благодеяние вашего высочества, я же вынужден отказаться.
– Отказаться?
– Да, сударыня, при дворе мне было нанесено оскорбление. Враги, которые заставили меня его пережить, найдут способ задеть меня вновь и с еще большей силой, если узнают о моем возвышении.
– Даже при моем покровительстве?
– Тем более при вашем покровительстве, – решительно отрезал Филипп.
– Это правда, – побледнев, шепнула принцесса.
– А еще, ваше высочество… Но нет, я забыл, беседуя с вами, что нет счастья на земле… Я забыл, что, уйдя в тень, не должен был больше выходить на свет: человек, наделенный сердцем, молится и вспоминает, пребывая в тени!
Филипп произнес эти слова таким голосом, что принцесса задрожала.
– Придет день, – сказала она, – когда я получу право произнести вслух то, о чем сейчас могу только думать. Сударь, ваша сестра в любую минуту может приехать в обитель Сен-Дени.
– Благодарю вас, ваше высочество, благодарю.
– Что до вас… Мне хочется, чтобы вы меня о чем-нибудь попросили.
– Ваше высочество…
– Так мне угодно!
Филипп увидел, как к нему протянулась затянутая в перчатку рука принцессы; рука помедлила в воздухе: быть может, то был лишь повелительный жест.
Молодой человек опустился на колени, взял эту руку и медленно, с мучительным трепетом и волнением прижался к ней губами.
– Просьбу! Я жду! – сказала дофина, которая была в таком волнении, что не отняла руки.
Филипп понурил голову. Волна горьких мыслей захлестнула его, как буря человека, смытого за борт. Несколько мгновений он молчал, окаменев, а потом выпрямился и тусклым, безжизненным голосом произнес:
– Паспорт, чтобы покинуть Францию в тот день, когда моя сестра поступит в обитель Сен-Дени.
Дофина в ужасе отступила назад, но, видя всю глубину страдания, которое она понимала и, быть может, разделяла, не нашла других слов для ответа, кроме краткого и невнятного:
– Хорошо.
И скрылась в аллее, обсаженной кипарисами – единственными деревьями, зелень которых, украшение могил, не поблекла под дыханием осени.
157. ДИТЯ БЕЗ ОТЦА
Близился день горя, день стыда. Несмотря на то, что добрый доктор Луи ходил к Андреа все чаще, а Филипп заботливо опекал и утешал ее, она час от часу впадала во все большее уныние, словно узница в ожидании казни.
Бедный брат часто заставал Андреа во власти страха и задумчивости. Глаза ее были сухи. Целыми днями от нее не слышно было ни слова; потом она внезапно вскакивала, начинала метаться по комнате, пытаясь, подобно Дидоне, убежать от себя самой, то есть от муки, которая ее убивала.
И вот однажды вечером Филипп застал ее еще бледнее, беспокойнее, тревожнее, чем обычно, и тут же послал за доктором, прося его приехать этой же ночью.
Было 29 ноября. До поздней ночи Филипп занимал Андреа разговорами; он заводил речь о самых печальных, самых близких им обоим вещах, даже о том, чего девушка избегала касаться, как избегает больной прикосновений грубой и тяжелой руки к своей ране.
Филипп сидел у огня; служанка отправилась в Версаль за врачом и забыла опустить жалюзи, поэтому отблеск лампы и блики ее пламени ложились нежным узором на снежный ковер, которым устлали садовый песок первые холода.
Филипп улучил миг, когда мысли Андреа успокоились, и без подготовки приступил прямо к делу.
– Дорогая сестра, – сказал он, – вы уже приняли наконец какое-нибудь решение?
– О чем? – с горестным вздохом спросила Андреа.
– О… О вашем ребенке, сестра.
Андреа содрогнулась.
– Время приходит, – продолжал Филипп.
– О Боже!
– Я не удивлюсь, если это случится завтра.
– Завтра!
– И даже сегодня, любезная сестра.
Андреа так сильно побледнела, что Филипп испугался; он взял руку девушки и поцеловал.
Андреа быстро пришла в себя.
– Брат, – отвечала она, – я не стану с вами лицемерить: лицемерие, прибежище пошлых душ, было бы для нас с вами бесчестьем. В голове у меня перемешались благие принципы и предрассудки. Я не знаю, что есть зло, с тех пор как усомнилась в том, что есть добро. Поэтому не судите меня строже, чем судят повредившихся в уме, если только вы не пожелаете принять всерьез нынешние мои воззрения, естественное и неизбежное, клянусь вам, следствие чувств, которые мне пришлось испытать.
– Что бы вы ни сказали, Андреа, что бы ни сделали, для меня вы всегда останетесь самой любимой, самой обожаемой из женщин.
– Благодарю, мой единственный друг. Смею думать, что я не вовсе недостойна того, что вы мне обещаете. Я – мать, Филипп; но Богу было угодно, по крайней мере мне так кажется, – добавила она, краснея, – чтобы материнство у всякого живого существа было подобно плодоношению у растений. Плод созревает после того, как отцветет цветок. В пору цветения растение готовится, преображается для материнства. У людей цветение, как мне кажется, – это любовь.
– Вы правы, Андреа.
– А я, – подхватила девушка, – я не знала ни подготовки, ни преображения; все у меня было неправильно: я не любила, не испытывала желания; мой рассудок и сердце были так же девственны, как плоть. И что за злополучное чудо! Бог посылает мне то, чего я не желала, о чем я даже не мечтала. А ведь Господь никогда не посылал плодов бесплодному древу… Да, во мне нет ни готовности к материнству, ни инстинкта, ни даже сил. Мать, страдающая в родах, знает свою судьбу и дорожит ею; а я ничего не знаю, дрожу при одной мысли о родах, жду этого дня, как дня казни… Филипп, надо мной тяготеет проклятие!
– Андреа, сестра моя!
– Филипп, – продолжала она с каким-то лихорадочным подъемом, – я чувствую, что ненавижу это дитя. Да, да, я его ненавижу; и если я выживу, Филипп, я всю жизнь буду помнить тот день, когда впервые в моем лоне шевельнулся смертельный враг, которого я ношу в себе; я и сейчас содрогаюсь, когда вспомню, с какой жгучей яростью почувствовала первое шевеление этого невинного существа, столь радостное для каждой матери; какими проклятиями я его встретила! Филипп, я дурная мать! Филипп, надо мной висит проклятие!
– Небом тебя заклинаю, родная моя, успокойся; не давай разуму смущать твое сердце. Это дитя – плоть от плоти твоей; я люблю его, потому что это твое дитя.
– Ты его любишь! – вскричала она в ярости, покрывшись мертвенной бледностью. – Ты смеешь мне говорить, что любишь мой и свой позор! Ты смеешь мне признаваться, что любишь это напоминание о злодействе, это исчадие низкого преступника! Что ж, Филипп, повторяю тебе, мне противна низость, мне омерзительно криводушие; я ненавижу это дитя, потому что это не мое дитя, и оно явится на свет нежеланным! Оно отвратительно мне, потому что, может быть, будет похоже на отца! На своего отца! Да я готова умереть, когда произношу это чудовищное слово. Боже мой! – воскликнула она, опускаясь на колени прямо на полу. – Я не могу убить это дитя при его рождении: ты дал ему душу. Я не могла покончить с собой, пока я его носила: ты осудил самоубийство так же, как убийство. Но я прошу тебя, Господи, умоляю, заклинаю тебя, если ты воистину праведен, Господи, если ты печалишься о страданиях в этом мире, если ты не осудил меня на смерть от отчаяния после выпавших мне в жизни позора и слез! Господи, прибери это дитя! Господи, избавь меня от него! Отомсти за меня!
В самозабвенной ярости она принялась биться головой о мраморный наличник двери, вырываясь из рук Филиппа, пытавшегося ее удержать.
Внезапно дверь отворилась: вошла служанка, а за нею врач, с первого взгляда угадавший, что происходит.
– Сударыня, – произнес он с той невозмутимостью, с какой врачи умеют подчинить пациентов своей воле – одних лаской, других строгостью, – сударыня, не преувеличивайте страданий, с которыми сопряжен тот труд, что начнется для вас с минуты на минуту. А вы, – обратился он к служанке, – приготовьте все, как я велел вам по дороге.
– Вы, – обратился он далее к Филиппу, – будьте благоразумнее, чем ваша сестра, и вместо того, чтобы разделять ее тревоги и слабости, помогите мне ее успокоить.
Андреа встала, она чувствовала себя почти пристыженной. Филипп усадил ее в кресло.
Тут больная покраснела и со страдальческой гримасой откинулась на спинку кресла; руки ее судорожно вцепились в подлокотники, и из ее посиневших губ вырвался первый жалобный крик.
– Горе, сотрясение, гнев ускорили приближение родов, – сказал доктор. – Ступайте к себе в комнату, господин де Таверне, и… мужайтесь.
Филипп, сердце у которого надрывалось, подбежал к Андреа; она все слышала, она трепетала и, несмотря на боль, привстав в кресле, обеими руками обвила шею брата.
Она крепко обняла его, прижалась губами к холодной щеке молодого человека и тихонько сказала ему:
– Прощайте! Прощайте! Прощайте!
– Доктор! Доктор! – в отчаянии вскричал Филипп. – Вы слышите?
Луи мягко, но непреклонно разлучил несчастных брата и сестру, вновь усадил Андреа в кресло, проводил Филиппа к нему в комнату и закрыл на засов дверь спальни Андреа; затем он задернул шторы, затворил остальные двери; словом, оградил от внешнего мира комнату роженицы, где должно было свершиться таинство, в коем участвуют только врач и женщина, а свидетель этому лишь Бог.
В три часа ночи доктор отворил дверь, из-за которой слышались рыдания и мольбы Филиппа.
– Ваша сестра родила сына, – сказал доктор.
Филипп умоляюще протянул к нему руки.
– Не входите, – остановил его врач, – она спит.
– Спит… Ох, доктор, это правда? Она в самом деле спит?
– В ином случае я сказал бы вам: «Ваша сестра родила сына, но этот сын стоил ей жизни». Впрочем, убедитесь сами.
Филипп застыл в дверях.
– Послушайте дыхание…
– Да, да, слышу! – прошептал Филипп, обнимая доктора.
– Как вы знаете, мы уже сговорились с кормилицей. Проезжая через Пуэн-дю-Жур, я предупредил ее, чтобы она была в готовности. Но привезти ее сюда надлежит вам, и никому больше: нужно, чтобы она имела дело с вами. А потому воспользуйтесь тем, что больная уснула и съездите в той карете, в которой я сюда приехал.
– А как же вы, доктор?
– У меня на Королевской площади есть больной, почти безнадежный случай. Воспаление легких. Мне хотелось бы провести остаток ночи у его постели, присмотреть за приемом лекарств и понаблюдать за их действием.
– А холод, доктор?
– Я в плаще.
– На улицах небезопасно.
– За двадцать лет меня останавливали ночью раз двадцать. Всякий раз я говорил: «Друг мой, я врач, спешу к больному. Вам нужен мой плащ? Возьмите его, но не убивайте меня, потому что без меня мой больной умрет». И поверьте мне, молодой человек, вот этот плащ служит мне уже двадцать лет. Грабители ни разу на него не покусились.
– Добрый вы человек, доктор. Завтра мы вас ждем?
– Завтра в восемь я буду у вас. Прощайте.
Затем врач дал служанке кое-какие наставления и особо наказал не отлучаться от больной. Он распорядился, чтобы ребенка положили рядом с матерью. Филипп, у которого не шло из головы последнее его объяснение с сестрой, настоял, чтобы ребенка устроили отдельно.
Тогда Луи своими руками уложил дитя в комнате служанки и, выйдя из дому, побрел по улице Монторгей, меж тем как его фиакр повез Филиппа в сторону Руль.
Служанка задремала в кресле возле своей госпожи.
158. ПОХИЩЕНИЕ
Ненадолго пробуждаясь от целительного сна, наступающего вслед за сильным изнеможением, разум человеческий словно работает с двойной силой: осознает, в какой мере благополучно все, что творится вокруг него, и в то же время зорко следит за телом, простертым, словно на смертном ложе.
Очнувшись от забытья, Андреа открыла глаза и увидела спящую служанку. Она услышала веселое потрескивание огня в очаге, с удовольствием почувствовала, какая ватная тишина стоит в комнате, где все объято покоем…
Это еще не было полное пробуждение, но и сон уже отступил. Андреа приятно было оставаться в этом смутном, дремотном забытьи; в ее усталом мозгу мелькали обрывки мыслей; она словно боялась внезапно вспомнить и понять все как есть.
Вдруг сквозь толстые стены до ее ушей долетел далекий слабый, едва различимый крик новорожденного.
Этот звук напомнил Андреа потрясение, причинившее ей столько мук. Он напомнил ей те ненавистные шевеления, которые несколько последних месяцев возмущали ее невинность и доброту: так напиток в сосуде, который трясут, замутняется от осадка, поднимающегося со дна.
С этого мига для Андреа кончился всякий сон и покой: она все вспомнила, и ею вновь завладела ненависть.
Но сила чувств обычно зависит от сил телесных. Андреа уже не находила в себе того возбуждения, что захлестнуло ее накануне во время объяснения с Филиппом.
Крик младенца отозвался у нее в мозгу сперва болью, потом смущением. Она призадумалась, не слишком ли круто обошелся с ребенком Филипп, когда, заботясь о сестре, поместил его в другой комнате.
Одно дело – желать зла живому существу, но совсем другое – видеть, как это желание осуществляется. Андреа заранее ненавидела дитя, существовавшее только в ее воображении, она желала ему смерти, но теперь, когда она услышала, как оно плачет, ей стало его жаль.
«Бедняжка мучается, – подумала она и тут же сама себе возразила: – Какое мне дело до его страданий. Я и сама несчастней всех на этом свете».
Ребенок снова заплакал, еще пронзительнее, еще горше. И тут Андреа почувствовала, как в ответ на этот плач в ней поднимается голос тревоги; невидимые нити словно притягивали ее сердце к крошечному покинутому существу, заходившемуся в крике.
Случилось то, что предчувствовала девушка. Телесной мукой природа подготовила ее к материнству, и теперь сердце матери мгновенно отзывалось на каждое движение малютки.
«Нехорошо, что этот крошечный сирота теперь плачет, – думала Андреа, – он так плачет, словно жалуется на меня небесам. Господь наделил новорожденных самыми красноречивыми голосами на свете! Их можно лишить жизни и тем избавить от страданий, но никто не смеет обрекать их на муки, иначе Господь не научил бы их так жалобно плакать».
Андреа подняла голову и хотела позвать служанку; но дюжая деревенская девушка спала так крепко, что не проснулась от тихого зова хозяйки; ребенок тем временем смолк.
«Наверно, приехала кормилица, – думала Андреа, – я слышала шаги в дверях… Да, кто-то ходит в соседней комнате, и малютка больше не плачет. Чужая женщина уже взяла его под свою защиту и утешила его неразумную душу. Ах, настоящая мать – это та, которая заботится о ребенке. За плату в несколько экю мой ребенок, плоть от плоти моей, обретет мать; когда-нибудь он пройдет мимо меня, подарившей ему жизнь ценой стольких мучений, но даже не глянет на меня и скажет „матушка“ – чужой женщине, которая за деньги подарила ему то великодушие, ту любовь, в которых я отказала ему, поддавшись справедливому гневу.
Нет, этого не будет. Я страдала: я заслужила право видеть личико этого создания. Я выстрадала право заботиться о нем и добиться, чтобы он любил меня, чтил меня за то, чем я ради него пожертвовала, что я ради него претерпела!»
Она привстала, призвала на помощь все силы и позвала:
– Маргарита! Маргарита!
Служанка все никак не могла проснуться; оцепенение, похожее на летаргический сон, приковало ее к креслу.
– Вы меня слышите? – вскричала Андреа.
– Слышу, сударыня, слышу, – отозвалась наконец Маргарита, начиная приходить в себя.
Она подошла к постели.
– Хотите пить, сударыня?
– Нет.
– Хотите, наверно, узнать, который час?
– Нет, нет.
Глаза Андреа неотрывно смотрели на дверь в соседнюю комнату.
– А, понимаю. Вы, сударыня, хотите знать, вернулся ли ваш братец?
В душе Андреа гордыня и жгучее негодование из последних сил боролись с искушением.
– Я хочу… – пролепетала она наконец, – я хочу… Маргарита, отворите поскорее ту дверь.
– Хорошо, сударыня. Ох, как оттуда тянет холодом!.. Ветер, сударыня. Какой ветер!
И впрямь, ветер ворвался даже в спальню Андреа; пламя свечей и ночника заколебалось.
– Наверно, кормилица оставила открытой дверь или окно. Ступайте, Маргарита, поглядите. Ребенку наверно… холодно.
Маргарита устремилась в соседнюю комнату.
– Я его укрою, сударыня, – сказала она.
– Нет, нет, – еле внятным, прерывающимся голосом прошептала Андреа, – принесите его мне.
Маргарита остановилась посреди комнаты.
– Сударыня, – ласково сказала она, – господин Филипп строго-настрого наказал, чтобы ребеночка оставили в той комнате. Он, конечно, боялся, как бы вы от него не устали или не разволновались.
– Принесите мне ребенка! – закричала молодая мать, в душе у которой поднялась целая буря чувств; из глаз ее, не увлажнившихся даже во время родовых мук, пробились две слезы, которым, должно быть, улыбнулись на небе ангелы, хранители малых детей.
Маргарита бросилась в соседнюю комнату. Андреа села в постели и закрыла лицо руками.
Служанка тут же вернулась: на лице у нее было написано изумление.
– Ну? – спросила Андреа.
– Сударыня… Я не знаю… А что, кто-нибудь приходил?
– Что значит «кто-нибудь»? Кто приходил?
– Ребеночка там нет.
– Я в самом деле слышала там какой-то шум, – сказала Андреа, – шаги… Наверно, пока вы спали, приходила кормилица. Она не хотела вас будить. Но где же тогда мой брат? Загляните к нему в комнату.
Маргарита побежала к Филиппу. Никого!
– Странно, – проговорила Андреа, у которой забилось сердце, – неужели брат вернулся домой и опять ушел, не заглянув ко мне?
– Ох, сударыня! – вдруг вскричала служанка.
– Что еще такое?
– Входная дверь отворяется!
– Ступайте, поглядите, в чем дело!
– Это вернулся господин Филипп. Входите, сударь, входите!
И впрямь, это вернулся Филипп. За ним виднелась крестьянка, закутанная в полосатую накидку из грубой деревенской шерсти; она улыбалась всем вокруг той улыбкой, с какой прислуга всегда предстает новым господам.
– Я здесь, сестра, я здесь, – с этими словами Филипп вбежал в комнату.
– Милый мой брат! Сколько мук и огорчений я тебе причинила! А вот и кормилица. Я так испугалась, что она уже ушла…
– Ушла? Она сию минуту приехала.
– Ты хочешь сказать, сию минуту уезжает? Нет, я же слышала ее недавно, хоть она ходила очень тихо.
– Не понимаю, о чем ты говоришь, сестра: тут никого не…
– О, благодарю тебя, Филипп, – перебила Андреа, привлекая к себе брата и подчеркивая голосом каждое слово, – благодарю за то, что ты понадеялся на лучшее во мне, что не позволил увезти ребенка прежде, чем я на него посмотрю, поцелую его. Филипп, ты хорошо знал мое сердце… Да-да, не тревожься: я буду любить мое дитя.
Филипп схватил руку Андреа и стал покрывать ее поцелуями.
– Вели кормилице, чтобы принесли его мне, – добавила молодая мать.
– Но, сударь, – вмешалась служанка, – вы же сами знаете: ребеночка здесь уже нет.
– Как так? Что вы говорите? – возразил Филипп.
Андреа испуганно смотрела на брата.
Молодой человек бросился к постели служанки, пошарил в ней и, ничего не найдя, испустил душераздирающий вопль.
Андреа ловила в зеркале каждое движение брата; она увидела, как он вошел в комнату бледный, с безвольно опущенными руками, угадала частицу правды и, откликнувшись, словно эхо, на вопль брата тяжким вздохом, без чувств упала на подушку. Это новое горе, эти новые страдания были для Филиппа полной неожиданностью. Но он собрал все силы и ласками, увещеваниями, слезами вернул Андреа к жизни.
– Мое дитя, – лепетала Андреа, – мое дитя!
– Нужно спасать мать, – сказал себе Филипп. – Сестра, родная моя, мы все сошли с ума, иначе и не скажешь: мы совсем забыли, что ребенка увез с собою доктор Луи.
– Доктор?! – вскричала Андреа страдальческим голосом, в котором сомнение боролось с радостной надеждой.
– Ну конечно, доктор! Ах, у нас у всех и впрямь голова идет кругом.
– Филипп! Ты клянешься, что это правда?
– Сестра, милая, ты так же неразумна, как я. Ну сама посуди, куда мог деться ребенок?
И он рассмеялся через силу; кормилица и служанка вторили ему.
Андреа ожила.
– Но я слышала… – прошептала она.
– Что ты слышала?
– Шаги…
Филипп содрогнулся.
– Не может быть: ты спала.
– Нет! Нет! Я проснулась, я слышала! Я слышала!
– Разумеется: ты слышала нашего славного доктора – он вернулся, когда я уже уехал; вернулся, потому что опасался за здоровье младенца, и забрал его с собой. Да он сам мне говорил, что хочет за ним вернуться.
– Теперь я тебе верю.
– Еще бы не верить! Это же так просто!
– Но в таком случае, – вступила в разговор кормилица, – я-то зачем сюда приехала?
– Вы правы. Ступайте к себе: доктор ждет с ребенком у вас дома.
– Быть не может!
– Да, конечно: не у вас, а у себя. Да… А Маргарита до того крепко слала, что не слыхала, что говорил доктор. Да он, наверно, и не стал ничего говорить.
Андреа несколько оправилась после этого нового потрясения.
Филипп спровадил кормилицу и приказал служанке никуда не отлучаться.
Затем, вооружившись фонарем, он тщательно осмотрел все двери, обнаружил, что дверь в сад открыта, заметил следы на снегу, дошел по этим следам до садовой калитки. Там следы обрывались.
– Это следы мужчины! – воскликнул он. – Ребенка похитили… О, горе нам, горе!








