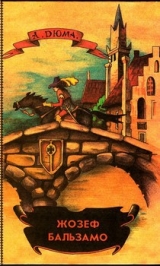
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 47 страниц)
105. ТЕЛО И ДУША
Наконец с мастером остался один только хирург Марат.
Он подошел, смиренный и чрезвычайно бледный, к грозному оратору, чье могущество, казалось, было неограниченным.
– Мастер, я совершил проступок? – спросил он.
– И серьезный, сударь, – ответил Бальзамо. – Но хуже всего то, что вы не знаете за собой вины.
– Да, признаться, я не только не считаю, что совершил проступок, но полагаю, что говорил, как нужно.
– Гордыня, гордыня! – прошептал Бальзамо. – Гордыня, демон-разрушитель! Люди победят лихорадку в жилах больного, чуму в воде и воздухе, но гордыня пустила в их сердцах такие глубокие корни, что ее истребить им не удастся.
– Однако, мастер, у вас обо мне довольно нелестное мнение, – вздохнул Марат. – Неужто я и впрямь такое ничтожество, что не выдерживаю сравнения с себе подобным? Неужто я так плохо пожинал плоды своих трудов, что не могу сказать и слова без того, чтобы меня не обвинили в невежестве? Неужто я такой скверный ученик, что в моих убеждениях можно сомневаться? Но даже если это так, я по крайней мере живу преданностью святому народному делу.
– Сударь, – возразил Бальзамо, – поскольку доброе начало в вас все еще борется со злым, которое, как мне представляется, рано или поздно возьмет верх, я попытаюсь избавить вас от ваших пороков. И если мне суждено преуспеть в этом, если гордыня еще не возобладала над всеми вашими чувствами, то я добьюсь успеха за один час.
– За час? – недоверчиво переспросил Марат.
– Да. Вы готовы дать мне этот час?
– Разумеется.
– Где мы с вами встретимся?
– Это вы, мастер, должны сказать, куда должен явиться ваш покорный слуга.
– Ладно, я сам приду к вам, – решил Бальзамо.
– Но имейте в виду, мастер, я живу в мансарде, на улице Кордельеров. Понимаете, в мансарде, – с горделивой прямотой подчеркнул Марат, словно бахвалясь своей бедностью, что не укрылось от Бальзамо, – тогда как вы…
– Тогда как я?
– Тогда как вы, говорят, живете во дворце.
Бальзамо лишь пожал плечами, словно гигант, наблюдающий с высоты своего роста за рассерженным карликом.
– Значит, условились, сударь, – проговорил он, – я приду к вам в мансарду.
– Когда же, сударь?
– Завтра.
– В котором часу?
– Утром.
– Но я на рассвете уйду в анатомический театр, а потом в больницу.
– Прекрасно, это то, что мне нужно. Если бы вы не предложили, я сам попросил бы вас отвести меня туда.
– Но мы пойдем, как вы понимаете, спозаранку. Я сплю мало, – предупредил Марат.
– А я вовсе не сплю, – отозвался Бальзамо. – Итак, до рассвета.
– Буду вас ждать.
На этом они расстались, поскольку уже вышли на улицу, где было теперь темно и пустынно, хотя совсем недавно, когда они сюда спешили, она была залита солнцем и запружена народом.
Бальзамо свернул налево и вскоре пропал из виду.
Марат же на своих длинных тонких ногах зашагал направо.
Бальзамо оказался точен: на другой день в шесть утра он стучался в дверь на лестничной площадке; перешагнув порог, он оказался в коридоре, куда выходили двери шести комнат, расположенных на последнем этаже старого дома на улице Кордельеров.
Марат – это было ясно видно – готовился встретить высокого гостя как можно достойнее. Узкая кровать из орехового дерева и деревянный верх комода сверкали чистотой благодаря усилиям служанки, старательно протиравшей эту источенную червями рухлядь суконной тряпкой.
Женщине деятельно помогал сам Марат: он подрезал бледные увядшие цветы, стоявшие в глубокой фаянсовой вазочке и составлявшие главное украшение мансарды.
Молодой человек еще держал под мышкой полотняную тряпку; судя по всему сначала он и сам протирал мебель, а потом уж принялся за цветы.
Ключ торчал в дверях, поэтому Бальзамо вошел без стука и застиг Марата за этим занятием.
Завидя мастера, Марат залился краской намного сильнее, чем это приличествует истинному стоику.
– Вот видите, сударь, – проговорил он, украдкой отшвырнув за занавеску предательскую тряпку, – я помогаю этой славной женщине по хозяйству. Работа эта если и не совсем плебейская, то уж во всяком случае не для знатных господ.
– Это работа для человека бедного и опрятного, – холодно отозвался Бальзамо, – вот и все. Вы скоро освободитесь, сударь? Сами знаете, у меня каждая минута на счету.
– Сейчас, сударь, только надену кафтан… Тетушка Гриветта, кафтан… Это моя привратница, сударь, она же прислуга, кухарка и экономка. Я плачу ей один экю в месяц.
– Одобряю экономность, – изрек Бальзамо. – Это богатство бедных и мудрость богатых.
– Шляпу и трость, – приказал Марат.
– Протяните руку, – посоветовал Бальзамо, – вот ваша шляпа, а стоящая подле нее трость тоже, видимо, принадлежит вам.
– Прошу прощения, сударь, я совсем смешался.
– Так вы готовы?
– Да, сударь. Мои часы, тетушка Гриветта.
Тетушка Гриветта озиралась по сторонам, но ничего не говорила.
– В анатомическом театре и больнице часы вам не понадобятся, сударь, а искать их, должно быть, долго, и мы задержимся.
– Но я очень дорожу своими часами, сударь; они превосходны и куплены мною на сбереженные деньги.
– В ваше отсутствие тетушка Гриветта их поищет, – с улыбкой ответил Бальзамо, – и если будет искать как следует, то к вашему возвращению найдет.
– Ну, конечно, они найдутся, – подтвердила тетушка Гриветта, – если только вы, сударь, не оставили их где-нибудь. Здесь ничего не пропадает.
– Вот видите, – подхватил Бальзамо. – Идемте, сударь, идемте.
Марат не осмелился настаивать и, ворча, двинулся следом за Бальзамо.
В дверях мастер поинтересовался:
– Куда сначала?
– Если можно, мастер, в анатомический театр. У меня есть на примете один случай: нынче ночью должна была наступить смерть в результате острого менингита; мне нужно исследовать мозг, и я боюсь, как бы коллеги его у меня не перехватили.
– В таком случае пойдемте в анатомический театр, господин Марат.
– Тем более что это отсюда в двух шагах, а в следующем здании помещается больница, поэтому нам нужно будет лишь зайти и выйти. Вы можете подождать меня у двери.
– Напротив, я хочу пойти с вами – вы скажете мне ваше мнение об этом случае.
– О течении болезни, сударь?
– Нет, о самом трупе.
– Эй, сударь, берегитесь, – с улыбкой отозвался Марат, – тут я могу одержать над вами верх, так как в этой отрасли довольно силен и, как утверждают, недурной анатом.
– Гордыня, гордыня, опять гордыня, – прошептал Бальзамо.
– Что вы сказали? – осведомился Марат.
– Я сказал: посмотрим, сударь, – ответил Бальзамо. – Выходите же.
Марат свернул в тесный проулок, который вел к анатомическому театру, расположенному в конце улицы Отфей.
Бальзамо уверенно шел за ним следом, пока в длинном, узком зале они не увидели на мраморном столе два трупа – мужской и женский.
Женщина была молода, мужчина – стар и плешив; оба тела были до подбородка укрыты дрянным саваном.
На ледяной постели лежали бок о бок двое: в этом мире они, возможно, никогда не виделись, и души их, странствующие в вечности, были бы, наверное, весьма удивлены тем, в какое соседство попали их смертные оболочки.
Марат одним движением откинул грубую тряпку, прикрывавшую двух несчастных, которых смерть сделала равными перед скальпелем хирурга.
Трупы были обнажены.
– Вас не отталкивает зрелище мертвых тел? – с обычной бравадой осведомился Марат.
– Оно меня печалит, – ответил Бальзамо.
– Это оттого, что у вас нет привычки, – пояснил Марат. – А я вижу эту картину каждый день и уже не испытываю ни печали, ни отвращения. Жизнь у нас, практикующих врачей, проходит рядом с мертвыми, но это нисколько не мешает ее обычному течению.
– Такова печальная привилегия вашей профессии, сударь.
– И потом, – продолжал Марат, – с какой стати мне печалиться или испытывать отвращение? От печали меня спасают размышления, от отвращения – привычка.
– Объясните, что вы имеете в виду, – попросил Бальзамо, – я что-то плохо вас понял. Сначала о размышлениях.
– А чего мне бояться? Почему меня должно пугать неподвижное тело, статуя, которая сделана не из камня – мрамора или гранита, а из плоти?
– То есть, по-вашему, труп есть труп, и только?
– И только.
– Вы уверены, что в нем ничего нет?
– Совершенно ничего.
– А в живом человеке?
– В нем есть движение, – надменно ответил Марат.
– А душа? Вы ничего не сказали о душе, сударь.
– Я ни разу не встречал ее в телах, которые кромсал скальпелем.
– Это потому, что вы кромсали лишь трупы.
– Отнюдь нет, сударь, я часто оперирую живых людей.
– И никакой разницы между ними и трупами вы не обнаружили?
– Да нет, я обнаружил, что живые испытывают боль. Это вы и называете душой?
– Стало быть, вы в нее не верите?
– Во что?
– В душу.
– Верю, потому что, если я захочу, могу называть ею способность человека двигаться.
– Вот это прекрасно: вы верите в существование души, и я рад этому; это все, что мне требовалось.
– Минутку, мастер, давайте условимся и не будем преувеличивать, – со своей змеиной улыбкой возразил Марат. – Ведь мы, врачи-практики, отчасти материалисты.
– Эти трупы давно остыли, – задумчиво перебил Бальзамо, – а женщина была хороша собой.
– О, да!
– В этом красивом теле была, по всей вероятности, прекрасная душа.
– Как раз нет, в этом заключалась ошибка ее создателя. Сверху мило, внутри гнило. Это тело, мастер, принадлежало мошеннице, которая была выпущена из тюрьмы Сен-Лазар [58]58
Женская тюрьма в Париже.
[Закрыть]и вскоре умерла от воспаления мозга в Отель-Дьё [59]59
Самая старая больница в Париже.
[Закрыть]. У нее длинная и весьма позорная история. Если вы назовете душою то, что побуждало к действиям эту особу, вы нанесете обиду нашим душам, которые, по-вашему, должны состоять из того же вещества, коль скоро ниспосланы оттуда же, что и душа покойницы.
– Эту душу нужно было лечить, – проговорил Бальзамо, – но она погибла из-за отсутствия единственного нужного ей лекаря – врачевателя душ.
– Увы, мастер, вот еще одна из ваших теорий. На свете есть только врачеватели тел, – с горьким смехом ответил Марат. – Погодите, мастер, с ваших губ вот-вот сорвется слово, часто встречающееся в комедиях Мольера, поэтому-то вы и улыбаетесь.
– Вовсе нет, – возразил Бальзамо, – вы ошибаетесь, да и откуда вам знать, чему я улыбаюсь. А пока что мы пришли к выводу, что трупы ничего особенного в себе не содержат, не так ли?
– И ничего не чувствуют, – добавил Марат и, приподняв голову молодой женщины, отпустил, так что она громко стукнулась о мрамор; труп при этом не шелохнулся.
– Прекрасно, – подытожил Бальзамо, – теперь пойдемте в больницу.
– Хорошо, мастер, но только прежде, если можно, я отделю от туловища эту голову – она мне очень нужна, потому что в ней гнездилось весьма любопытное заболевание. Вы позволите?
– Разумеется! – отозвался Бальзамо.
Открыв сумку, Марат достал из нее ланцет, после чего взял валявшийся в углу внушительный деревянный молоток, весь покрытый каплями крови.
Затем ловким кругообразным движением перерезав мышцы и сосуды шеи и добравшись до кости, он вставил ланцет между двумя позвонками и резко ударил по нему молотком.
Голова покатилась по столу и упала на пол. Марат поднял ее своими влажными ладонями.
Бальзамо отвернулся, не желая доставлять триумфатору чрезмерную радость.
– Придет время, – заговорил Марат, решивший, что поймал мастера на слабости, – когда какой-нибудь филантроп займется вплотную смертью, как другие занимались жизнью; он выдумает машину, которая сможет вот так, одним ударом отрубать голову, и сделает тем самым смерть мгновенной, что невозможно при ныне существующих способах казни – колесование, четвертование и повешение годны для варваров, но никак не для цивилизованных людей. Такая просвещенная страна, как Франция, должна наказывать, но не мстить. Ведь общество, которое колесует, четвертует или вешает, сначала мстит преступнику, заставляя его мучиться, а потом уж карает смертью, что, по моему мнению, уже чересчур.
– По-моему, тоже, сударь. Но какой вам видится такая машина?
– Она должна быть спокойна и бесстрастна, как сам закон; ведь палач, обязанный казнить себе подобного, волнуется, и порой у него может дрогнуть рука, как это и произошло, когда обезглавили Шале [60]60
Шале, Анри Талейран граф де (1599–1626) – фаворит Людовика XIII, уличенный в заговоре против кардинала Ришелье и казненный.
[Закрыть]и герцога Монмута [61]61
Монмут Джеймс Скотт, герцог (1649–1685) – внебрачный сын Карла II Стюарта, казненный при Якове II.
[Закрыть]. Такое никак не может случиться с машиной – из двух дубовых брусьев, по которым движется нож, например.
– И вы полагаете, сударь, что, если нож пройдет с быстротою молнии между основанием черепа и трапециевидными мышцами, смерть будет мгновенной и боль лишь секундной?
– Смерть, бесспорно, будет мгновенной, так как нож одним ударом перережет двигательные нервы. Боль будет секундной, потому что он отделит мозг, центр ощущений, от сердца, – центра жизни.
– Казнь через обезглавливание существует в Германии, сударь, – сообщил Бальзамо.
– Да, но там рубят голову мечом, а как я уже говорил, рука человека может дрогнуть.
– Такая машина есть в Италии, там нож движется в дубовом остове, и называется она маннайа.
– И что же?
– А вот что, сударь, я видел, как обезглавленные на ней люди вставали и, пошатываясь, отходили на несколько шагов от сиденья. Я, бывало, поднимал головы, скатившиеся к подножию этой машины, точно так же, как голова, которую вы держите за волосы, скатилась только что с этого мраморного стола; и вот, сказав на ухо такой голове имя, носимое при жизни ее обладателем, я видел, как глаза открываются и начинают вращаться в орбитах, словно пытаясь отыскать, кто это взывает с земли к уходящему в вечность.
– Сокращение нервов, и только.
– Разве нервы – не органы чувств?
– И что же вы из этого заключаете, сударь?
– Я заключаю, что было бы лучше, чтобы вместо машины, карающей смертью, человек искал бы способ карать, не прибегая к смерти. Общество, которое отыщет такое средство, будет самым лучшим и просвещенным, уверяю вас.
– Снова утопия! Одни утопии! – воскликнул Марат.
– На этот раз, быть может, вы и правы, – проговорил Бальзамо. – Впрочем, время нас рассудит… Но вы говорили про больницу? Пойдемте туда.
– Пойдемте.
И Марат, завернув голову женщины в свой платок, тщательно связал узлом его углы.
– Теперь я по крайней мере уверен, – сказал он, выходя, – что моим товарищам достанется лишь то, что не нужно мне.
Мечтатель и практик двинулись друг подле друга в сторону Отель-Дьё.
– Вы весьма хладнокровно и ловко обезглавили труп, сударь, – заметил Бальзамо. – Скажите, не чувствуете ли вы волнения, когда вам приходится иметь дело с живыми? Неужели страдания никак вас не задевают? Неужели к живым вы не испытываете большего сострадания, чем к мертвым?
– Нет, это было бы моим недостатком – точно так же, как палач не может позволить себе быть впечатлительным. Человека можно убить, плохо отрезав ему как ногу, так и голову. Хороший хирург оперирует не сердцем, а руками, потому что в глубине души знает, что ценою недолгих страданий он дает человеку годы жизни и здоровья. Это приятная сторона нашей профессии, мастер.
– Верно, сударь, но скажите, у живых вы, я надеюсь, встречаете душу?
– Встречаю, если вы убедите меня, что душа – это способность двигаться или ощущать; встречаю, и она часто даже мешает, поскольку убивает больше больных, чем я своим скальпелем.
Спутники подошли к порогу Отель-Дьё и вошли в больницу. Вскоре, идя вслед за Маратом, не расстававшимся со своей мрачной ношей, Бальзамо вошел в операционную, где находился главный; хирург и его ученики.
Больничные служители только что внесли в зал молодого человека, сбитого на прошлой неделе тяжелой каретой, колесом которой ему размозжило ногу. Первая операция, сделанная в спешке, пока к ноге не вернулась чувствительность, успехом не увенчалась; воспаление быстро развивалось; надо было срочно произвести ампутацию.
Лежавший на ложе болезни несчастный с ужасом, который тронул бы и тигра, смотрел на кровожадных мучителей, выжидавших, когда начнутся его терзания, быть может, даже агония, чтобы продолжить изучение жизни, дивного феномена, за которым прячется другой феномен, но уже печальный – смерть.
Казалось, молодой человек просил у хирургов, учеников и служителей хоть какого-нибудь утешения – улыбки или ласки, но сердце его повсюду наталкивалось на безразличие, а взгляд – на сталь.
Остатки отваги и гордости превратили его в немого. Он берег силы для криков, которые вскоре должна была исторгнуть у него боль.
Но когда молодой человек почувствовал на своем плече тяжелую ладонь добродушного сторожа, когда почувствовал, как руки служителей обвивают его, словно змеи Лаокоона, когда услышал, как хирург сказал ему: «Держитесь», тогда этот несчастный рискнул нарушить молчание и жалобно спросил:
– Будет очень больно?
– Да нет, не бойтесь, – ответил Марат с фальшивой улыбкой, показавшейся больному ласковой, а Бальзамо – иронической.
Марат, увидев, что Бальзамо его понял, подошел и вполголоса проговорил:
– Операция страшная: кость вся в трещинах, это невыносимо больно. Он умрет, но не от воспаления, а от боли, вот что будет стоить этому человеку его душа.
– Зачем же вы тогда оперируете, а не дадите ему спокойно умереть?
– Потому что долг врача – пытаться лечить, даже если исцеление кажется ему невозможным.
– Говорите, ему будет больно?
– Невыносимо.
– И виновата в этом душа?
– Виновата душа, которая питает слишком сильную любовь к телу.
– Тогда почему бы не сделать операцию на его душе? Ее спокойствие, быть может, принесет телу исцеление.
– А я именно это и сделал, – ответил Марат, пока больного продолжали связывать.
– Вы подготовили его душу?
– Да.
– Каким образом?
– Как обычно, с помощью слов. Я обратился к душе, уму, чувствительности – к тому, что позволило греческому философу сказать: «Боль, ты не есть зло», и выбрал приличествующие случаю слова. Я сказал ему: «Страдать вы не будете». Теперь главное, чтобы не страдала душа, а это уж ее дело. Вот единственное лекарство, которое имеется в нашем распоряжении, когда речь идет о душе, – ложь! Зачем только дана в придачу к телу эта чертова душа? Когда я только что отрезал голову, тело молчало. А ведь операция была серьезная. Но вот подите ж! Никаких движений, никакой чувствительности – душа отлетела, как выражается ваш брат спиритуалист. Поэтому-то голова, которую я отрезал, не произнесла ни слова, поэтому-то обезглавленное мною тело не оказало сопротивления, а вот тело, в котором еще обитает душа – недолго ей там оставаться, это верно, но теперь-то она еще там, – через минуту будет испускать пронзительные крики. Заткните получше уши, мастер.
Заткните, вы ведь так чувствительны к этой связи души и тела, которая будет опровергать вашу теорию до тех пор, пока теории вашей не удастся наконец разобщить тело и душу.
– Вы полагаете, что люди никогда этому не научатся?
– Попытайтесь, – предложил Марат, – вот вам удобный случай.
– Действительно, вы правы, случай удобный, поэтому я попытаюсь, – ответил Бальзамо.
– Попытайтесь, попытайтесь.
– И попытаюсь.
– Каким же образом?
– Я не хочу, чтобы этот молодой человек страдал, он внушает мне участие.
– Вы, конечно, мастер, но вы не Бог-отец и не Бог-сын, и избавить парня от страданий вам не удастся.
– А если он не будет испытывать боли, то сможет поправиться, как вы полагаете?
– Это возможно, однако не наверняка.
Бальзамо окинул Марата взглядом, полным неуловимого превосходства и, встав подле больного, взглянул в его глаза, растерянные и уже затуманенные предчувствием грядущего ужаса.
– Спите, – приказал Бальзамо не только голосом, но и взглядом, силою воли, всем жаром своего сердца, всеми флюидами тела.
В эту минуту главный хирург начал ощупывать бедро больного, показывая ученикам, насколько сильно развилось воспаление.
Услышав приказ Бальзамо, молодой человек приподнялся было немного на постели, затем вздрогнул в руках у помощника, голова его упала на грудь, глаза закрылись.
– Ему дурно, – заметил Марат.
– Нет, сударь.
– Но разве вы не видите, что он потерял сознание?
– Нет, он спит.
– Как это спит?
– Просто спит.
Все присутствующие повернулись к странному врачу, видимо, принимая его за сумасшедшего.
На губах у Марата заиграла недоверчивая улыбка.
– Скажите, при потере сознания люди обычно разговаривают? – осведомился Бальзамо.
– Нет.
– Ну так задайте ему вопрос, он ответит.
– Эй, молодой человек! – крикнул Марат.
– Кричать вовсе не обязательно, – заметил Бальзамо, – говорите обычным голосом.
– Скажите, что с вами?
– Мне приказали спать, и я сплю, – ответил пациент.
Голос его был совершенно спокоен – никакого сравнения с тем, как он звучал несколько мгновений назад.
Ассистенты переглянулись.
– А теперь отвяжите его, – велел Бальзамо.
– Это невозможно, – возразил главный хирург, – одно движение и операция пойдет насмарку.
– Он не шелохнется.
– А кто мне поручится в этом?
– Я, а потом он сам. Да вы спросите у него.
– Можно ли вас развязать, друг мой?
– Можно.
– И вы обещаете не шевелиться?
– Обещаю, если вы мне это прикажете.
– Приказываю.
– Ей-богу, сударь, – проговорил главный хирург, – вы говорите с такой уверенностью, что меня так и подмывает попробовать.
– Не бойтесь, попробуйте.
– Отвяжите его, – распорядился хирург.
Помощники выполнили приказ. Бальзамо подошел к изголовью кровати.
– Начиная с этой минуты не двигайтесь, пока я вам не позволю.
После этих слов молодого человека охватило такое оцепенение, что с ним не сравнилась бы и каменная статуя на надгробье.
– Теперь можете приступать, – сказал Бальзамо, – больной вполне готов.
Хирург взял скальпель, но в последнюю секунду заколебался.
– Режьте, сударь, говорю вам, режьте, – с вдохновенным видом пророка промолвил Бальзамо.
Хирург, оказавшийся в его власти, также как Марат, больной и все остальные, приблизил сталь к плоти.
Плоть заскрипела, но больной даже не охнул, не шевельнулся.
– Из каких вы краев, друг мой? – полюбопытствовал Бальзамо.
– Из Бретани, сударь, – ответил пациент и улыбнулся.
– Вы любите свою родину?
– Ах, сударь, там у нас так хорошо!
Тем временем хирург начал делать кольцеобразный надрез, посредством которого при ампутации обнажают кость.
– Вы давно уехали из родных мест? – продолжал расспрашивать Бальзамо.
– Когда мне было десять лет, сударь.
Хирург закончил надрез и приблизил к кости пилу.
– Друг мой, – попросил Бальзамо, – напойте ту песенку, что поют батские солевары, возвращаясь вечером с работы. Я помню лишь первую строчку:
В солеварне белой соли…
Пила вгрызлась в кость.
Однако больной улыбнулся и, повинуясь просьбе Бальзамо, запел – мелодично, медленно, восторженно, словно влюбленный или поэт:
В солеварне белой соли,
Облакам над головой,
Ветерку на вольной воле,
И гречихе полевой,
И моей хозяйке милой,
И детишкам у дверей,
И фиалкам над могилой
Доброй матушки моей —
Поклонюсь я низко, низко,
Я домой вернулся вновь.
Кончен труд, веселье близко,
Ты со мной, моя любовь!
Когда нога упала на постель, больной все еще пел.







