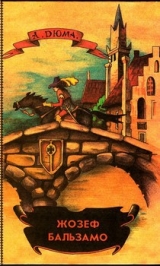
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 47 страниц)
116. ОТЕЦ И ДОЧЬ
В конце аллеи Андреа и впрямь увидела маршала и отца, которые прохаживались перед домом в ожидании девушки.
Оба друга сияли и держались за руки: более точной копии Ореста и Пилада [75]75
Персонажи древнегреческой мифологии, ставшие символом верных друзей.
[Закрыть]при дворе невозможно было сыскать.
Завидя Андреа, старики еще более возрадовались и принялись обмениваться замечаниями относительно ее сияющей красоты, которой гнев и быстрая ходьба придали еще более неповторимый блеск.
Маршал поздоровался с Андреа так, словно девушка была уже всеми признанной г-жой Помпадур. Это не ускользнуло от барона и весьма его обрадовало, однако подобная смесь почтения с весьма вольными любезностями удивила Андреа: ловкий придворный умел вложить в одно-единственное приветствие столько нюансов, сколько Ковьель [76]76
Персонаж комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», продувной слуга.
[Закрыть]– французских фраз в одно-единственное турецкое слово.
Андреа присела перед маршалом и отцом в церемонном реверансе, после чего изящно и любезно пригласила их подняться к ней в комнату.
Маршал выразил восхищение по поводу опрятности жилища девушки – единственной роскоши в обстановке и убранстве этого уголка. С помощью цветов и небольшого количества белого муслина Андреа сумела превратить свою унылую комнатку не во дворец, но в храм.
Маршал уселся в кресло, обитое зеленым кретоном с вытканными на нем крупными цветами, под высокой вазой китайского фарфора, из которой свешивались душистые гроздья акации и кленовых листьев вперемешку с ирисами и бенгальскими розами.
Барон де Таверне занял такое же кресло, а Андреа присела на складной стул и облокотилась о клавесин, также украшенный цветами, стоявшими в большой вазе саксонского фарфора.
– Мадемуазель, – начал маршал, – я приехал, чтобы от имени его величества передать вам те комплименты, которые были высказаны слушателями вчерашней репетиции по поводу вашего очаровательного голоса и безупречного музыкального таланта. Государь побоялся, что вызовет всеобщую ревность, если станет вас при всех расхваливать. Поэтому он поручил мне выразить вам благодарность за доставленное удовольствие.
Андреа зарделась и стала столь хороша собою, что маршал продолжал уже как бы от своего имени:
– Король заверил меня, что никогда еще среди его придворных не было особы, которая была бы в той же степени, что вы, мадемуазель, одновременно одарена умом и счастливой внешностью.
– Вы забыли о сердце, – просияв, вставил барон. – Андреа – образцовая дочь.
На секунду маршалу показалось, что его друг вот-вот расплачется. В восхищении от подобного излияния отцовских чувств он воскликнул:
– Сердце! Увы, дорогой мой, вы один можете судить о той нежности, коей преисполнено сердце мадемуазель. Будь мне двадцать пять лет, я положил бы к ее ногам и свое сердце, и состояние.
Андреа еще не умела хладнокровно выслушивать любезности придворных и лишь пробормотала что-то невнятное.
– Мадемуазель, – тем временем продолжал маршал, – король просил вас позволить ему засвидетельствовать вам свою признательность и поручил господину барону, вашему отцу, передать вам знак этой признательности. А теперь скажите: что мне передать в ответ его величеству?
– Сударь, – отозвалась Андреа, видевшая в том, что она собиралась сказать, лишь дань уважения подданной к своему королю, – благоволите уверить его величество в моей признательности. Передайте его величеству, что он слишком добр, и что я недостойна внимания столь могущественного монарха.
От этих слов, произнесенных девушкой твердо и уверенно, Ришелье пришел в восторг.
Он взял руку Андреа, почтительно ее поцеловал и заметил:
– Ручка королевы, ножка феи… Ум, воля, чистота… Ах, барон, какое сокровище! Да, ваша дочь – истинная королева!
С этими словами маршал откланялся и оставил Андреа наедине с отцом, который, сам того не замечая, пыжился от гордости и надежд.
Увидев, как этот приверженец старых философских теорий, этот скептик и гордец всею грудью вдыхает спертый воздух королевских милостей, любой сказал бы, что Господь замесил из одного теста и ум и сердце барона де Таверне.
По поводу происшедших с ним перемен барон мог бы ответить лишь одно: «Изменился не я, изменилось время».
Слегка смущенный, он сидел подле Андреа; устремив на него свой глубокий, как морская пучина, взгляд, девушка с той же непоколебимой безмятежностью спросила:
– Сударь, кажется, господин Ришелье говорил, что его величество передал для меня знак своей признательности. Что это, скажите?
– Ага, ей стало любопытно, – пробормотал барон. – Никогда бы не поверил. Ну что ж, черт возьми, тем лучше!
Он медленно извлек из кармана данный ему накануне маршалом футляр – так добрый папаша достает кулек конфет или игрушку, которую детские глаза уже давно заприметили у него в кармане.
– Вот, прошу, – проговорил барон.
– Ах! Драгоценности! – вырвалось у Андреа.
– Они вам по вкусу?
В футляре был весьма дорогой жемчужный гарнитур. Нитки жемчуга были связаны между собою дюжиной крупных брильянтов; брильянтовый фермуар, серьги, а также нитка брильянтов для украшения прически стоили не менее тридцати тысяч экю.
– Боже мой, отец! – воскликнула Андреа.
– Что такое?
– Это слишком красиво, король ошибся. Мне будет стыдно все это надеть. Да и разве есть у меня туалеты, с которыми можно носить такие брильянты?
– Она еще жалуется! – насмешливо заметил де Таверне.
– Сударь, вы не понимаете… Мне жаль, что я не могу носить эти драгоценности, поскольку они слишком прекрасны.
– Король, подаривший вам этот гарнитур, обладает достаточным могуществом, чтобы подарить также и платья.
– Но, сударь… Королевская доброта…
– А не кажется ли вам, что я заслужил ее своими трудами? – осведомился барон.
– Ах, сударь, простите, это верно, – склонив голову, согласилась Андреа, не до конца, впрочем, убежденная.
После секундного раздумья она захлопнула футляр и сказала:
– Нет, я не стану носить эти брильянты.
– Но почему? – вскричал обеспокоенный де Таверне.
– Потому что вы, отец, так же, как и мой брат, нуждаетесь во всем необходимом, и стоит мне подумать о ваших затруднениях, как эта роскошь начинает резать мне глаза.
Барон пожал дочери руку и улыбнулся.
– О, пусть это вас не заботит, дочь моя. Для меня король сделал даже больше, нежели для вас. Мы сейчас в фаворе, милое дитя. А вы будете непочтительной подданной и неблагодарной женщиной, если появитесь перед королем без украшений, которые его величество соизволил вам пожаловать.
– Хорошо, сударь, будь по-вашему.
– Да, но повиноваться вы должны с радостью. А вам словно не по вкусу этот гарнитур.
– Я не разбираюсь в драгоценностях, сударь.
– Да будет вам известно, один этот жемчуг стоит пятьдесят тысяч ливров.
Андреа всплеснула руками и воскликнула:
– Очень странно, что его величество сделал мне подобный подарок – сами, сударь, подумайте.
– Не понимаю вас, сударыня, – сухо откликнулся барон.
– Уверяю вас, сударь, если я стану носить эти камни, то удивлю всех вокруг.
– Почему? – тем же тоном поинтересовался де Таверне, и глаза дочери опустились перед его повелительным и холодным взглядом.
– Мне будет совестно.
– Признайтесь, мадемуазель, что с вашей стороны было бы по меньшей мере странно терзаться угрызениями совести там, где я не вижу для этого никаких оснований. Вот так невинность, прозревающая скрытое зло там, где никто его не замечает! Вот так простодушная и целомудренная девица, вогнавшая в краску такого старого гренадера, как я!
От смущения Андреа спрятала лицо в своих изящных ладонях с перламутровыми ноготками.
– О брат мой, почему ты так далеко? – тихонько прошептала она.
Услышал ли старый барон эти слова или просто догадался благодаря своей поразительной проницательности, уже известной читателю? Кто знает… Во всяком случае он мгновенно сменил тон и, взяв руки Андреа в свои, проговорил:
– Послушайте, дитя мое, разве ваш отец – не друг вам?
И сразу нежная улыбка пробилась сквозь тучи, омрачавшие прекрасное лицо девушки.
– Разве я нахожусь рядом с вами не для того, чтобы любить вас, чтобы помогать вам советом? Разве вы не испытываете гордости за то, что участвуете в судьбе брата и моей?
– О да, – согласилась девушка.
Барон остановил на дочери полный ласки взгляд.
– Как только что сказал господин де Ришелье, – продолжал он, – вы будете королевой Таверне. Король вас отличил… Ее высочество дофина – также, – поспешно добавил он. – Находясь в узком кругу августейших особ, вы будете строить наше будущее, украшая своим присутствием их жизнь. Дружить с дофиной, дружить… с королем – вот это слава! Вы наделены замечательными способностями и несравненной красотой, ум у вас здоровый, ему неведомы скупость или честолюбие. О дитя мое, какую роль вы сможете играть! Помните молоденькую девушку, что скрашивала последние дни жизни Карла Шестого [77]77
Имеется в виду Одетта де Шандивер, дочь конеторговца, возлюбленная полубезумного французского короля Карла VI (1368–1422), нежно заботившаяся о помешанном в последние годы его жизни.
[Закрыть]? Ее имя во Франции священно. А Аньес Сорель [78]78
Сорель, Аньес (1422–1450) – фаворитка Карла VII, оказавшая на него сильное и благотворное влияние.
[Закрыть], восстановившая честь французской короны? Ее память чтят все добрые французы… Андреа, вы станете опорой старости нашего прославленного монарха. Он будет лелеять вас, словно собственную дочь, и вы будете править Францией по праву красоты, отваги и верности.
Глаза Андреа расширились от изумления. Барон, не давая ей опомниться, продолжал:
– Этих падших женщин, которые бесчестят трон, вы прогоните одним взглядом, ваше присутствие очистит двор. Именно вашему благородному влиянию знать королевства будет обязана возвращением добропорядочности, учтивости, подлинной галантности. Дочь моя, вы можете и должны стать светочем возрождения нашей страны и венцом славы нашей фамилии.
– Но что мне нужно для этого делать? – пролепетала ошеломленная Андреа.
Барон задумался.
– Андреа, – наконец заговорил он, – я не раз говорил вам, что в этом мире, чтобы склонить людей к добродетели, нужно заставить их полюбить ее. Добродетель угрюмая, унылая и нравоучительная отпугивает даже тех, кто всей душой стремится к ней приблизиться. Снабдите же вашу добродетель приманками кокетства, даже порока. Для такой ловкой и остроумной девушки, как вы, это нетрудно. Сделайтесь несравненно прекрасной, чтобы двор говорил лишь о вас. Сделайтесь несравненно приятной для королевских очей, чтобы государь был не в силах пройти мимо. Сделайтесь несравненно скрытной и осторожной со всеми, кроме его величества, чтобы вам поскорее приписали могущество, каким вы в недалеком будущем станете обладать.
– Я не совсем поняла ваш последний совет, – заметила Андреа.
– Позвольте мне руководить вами, слушайтесь меня и не старайтесь понять – для столь послушного и великодушного создания, как вы, так будет лучше. Кстати, чтобы вы смогли осуществить мой первый совет, я должен позаботиться о вашем кошельке. Возьмите эту сотню луидоров и обзаведитесь туалетами, достойными места, которое предназначено для вас с тех пор, как король соизволил нас отличить.
Барон отдал дочери деньги, поцеловал ей руку и удалился. Устремившись поспешно по аллее, по которой он пришел сюда, г-н де Таверне не заметил в глубине рощи Амура Николь, которая была погружена в беседу с неким господином, что-то шептавшем ей на ухо.
117. О ТОМ, ЧЕГО НЕДОСТАВАЛО АЛЬТОТАСУ ДЛЯ ЭЛИКСИРА ЖИЗНИ
На другой день после описанного разговора около четырех часов пополудни Бальзамо сидел в своем кабинете на улице Сен-Клод и читал только что врученное ему Фрицем письмо.
Как он ни крутил листок бумаги, но подписи на письме так и не нашел.
– Почерк мне знаком, – проговорил Бальзамо, – размашистый, неровный и чуть дрожащий, а в тексте много орфографических ошибок.
Он опять перечитал послание:
«Господин граф!
Особа, советовавшаяся с Вами перед падением последнего министерства, а также еще один раз, задолго до этого, прибудет сегодня, чтобы получить от Вас еще один совет. Позволят ли Ваши многочисленные занятия уделить ей полчаса между четырьмя и пятью вечера?»
В который раз перечтя письмо, Бальзамо вновь вернулся к своим размышлениям.
«За такой малостью нет смысла обращаться к Лоренце, да и разве я не могу догадаться сам? Почерк размашистый – признак руки аристократа, неровный и дрожащий – признак старости, множество ошибок – значит, писал придворный.
Ну и глупец же я! Да ведь это письмо от герцога де Ришелье! Разумеется, я найду для вас, господин герцог, полчаса; я найду и час, и целый день. Распоряжайтесь моим временем, как своим собственным. Разве вы, сами того не ведая, не являетесь одним из моих тайных агентов, одним из дружественных мне демонов? Разве не преследуем мы одну и ту же цель? Разве не расшатываем мы с вами вместе монархию, вы – как ее вдохновитель, я – как ее враг?
Приходите, господин герцог, приходите».
Тут Бальзамо достал часы и посмотрел, сколько ему осталось дожидаться герцога.
В этот миг вверху, в потолочном карнизе, зазвенел звонок.
– Что это? – вздрогнув, проговорил Бальзамо. – А, меня зовет Лоренца. Она хочет меня видеть. Не случилось ли с ней чего? А может быть, снова проявляет свой норов, свидетелем, а то и жертвой которого я часто бываю? Вчера она была очень задумчива, покорна и нежна – вот такой я ее люблю. Бедное дитя! Впрочем, надо идти.
Бальзамо запахнул халат, спрятав под ним расшитую сорочку и кружевное жабо, взглянул в зеркало, дабы удостовериться, что прическа в порядке, и, ответив звонком на звонок Лоренцы, направился к лестнице.
Однако, оказавшись в комнате, смежной со спальней молодой женщины, он по обыкновению скрестил руки на груди и, повернувшись в сторону, где, по-видимому, находилась Лоренца, всей силою своей не ведающей преград воли приказал ей спать.
Затем, словно еще сомневаясь, а может быть, из излишней осторожности он приник к незаметной щелке в стене.
Лоренца спала на диване, на который секунду назад упала, повинуясь воле своего повелителя. Более поэтичной позы не смог бы выдумать никакой художник. Волнуемая и томимая мощным потоком посланных Бальзамо флюидов, она была похожа на Ариадну кисти Ванло [79]79
Ванло, Шарль Андре (1705–1765) – выдающийся французский художник.
[Закрыть]: вздымающаяся грудь, трепещущее тело, искаженное отчаянием или усталостью лицо.
Обычным путем войдя в спальню к девушке, Бальзамо остановился перед нею, залюбовавшись ее красотой, однако тут же решил ее разбудить: в таком состоянии она была слишком опасна.
Едва открывшись, глаза Лоренцы вспыхнули; затем словно для того, чтобы привести в порядок неясные мысли, она провела ладонями по волосам, облизнула влажные чувственные тубы и, заглянув в глубины памяти, собрала рассеявшиеся воспоминания.
Бальзамо не без тревоги наблюдал за Лоренцей. Он давно уже привык к ее резким переходам от любовной нежности к взрывам гнева и отвращения. Нынешняя задумчивость Лоренцы, которая прежде была ей не свойственна, хладнокровие, с каким она его встретила, вместо того чтобы вспыхнуть от ненависти, – все это указывало на нечто более серьезное из всего, что ему приходилось видеть до сих пор.
Лоренца выпрямилась, покачала головой и, устремив на Бальзамо взгляд своих бархатных глаз, попросила:
– Сядьте подле меня, прошу вас.
Услышав непривычно мягкий голос, Бальзамо вздрогнул.
– Сесть? – воскликнул он. – Ты же знаешь, Лоренца, что у меня одно лишь желание – провести всю жизнь у твоих ног.
– Сударь, – тем же тоном возразила Лоренца, – прошу вас сесть. Разговор нам предстоит недолгий, но, пожалуй, мне все же легче будет говорить, если вы сядете.
– Сегодня, как и всегда, милая Лоренца, я сделаю так, как ты пожелаешь.
И Бальзамо опустился в кресло рядом с сидевшей на диване девушкой.
– Сударь, – устремив на Бальзамо ангельский взор, проговорила Лоренца, – я позвала вас, чтобы попросить о милости.
– О, Лоренца, все, что ты только попросишь! – обрадованно воскликнул Бальзамо.
– Я попрошу лишь об одном, но предупреждаю: это самое мое горячее желание.
– Говорите же, Лоренца, говорите, пусть это будет стоить мне всего состояния, пусть это будет стоить мне полжизни.
– Это не будет стоить вам ничего, кроме минуты времени, – ответила молодая женщина.
Бальзамо, радуясь, что разговор принял столь легкий оборот, и призвав на помощь свое богатое воображение, пытался угадать желания, которые может высказать Лоренца и, главное, которые он сможет исполнить.
«Она попросит, – прежде всего пришло ему на ум, – служанку или компаньонку. Что ж, это огромная жертва, поскольку мои тайны и мои друзья окажутся под угрозой, но я пойду на эту жертву: бедная девочка так одинока и несчастна».
– Говорите же, Лоренца, – нежно улыбнувшись, сказал он вслух.
– Сударь, вы знаете, что я умираю от тоски и печали, – начала девушка.
В знак согласия Бальзамо кивнул и испустил глубокий вздох.
– Молодость моя гибнет, – продолжала Лоренца, – мои дни – сплошные рыдания, ночи – нескончаемый ужас. Я старею от одиночества и тоски.
– Вы сами уготовили себе такую жизнь, Лоренца, – ответил Бальзамо, – и не моя вина в том, что жизнь эта, столь для вас печальная, не стала королевской.
– Пусть будет так. Но вы видите, что я принадлежу вам.
– Благодарю вас, Лоренца.
– Я не раз слышала от вас, что вы – добрый христианин, хотя…
– Хотя вы считаете меня заблудшей душою, хотите вы сказать. Я правильно закончил вашу мысль?
– Не прерывайте меня, сударь, и не стройте никаких предположений, прошу вас.
– Говорите дальше.
– Так вот, чтобы гнев и отчаяние больше не терзали меня, позвольте мне – я ведь все равно ни для чего вам не нужна…
Девушка остановилась и взглянула на Бальзамо, но тот уже овладел собою, и она встретила лишь холодный взор и нахмуренные брови.
Несмотря на угрозу, горевшую в его глазах, Лоренца оживилась и продолжала:
– Позвольте мне – нет, не выйти на свободу, я знаю, что Божьей, а точнее, вашею волей, которая кажется мне безграничной, я осуждена всю жизнь быть пленницей, – позвольте мне видеть людские лица, слышать не один ваш голос, позвольте мне выходить, гулять, существовать, наконец.
– Я предвидел это ваше желание, Лоренца, – взяв девушку за руку, отозвался Бальзамо, – и вы знаете, что уже давно я сам желаю того же.
– Но тогда… – вскричала молодая женщина.
– Однако вы сами убедили меня, что это невозможно, – продолжал Бальзамо. – Я, как и все, кто любит, совершил безумство и посвятил вас в некоторые из своих научных и политических тайн. Вам известно, что Альтотас нашел философский камень и ищет эликсир жизни – это научные тайны. Вам известно, что я и мои друзья готовим заговор против монархий мира – это тайна политическая. За одну из них меня могут сжечь как чародея, за другую – колесовать как государственного изменника. А вы, Лоренца, мне угрожали, вы говорили, что пойдете на все, чтобы обрести свободу, а обретя ее, первым делом донесете на меня господину де Сартину. Говорили вы так или нет?
– Чего же вы хотите? Порой я прихожу в отчаяние и тогда… тогда я теряю рассудок.
– А сейчас вы спокойны? Вы достаточно благоразумны для того, чтобы продолжать наш разговор?
– Надеюсь, да.
– Если я предоставлю вам требуемую вами свободу, будете ли вы мне преданной и покорной женою с верной и нежной душой? Вы же знаете, Лоренца, это мое самое сильное желание.
Молодая женщина молчала.
– Ну хоть любить-то вы меня будете? – вздохнув, продолжал Бальзамо.
– Я не хочу давать обещаний, которых потом не сумею сдержать, – ответила наконец Лоренца. – Ни любовь, ни ненависть от нас не зависят. Я лишь надеюсь, что Господь, чтобы отблагодарить вас за добрый поступок, сделает так, что ненависть покинет мое сердце и на ее место придет любовь.
– Чтобы я мог вам довериться, такого обещания, увы, недостаточно, Лоренца. Мне нужно, чтобы вы дали священную клятву, нарушение которой было бы святотатством, клятву, которая связывала бы нас и на этом свете, и на том и нарушение которой повлекло бы вашу смерть здесь и вечное проклятье – там.
Лоренца молчала.
– Вы готовы дать такую клятву?
Лоренца закрыла лицо руками; грудь ее вздымалась под напором разноречивых чувств.
– Поклянитесь, Лоренца, но так, чтобы я сам подсказал вам слова клятвы, сам обставил ее надлежащими условиями, – и вы свободны.
– В чем же я должна поклясться, сударь?
– В том, что никогда и ни при каких обстоятельствах вы не расскажете ничего из услышанного вами о научных занятиях Альтотаса.
– В этом я готова поклясться.
– Вы должны поклясться и в том, что ни слова из того, что вы узнали о нашей политической деятельности, никогда не сорвется с ваших уст.
– Я поклянусь и в этом.
– В той форме, какую я вам укажу.
– Да. Это все?
– Нет, осталось главное. От этих клятв зависит только моя жизнь, а от той, о которой я сейчас скажу, зависит мое счастье. Поклянитесь, что никогда не расстанетесь со мною, Лоренца. Поклянитесь – и вы свободны.
Молодая женщина вздрогнула, словно кто-то прикоснулся ей к сердцу ледяным железом.
– А какова будет форма этой клятвы?
– Мы вместе отправимся в церковь и причастимся одною облаткой. На этой облатке вы поклянетесь никогда ничего не рассказывать об Альтотасе и моих товарищах. Вы поклянетесь также никогда со мною не разлучаться. Мы разломим облатку пополам, и каждый съест свою половину, обещая Господу Богу: вы – никогда меня не предать, я – всегда заботиться о вашем счастье.
– Но такая клятва кощунственна, – возразила Лоренца.
– Клятва может быть кощунственной лишь тогда, – печально проговорил Бальзамо, – когда ее дают, не собираясь сдержать.
– Я не дам такой клятвы, – настаивала Лоренца. – Иначе мне будет слишком страшно за свою душу.
– Повторяю, не клятва грозит вашей душе, а ее нарушение, – повторил Бальзамо.
– Нет, такой клятвы я не дам.
– Тогда наберитесь терпения, Лоренца, – без гнева, но скорбно вздохнул Бальзамо.
Лицо Лоренцы потемнело – так темнеет заросший цветами луг, когда между ним и небесами пробегает туча.
– Итак, вы мне отказываете? – спросила она.
– Напротив, Лоренца, вы сами отказываетесь.
По телу молодой женщины пробежало болезненное содрогание, единственный признак ярости, бушевавшей у нее в груди.
– Послушайте, Лоренца, – сказал Бальзамо, – я все-таки могу кое-что для вас сделать, причем немало.
– Говорите, – с горькой улыбкой отозвалась молодая женщина. – Посмотрим, как далеко простирается ваше хваленое благородство.
– Господь, случай или рок – это как вам будет угодно – связал нас нерасторжимыми узами; давайте же не будем пытаться разорвать их, пока мы живы, это под силу лишь смерти.
– Полно, все это я уже слышала, – нетерпеливо перебила она.
– Так вот, Лоренца, через неделю, чего бы это мне ни стоило и чем бы это мне ни грозило, у вас будет компаньонка.
– Где будет? – спросила девушка.
– Здесь.
– Здесь! – вскричала она, – здесь, за этими решетками, за этими запертыми железными дверями, у меня будет компаньонка? А почему не надсмотрщица? Не кажется ли вам, сударь, что я просила вас вовсе не об этом?
– Тем не менее это единственное, на что я могу согласиться.
Молодая женщина сделала жест, в котором уже явно сквозило раздражение.
– Друг мой, – мягко возразил Бальзамо, – подумайте хорошенько: ведь вдвоем вам будет легче сносить эту неизбежную тяжесть.
– Ошибаетесь, сударь, до сих пор я переносила только свое горе, но не горе другого человека. Мне не хватало лишь этого испытания, и я вижу, что вы собираетесь подвергнуть меня и ему. Да, вы поместите рядом со мною жертву, такую же, как я, и я стану наблюдать, как вместе со мною она чахнет, бледнеет и угасает от горя; я буду слышать, как она, подобно мне, бьется об эту стену, об эту зловещую дверь, которую я тысячу раз искала ощупью, чтобы узнать, откуда вы сюда входите; и когда новая жертва, моя компаньонка, испробует собственными ногтями крепость этого дерева и мрамора в попытках их разрушить; когда веки ее, подобно моим, истончатся от слез; когда она умрет, как уже умерла я, и у вас будут два трупа вместо одного, тогда вы в своей дьявольской доброте скажете: «Эти юные создания развлекают друг друга, вместе они счастливы». О нет, нет, тысячу раз нет!
И Лоренца с силой топнула ногой.
Бальзамо опять попытался ее утихомирить.
– Полно вам, Лоренца, будьте спокойнее, давайте все обсудим, умоляю вас.
– И он еще хочет, чтобы я была спокойна, чтобы я что-то с ним обсуждала! Палач просит, чтобы истязаемая им жертва вела себя тихо, просит спокойствия у мученицы, которую терзает!
– Да, я прошу у вас спокойствия и кротости, потому что подобные вспышки гнева, Лоренца, ничего не изменят в вашей судьбе, просто сделают ее еще мучительней – вот и все. Согласитесь на мое предложение, и я приведу к вам компаньонку, которая будет дорожить своим рабством, потому что оно подарит ей вашу дружбу. Напрасно вы опасаетесь увидеть перед собою печальное, залитое слезами лицо – напротив, вас встретит веселая улыбка, способная разгладить морщины на вашем лбу. Послушайте, милая Лоренца, примите мое предложение – большего, клянусь, я не могу вам дать.
– Это означает, что вы поместите подле меня какую-нибудь продажную душонку, которой сообщите, что вот, дескать, живет там несчастная безумица, осужденная умереть; вы придумаете мне болезнь и попросите ее: «Поживите взаперти вместе с нею, будьте ей преданны, и, когда безумица умрет, я отплачу вам за ваши услуги».
– О Лоренца, Лоренца! – прошептал Бальзамо.
– Ах, вот что, я, по-видимому, ошибаюсь, не так ли? – насмешливо продолжала девушка. – Я неправильно угадала? Что ж поделаешь – я невежественна, я так плохо знаю мир и все, что в нем происходит, ну значит, вы скажете этой женщине иначе: «Следите за нею, эта безумица опасна, сообщайте мне обо всем, что она думает и делает, следите за нею, когда она бодрствует и когда она спит». За это вы дадите ей столько золота, сколько она пожелает, – оно ведь для вас ничего не стоит, вы же сами его делаете.
– Лоренца, вы заблуждаетесь; ради всего святого, прочтите лучше, что написано у меня в сердце. Ведь привести к вам компаньонку это значит поставить под удар силы столь могущественные, что вы содрогнулись бы, если бы не питали ко мне такой ненависти. Привести к вам компаньонку – я уже говорил вам об этом – значит рисковать моей безопасностью, свободой, жизнью, и все это только для того, чтобы хоть немного развеять вашу скуку.
– Скуку! – воскликнула Лоренца и расхохоталась так дико и страшно, что Бальзамо вздрогнул. – Он называет это скукой!
– Ладно, пусть будут страдания. Да, это правда, Лоренца, вы тяжко страдаете. И все же повторяю: придет день, когда всем вашим страданиям наступит конец, когда вы станете свободны и счастливы.
– А скажите, – спросила девушка, – быть может, вы согласитесь отправить меня назад в монастырь? Я дам обет.
– В монастырь?
– Я стану молиться – сначала за вас, потом за себя. Там я тоже буду взаперти, это правда, но у меня будут сад, свежий воздух, простор, наконец, кладбище, где я смогу прогуливаться меж могил и заранее подыскивать себе место. У меня будут подруги, занятые собственными несчастьями, а не моими. Позвольте мне вернуться в монастырь, и я дам вам какую угодно клятву. Монастырь, Бальзамо, я смиренно молю вас о монастыре!
– Лоренца, Лоренца, нам нельзя расставаться. Мы связаны, связаны друг с другом – понимаете вы это? Не просите меня ни о чем, что находится за пределами этого дома.
Бальзамо произнес эти слова сдержанно и мягко, но с такой непреклонностью, что Лоренца перестала настаивать.
– Значит, не хотите? – удрученно спросила она.
– Не могу.
– Это окончательно?
– Окончательно, Лоренца.
– Что ж, тогда другое дело, – улыбнувшись, промолвила она.
– О, милая Лоренца, улыбнитесь еще раз, и я сделаю для вас все, что вы пожелаете.
– Вот как? Я улыбнусь, и вы сделаете все, что я пожелаю, – при том лишь условии, что я буду делать угодное вам. Ладно, будь по-вашему. Постараюсь, насколько это в моих силах, быть благоразумной.
– Говорите же, Лоренца, говорите.
– Вы только что сказали, что настанет, мол, день, когда ты, Лоренца, перестанешь страдать, когда ты сделаешься свободной и счастливой, – ведь так?
– Верно, я так сказал, и клянусь небом, что жду этого дня с не меньшим нетерпением, чем ты.
– Этот день может наступить очень скоро, Бальзамо, – проговорила молодая женщина с таким ласковым выражением лица, какое муж видел у нее лишь во время сна. – Видите ли, дело в том, что я устала, невероятно устала, вы должны это понять – я ведь так молода, а уже перенесла столько страданий! Так вот, друг мой – вы же утверждаете, что вы мой друг, – послушайте меня: подарите мне счастливый день, о котором вы говорили, уже теперь.
– Я вас слушаю, – в невероятном смятении проронил Бальзамо.
– Я завершаю нашу беседу просьбой, которую мне следовало бы высказать с самого начала, Ашарат.
Молодая женщина вздрогнула.
– Говорите же, друг мой.
– Когда вы делали опыты на несчастных животных и твердили при этом, что они нужны для человечества, я часто замечала, что вы обладаете секретом смерти – будь то от капли яда или от взрезанной вены – и что смерть эта всегда была легкой и молниеносной; несчастные и невинные создания, осужденные, как и я, на тяготы заточения, внезапно получали свободу ценою смерти, и это было первое благодеяние, какое доставалось им с минуты их рождения. И вот…
Девушка побледнела и замолчала.
– И вот, Лоренца? – откликнулся Бальзамо.
– И вот я прошу вас, сделайте и со мною, повинуясь законам человечности, то, что вы делали иногда с несчастными животными в интересах науки, сделайте это для друга, который от всей души вас благословит, который станет в бесконечной признательности целовать вам руки, если только вы исполните его просьбу. Сделайте это, Бальзамо, я стою перед вами на коленях, я обещаю вам, что в моем последнем вздохе будет больше любви и радости, чем вам удалось пробудить во мне за всю мою жизнь, я обещаю вам, что покину эту землю с чистой и сияющей улыбкой. Бальзамо, заклинаю вас душой вашей матери, кровью Господа нашего, всем, что есть доброго, заветного и святого в мире живых и в мире мертвых, заклинаю вас, Бальзамо, убейте, убейте меня!
– Лоренца! – воскликнул Бальзамо, обнимая женщину, вскочившую на ноги. – Лоренца, ты бредишь! Убить тебя – мою любовь, мою жизнь!
Отчаянным усилием Лоренца вырвалась из объятий Бальзамо и упала на колени.
– Я не встану, пока ты не согласишься выполнить мою просьбу, – продолжала она. – Убей меня – незаметно, легко и безболезненно; ты же говоришь, что любишь меня, – так даруй же мне милость и усыпи меня, как ты часто это делал, но только не дай мне пробудиться и снова вкусить отчаяние.
– Лоренца, друг мой, – проговорил Бальзамо, – ради Бога, разве вы не видите, что разрываете мне сердце? Как! Неужели вы до такой степени несчастны? Полно, Лоренца, опомнитесь, не нужно предаваться отчаянию. Увы! Неужели вы и впрямь меня ненавидите?
– Я ненавижу рабство, оковы, одиночество, а вы сделали меня рабой, несчастной и одинокой, значит, я ненавижу и вас.
– Но я же слишком люблю вас, чтобы видеть, как вы умираете. Лоренца, вы не умрете, я займусь вашим врачеванием, и – это будет самое трудное из того, что мне приходилось делать до сих пор, – я заставлю вас любить жизнь.







