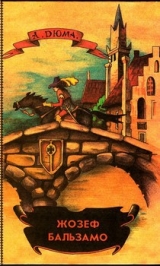
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 47 страниц)
– Что это? – пробормотал он, но достаточно громко, чтобы стало понятно, что вопрос этот задан отнюдь не себе, а старику.
– Это? – переспросил Альтотас.
– Да, это.
– Лента для волос.
– А волосы – в чем эти волосы?
– Ты же сам видишь – в крови.
– В какой крови?
– Проклятье! Да в крови, которая нужна мне для эликсира, в крови, в которой ты мне отказывал и которую мне из-за твоего отказа пришлось добывать самому.
– Но где вы взяли эти волосы, эту косу, эту ленту? Это волосы не младенца.
– А кто тебе сказал, что я зарезал младенца? – спокойно поинтересовался Альтотас.
– Но разве вам не нужна была для эликсира кровь младенца? – вскричал Бальзамо. – Вы же сами мне говорили!
– Или девственницы, Ашарат. Девственницы.
Альтотас протянул иссохшую руку к подлокотнику кресла, взял какой-то флакончик, поднес ко рту и с наслаждением принялся смаковать его содержимое.
Затем прочувственным голосом он обратился к Бальзамо:
– Ты молодец, Ашарат. Ты проявил мудрость и предусмотрительность, оставив эту девушку в той комнате, где я смог добраться до нее. Человечеству нет оснований негодовать, закону не за что зацепиться. Хе-хе! Ты не добыл для меня девственницу, без крови которой я погиб бы, я сам добыл ее. Хе-хе! Спасибо, дорогой ученик! Спасибо, Ашарат!
И он снова поднес флакон к губам.
Бальзамо выронил косу из рук, с глаз его спала пелена.
Прямо перед ним на огромном мраморном столе старика, вечно заваленном растениями, книгами, разнообразными пузырьками, под белой камчатной простыней, затканной темными цветами, в красноватом свете, который бросала лампа Альтотаса, зловеще вырисовывалось некое продолговатое тело, и Бальзамо только сейчас обратил на это внимание.
Он схватил простыню за угол и резко сорвал ее.
Волосы его поднялись дыбом, он хотел крикнуть, но крик замер в горле.
Он увидел на столе труп Лоренцы; лицо ее было мертвенно бледно, и, однако, на нем застыла улыбка, а голова была откинута назад, словно от тяжести длинных волос.
Над ключицей зияла широкая рана, из которой уже не сочилась кровь.
Руки Лоренцы окоченели, синеватые веки смежились.
– Да, да, кровь, кровь девственницы, три последние капли артериальной крови девственницы, вот что мне было нужно, – пробормотал старик и снова приник к флакону.
– Негодяй! – крикнул Бальзамо, которому наконец удалось выразить в крике все свое отчаяние. – Умри же, потому что уже четыре дня она была моей возлюбленной, моей женой! Ты напрасно убил ее. Она была не девственница!
При этих словах глаза Альтотаса почти выскочили из орбит, как при ударе электрического тока, зрачки чудовищно расширились, он заскрежетал за неимением зубов деснами; рука его разжалась, флакон упал на пол и разбился вдребезги; сам же он, потрясенный, подавленный, пораженный в самое сердце, рухнул на спину и распростерся в кресле.
А Бальзамо, рыдая, склонился над мертвой Лоренцой и, приникнув губами к ее окровавленным волосам, лишился чувств.
132. ЧЕЛОВЕК И БОГ
Минуты, странные сестры, что, держась за руки, летят так медленно для несчастного и так стремительно для счастливого, безмолвно падали, складывая отяжелевшие крылья в этой комнате, где звучали вздохи и рыдания.
По одну сторону – смерть, по другую – агония.
А посередине – отчаяние, мучительное, как агония, и глубокое, как смерть.
После того душераздирающего вопля, что наконец прорвался у него сквозь горло, Бальзамо не произнес ни единого слова.
После сокрушительных слов, убивших злобную радость Альтотаса, Бальзамо не сделал ни одного движения.
А сам омерзительный старик, нежданно низвергнутый в жизнь, какую Господь уготовал всем людям, в этих новых для него обстоятельствах был похож на пораженную свинцовой дробинкой птицу, которая рухнула с высоты на гладь озера и барахтается, не в силах взмахнуть крылами.
По изумлению, написанному на его искаженном мертвенно-бледном лице, было ясно, сколь безмерно он обманут в своих надеждах.
Как только цель, к которой Альтотас стремился всеми помыслами и уже считал достигнутой, развеялась словно дым, он даже не попытался обдумать свое положение.
В его угрюмом, безмолвном отчаянии было нечто от отупения. Возможно, для того, кто не привык сопоставлять ход чужих мыслей со своими, это молчание могло бы показаться поиском выхода, но для Бальзамо, который, впрочем, даже не глядел на Альтотаса, оно означало агонию могущества, разума, жизни.
Альтотас не сводил глаз с разбившегося флакона, символа гибели его надежд; казалось, он пересчитывает тысячи осколков, которые, разлетевшись по полу, на столько же дней укоротили его жизнь; казалось, он стремится взглядом собрать разлившуюся по плитам драгоценную жидкость, которая, как он еще миг назад верил, дарует ему бессмертие.
Порой, когда мука разочарования становилась слишком острой, он обращал тусклый взор на Бальзамо, а потом переводил его на труп Лоренцы.
В эти мгновения он был похож на попавшегося в капкан зверя, которого охотник, придя поутру и обнаружив добычу, не торопится прикончить, а долго пинает ногой или же покалывает охотничьим ножом либо штыком своего ружья, а тот поднимает на него налитые кровью глаза, пылающие злобой, мстительностью, укоризной и изумлением.
«Невозможно, – говорил этот взгляд, достаточно красноречивый даже при всей своей вялости, – невероятно, чтобы виновником стольких бед, такой катастрофы, обрушившейся на меня, оказался ничтожный человек, стоящий вот тут, рядом, на коленях в ногах у столь никчемного создания, каким была эта мертвая женщина. Да разве же это не потрясение природы, науки, не катаклизм разума, если невежественный ученик взял верх над великим своим наставником? Разве не чудовищно, что какая-то песчинка вдруг остановила безудержный и бессмертный бег стремительной, величественной колесницы?»
Что же до Бальзамо, сломленного, уничтоженного, безгласного, недвижного, почти безжизненного, то еще ни одна мысль не пробилась сквозь кровавый туман, застилавший его мозг.
Лоренца, его Лоренца, его жена, кумир, существо вдвойне бесценное, потому что она была и его возлюбленной, и ангелом, Лоренца, его радость и слава, настоящее и грядущее, сила и вера, Лоренца, единственная, кого он любил, желал, к кому стремился, отныне навеки потеряна для него!
Он не рыдал, не кричал, даже не стонал.
Он даже вряд ли успел удивиться, почему столь страшное горе обрушилось на него. Он был похож на тех несчастных, кого наводнение застигает во сне, в темноте, кому снится, что их заливает вода, и вот они просыпаются, открывают глаза и, увидев у себя над головой ревущий вал, не успевают даже вскрикнуть, переходя от жизни к смерти.
В течение трех часов Бальзамо казалось, что он поглощен могилой; сквозь безграничное отчаяние он до конца досмотрел один из тех снов, что навещают усопших в беззвучной и вечной ночи гробниц.
Для него больше не было Альтотаса и значит, больше не существовали ненависть и месть.
Для него больше не было Лоренцы и значит, больше не существовали любовь и жизнь.
Сон, ночь, небытие.
Вот так угрюмо, безмолвно, бесконечно тянулось время в этой комнате, где остывала кровь, отдав свое тепло жаждавшим его атомам.
И вдруг в ночной тишине трижды прозвенел звонок.
Фриц, несомненно, знал, что хозяин находится у Альтотаса: звонок звенел именно в этой комнате.
Но хоть он и прозвенел трижды и по-особенному назойливо, звук его растворился в воздухе.
Бальзамо даже не поднял голову.
Через несколько минут звонок снова зазвенел, уже громче, однако, как и в первый раз, он не вырвал Бальзамо из оцепенения.
Спустя некоторое время, но уже меньшее, чем то, что отделяло первый сигнал от второго, раздраженный звонок прозвучал в третий раз, рассыпая по комнате раскаты резких тревожных трелей.
Бальзамо, даже не вздрогнув, медленно поднял голову, прислушиваясь с невозмутимой торжественностью мертвеца, который восстал из гроба.
Вот так, должно быть, смотрел Лазарь [110]110
Человек, воскрешенный Христом на четвертый день после погребения (Евангелие от Иоанна, 11). Дюма ошибается: Христос только раз приказал «Лазарь, иди вон», после чего тот восстал из могилы.
[Закрыть], когда голос Иисуса трижды воззвал к нему.
Звонок продолжал звенеть.
Его все возрастающая сила вырвала наконец Бальзамо из забытья.
Он опустил руку своей мертвой возлюбленной.
– Срочное известие либо большая опасность, – пробормотал Бальзамо. – Хоть бы опасность!
И он встал.
– Но зачем мне откликаться на этот зов? – продолжал он, не замечая, как похоронно звучат его слова под темным сводом мрачной комнаты. – Разве осталось в мире что-то, что могло бы меня заинтересовать или ужаснуть?
И, как бы отвечая ему, стальной язычок звонка так резко ударился о стенку бронзового колокольчика, что оборвался, упал на стеклянную реторту, та с металлическим звуком разбилась, и осколки ее разлетелись по полу.
Бальзамо решил выйти, тем паче что никто, даже Фриц, не смог бы проникнуть в комнату, где он сейчас находился.
Размеренным шагом Бальзамо подошел к пружине, нажал, встал на опускной люк и медленно опустился в комнату, украшенную шкурами.
Проходя мимо софы, он задел шаль, что упала с плеч Лоренцы, когда ее, бесчувственную, словно мертвую, утаскивал безжалостный старик.
От соприкосновения с шалью, в которой, казалось, оставалось больше жизни, чем в теле убитой Лоренцы, на лице Бальзамо проступила судорожная страдальческая гримаса.
Он схватил шаль и поцеловал ее, заглушив ею вырвавшееся рыдание.
Потом он открыл дверь на лестницу.
На верхней ступеньке его ждал побледневший, встревоженный Фриц, в одной руке он держал свечу, а второй, не переставая, дергал сонетку звонка, подстрекаемый страхом и нетерпением.
Увидев господина, он сперва обрадовался, но тут же вскрикнул от изумления и ужаса.
Бальзамо, не понимающий, отчего Фриц вскрикнул, взглядом спросил его, в чем дело.
Фриц, обычно такой почтительный, не промолвил ни слова, но осмелился взять своего господина за руку и подвел его к большому венецианскому зеркалу, что украшало верхнюю часть камина, служившего входом в комнату Лоренцы.
– Взгляните, ваше превосходительство, – сказал он, указывая Бальзамо на его отражение.
Бальзамо вздрогнул.
Губы его искривила скорбная улыбка, одна из тех улыбок, которые рождает безмерная и неутолимая мука.
Да, он понял, почему ужаснулся Фриц.
За эти три часа Бальзамо постарел на двадцать лет: пропал огонь в глазах, лицо казалось бескровным, в нем появилось выражение какой-то застывшей отупелости, вокруг рта запеклась розовая слюна, а на белоснежном батисте сорочки расплылось кровавое пятно.
Какое-то мгновение он смотрел, не узнавая себя, потом решительно глянул в глаза тому, кто отражался в зеркале.
– Да, Фриц, ты прав, – промолвил Бальзамо.
И только теперь он обратил внимание на обеспокоенное лицо верного слуги.
– Почему ты вызвал меня? – осведомился он. – Из-за них?
– Да.
– А кто это они?
– Пятеро мастеров лож, ваше превосходительство, – прошептал Фриц на ухо Бальзамо.
Бальзамо вздрогнул.
– Все пять? – спросил он.
– Да, все.
– Они здесь?
– Да.
– Одни?
– Нет, с каждым вооруженный слуга. Слуги ждут во дворе.
– Они приехали все вместе?
– Вместе, сударь, и выражают нетерпение. Поэтому я и звонил без перерыва и так громко.
Бальзамо, даже не пытаясь прикрыть кружевным жабо кровавое пятно на сорочке и привести в порядок одежду, пошел вниз по лестнице, спросив на ходу, где расположились визитеры – в гостиной или большом кабинете.
– В гостиной, ваше превосходительство, – сообщил Фриц, следуя за господином.
Только внизу он решился остановить Бальзамо.
– Ваше превосходительство не собирается дать мне какие-нибудь распоряжения? – осведомился он.
– Никаких, Фриц.
– Но, ваше превосходительство… – нерешительно пробормотал слуга.
– Да? – совершенно спокойно промолвил Бальзамо.
– Ваше превосходительство, вы выйдете к ним без оружия?
– Разумеется, без оружия.
– Даже без шпаги?
– А зачем мне шпага, Фриц?
– Не знаю, – пожал плечами преданный слуга, – но я думал… мне показалось… я боюсь…
– Все хорошо. Ступай, Фриц.
Фриц сделал несколько шагов, но тут же вернулся.
– Вы не поняли меня? – поинтересовался Бальзамо.
– Ваше превосходительство, я просто хочу сказать, что ваши двуствольные пистолеты лежат в эбеновом ларце на золоченом столике.
– Я сказал вам, ступайте, – повторил Бальзамо.
И он вошел в гостиную.
133. СУД
Фриц был прав, гости Бальзамо явно прибыли на улицу Сен-Клод не с миролюбивыми намерениями, и вид у них был не слишком благожелательный.
Пятеро верховых сопровождали дорожную карету, в которой приехали пятеро мастеров лож; пятеро мужчин, вооруженных до зубов, угрюмых и надменных, заперли ворота и встали около них караулом, всем своим видом показывая, что намерены дожидаться своих господ.
Кучер и двое лакеев, сидевшие на облучке, прятали под плащами охотничьи кинжалы и мушкеты. Все это куда больше смахивало на военную экспедицию, чем на визит.
Это ночное вторжение грозных гостей, узнанных Фрицем, этот захват дома чуть не приступом пробудили у немца опасения. Увидев в глазок столь многочисленный эскорт и догадавшись, что он вооружен, Фриц поначалу отказался всех впустить, однако показанный ему знак, неопровержимое доказательство права прибывших требовать послушания, вынудил его прекратить сопротивление. Захватив крепость, пришельцы тотчас же, как опытные военачальники, расставили посты у каждого выхода из дома, не пробуя даже скрыть свои враждебные намерения.
Мнимые слуги во дворе и в проходах, мастера лож в гостиной – все это, по мнению Фрица, не сулило ничего хорошего; вот почему он так настойчиво обрывал сонетку.
Бальзамо, ничуть не удивленный, без всяких приготовлений вошел в гостиную, где Фриц зажег все свечи, что он делал всякий раз, когда кто-нибудь являлся с визитом.
Бальзамо увидел пятерых гостей, сидящих в креслах, но ни один из них не встал при его появлении.
Тогда он, хозяин дома, обвел всех взглядом и вежливо поклонился.
Только после этого они поднялись и чинно ответили на его поклон.
Бальзамо уселся в кресло, стоящее напротив кресел гостей, не обращая внимания или делая вид, будто не обратил внимания на то, как странно расположились визитеры. Пять их кресел образовывали полукруг, подобно тому, как ставились кресла в античных трибуналах: в центре – председательствующий, возвышающийся над двумя заседателями, кресло же Бальзамо стояло напротив кресла председательствующего, иными словами, он занял место, которое предназначалось обвиняемому в суде комиций и в преторском суде.
Бальзамо не начинал разговора, как сделал бы при других обстоятельствах: он смотрел, ничего не видя, все еще находясь в состоянии мучительной сонливости, охватившей его после перенесенного потрясения.
– Как вижу, ты нас понял, брат, – обратился к нему председательствующий, то есть тот, кто занимал центральное кресло. – Однако ты задержался с приходом, и мы уже решили справиться, не следует ли поискать тебя.
– Не понимаю, – отвечал Бальзамо.
– А я думал, что ты все понял, заняв место обвиняемого.
– Обвиняемого? – чуть слышно переспросил Бальзамо и пожал плечами. – Ничего не понимаю.
– Мы поможем тебе понять, и это будет нетрудно, судя по твоей бледности, погасшему взгляду и дрожащему голосу… Да ты не слушаешь!
– Нет, слушаю, – ответил Бальзамо и потряс головой, словно прогоняя неотвязные мысли.
– Брат, ты помнишь, – продолжал председательствующий, – что в одном из последних донесений верховный комитет сообщил тебе об измене, задуманной одним из главных столпов братства?
– Возможно… да… не стану отрицать…
– Твой ответ свидетельствует, что совесть твоя нечиста, что ты в смятении. Возьми себя в руки, приободрись. Отвечай ясно и четко, как и следует в твоем безвыходном положении. Отвечай мне со всей достоверностью, которая смогла бы нас убедить, потому что мы пришли сюда без предубеждений и ненависти. Мы олицетворяем закон, а закон говорит только после того, как судья все выслушает.
Бальзамо молчал.
– Бальзамо, я вновь обращаюсь к тебе. Воспринимай это как предупреждение, каким обмениваются противники, прежде чем вступить в бой. Я буду вести бой законным, но всемогущим оружием. Защищайся.
Заседатели, видя безразличие и спокойствие Бальзамо, не без удивления переглянулись и посмотрели на председательствующего.
– Бальзамо, ты меня слышишь? – спросил тот.
Бальзамо кивнул.
– Я обращаюсь к тебе как прямодушный и благожелательный брат, дабы подготовить твой разум и дать тебе понять цель моего допроса. Ты предупрежден. Защищайся – я начинаю.
После этого предупреждения председательствующий сообщил, что братство направило в Париж пятерых своих членов для надзора за действиями человека, обвиненного в измене.
– Наши выводы исключают ошибку. Мы делаем их, и ты сам это знаешь, лишь по донесениям преданных агентов, либо на основании верных следов и улик, либо по неопровержимым приметам и знакам среди тех тайных сочетаний, которые природа открыла пока только нам. У одного из нас было видение, связанное с тобой, а нам известно, что он никогда не ошибается. Мы приняли меры предосторожности и стали за тобой следить.
Бальзамо слушал, не выказывая ни малейшего беспокойства, неясно было даже, понимает ли он, о чем ему говорят. Председательствующий продолжал:
– Следить за таким человеком, как ты, было непросто: ты всюду вхож, твоя миссия – бывать везде, где обосновались наши враги, где они имеют хоть какую-то власть. Братство предоставило в твое распоряжение все естественные средства, а они безграничны, дабы ты способствовал торжеству нашего дела. Мы долго пребывали в сомнениях, наблюдая, как тебя навещают наши враги вроде Ришелье, Дюбарри или Рогана. К тому же речь, произнесенная тобой на последнем собрании на улице Платриер, речь, полная обычных твоих парадоксов, уверила нас, что ты играешь роль, водясь с этой неисправимой породой и потворствуя ей, хотя ее следует стереть с лица земли. Какое-то время мы уважали твое таинственное поведение, надеясь на благоприятный результат, но наконец наступило отрезвление.
Бальзамо был все так же безучастен и неподвижен, и председательствующий начал терять терпение.
– Три дня назад, – объявил он, – были получены у короля пять именных указов. Их испросил господин де Сартин. Как только они были подписаны, в них поставили фамилии, и в тот же день они были предъявлены пятерым нашим главным агентам в Париже, самым верным и самым преданным братьям. Все пятеро были арестованы и препровождены – двое в Бастилию, где их посадили в секретнейшие одиночки, двое в Венсеннский замок, в каменные мешки, а один в Бисетр, в самую страшную камеру. Тебе известно об их аресте?
– Нет, – ответил Бальзамо.
– Это крайне странно при твоих отношениях с самыми могущественными людьми королевства, что отнюдь не тайна для нас. Но вот что куда страннее.
Бальзамо слушал.
– Господину де Сартину, чтобы иметь возможность арестовать этих пятерых преданных наших друзей, нужно было иметь перед глазами ту единственную запись, где перечислены их имена. Эта запись в тысяча семьсот шестьдесят девятом году была послана тебе высшим советом, и именно ты должен был принимать новых членов и немедленно давать им ту степень, какую присваивал им высший совет.
Бальзамо жестом показал, что он ничего не помнит.
– Что ж, я освежу твою память. Эти пять человек были обозначены пятью арабскими буквами, а буквам в пересланной тебе записке соответствовали имена и шифры новых братьев.
– Пусть так, – бросил Бальзамо.
– Ты признаешь?
– Все, что вам угодно.
Председательствующий взглянул на заседателей, дабы они приняли признание к сведению.
– Ну так вот, – продолжал он, – в этой же записке, единственной – ты слышишь? – которая могла выдать братьев, было и шестое имя. Ты помнишь его?
Бальзамо не отвечал.
– Это имя – граф Феникс.
– Верно, – согласился Бальзамо.
– Почему же тогда фамилии пятерых братьев оказались в именных указах, а твое произносится с почтением и ласкательством при дворе и в приемных министров? Если наши братья заслуживают тюрьмы, ты тоже заслужил ее. Что ты ответишь на это?
– Ничего.
– Я предвижу твои оправдания. Ты можешь сказать, что полиция, исходя из своих возможностей, взяла тех братьев, чьи имена безвестны, тогда как к твоему имени, имени посла, человека могущественного, она вынуждена относиться с почтением. Ты даже скажешь, что она не посмела заподозрить тебя.
– Ничего подобного я не собираюсь говорить.
– Ты сохранил гордыню, хоть и утратил честь. Эти имена полиция могла узнать, лишь прочитав конфиденциальную записку, которую направил тебе верховный совет, и вот как она ее прочитала… Ты положил ее в шкатулку. Так?
Однажды из твоего дома вышла женщина с этой шкатулкой. Ее заметили наши агенты, следившие за домом и проследовавшие за нею до самого особняка начальника полиции в Сен-Жерменском предместье. Мы могли бы предотвратить беду в самом зародыше, остановив эту женщину и забрав у нее шкатулку, и тогда нам ничто бы не угрожало. Но мы подчинились статьям устава, требующим уважать тайные способы, с помощью которых отдельные собратья стараются служить делу, даже когда такие способы выглядят как измена или опрометчивость.
Бальзамо, похоже, подтвердил это высказывание жестом, но столь неявным, что, не сиди он до того совершенно недвижно, это его движение осталось бы незамеченным.
– Женщина прошла к начальнику полиции, – продолжал председательствующий, – вручила ему ларец, и все открылось. Так было дело?
– Совершенно верно.
Председательствующий встал.
– Кто же эта женщина? – воскликнул он. – Прекрасная, пылкая, преданная тебе душой и телом, нежно влюбленная в тебя, столь же умная, хитрая, изворотливая, как те ангелы тьмы, что помогают человеку преуспеть во зле. Это Лоренца Феличани, твоя жена, Бальзамо!
Из груди Бальзамо вырвался хриплый стон отчаяния.
– Ты изобличен, – промолвил президент.
– Завершайте же, – сказал Бальзамо.
– Нет, я еще далеко не закончил. Спустя четверть часа после нее во дворец начальника полиции вошел ты. Она посеяла предательство, ты пришел пожинать награду. Она, твоя верная раба, взяла на себя совершение преступления, ты же явился изящно завершить постыдное дело. Лоренца вышла одна. Ты, разумеется, отступился от нее, не хотел подвергаться опасности, сопровождая ее, ты вышел, торжествуя, с госпожой Дюбарри, вызванной туда, чтобы услышать сведения, которые ты решил продать… Ты взошел в карету с этой потаскухой, словно корабельщик на корабль с блудницей Марией Египетской [111]111
Мария Египетская – по христианским преданиям, блудница, отправившаяся с паломниками из Александрии в Иерусалим и расплачивавшаяся с корабельщиками своим телом. В Иерусалиме после явившегося ей знамения раскаялась и стала отшельницей.
[Закрыть], ты оставил погубившие нас записи у господина де Сартина, но унес с собой шкатулку, потому что ее отсутствие разоблачило бы тебя перед нами. Но, по счастью, мы все видели! Когда нужно, Господь проливает для нас свет…
Бальзамо молча наклонил голову.
– А вот теперь я могу закончить. Братству были названы два преступника: женщина, твоя пособница, которая, хотя, возможно, неумышленно, нанесла вред нашему делу, раскрыв одну из наших тайн, а второй – ты, мастер, великий копт, луч света, трусливо спрятавшийся за спину этой женщины, чтобы предательство твое не стало явным.
Бальзамо медленно поднял бледное лицо и вперил в судей взгляд, вспыхнувший пламенем, что разгоралось в его груди с начала допроса.
– Почему вы обвиняете эту женщину? – спросил он.
– О, мы знаем, что ты попытаешься защитить ее, знаем, что ты любишь, обожествляешь ее, что она тебе дороже всего на свете. Нам известно, что она – сокровищница твоего знания, счастья, удачи, что для тебя она орудие, куда более драгоценное, чем весь мир.
– Значит, знаете? – сказал Бальзамо.
– Да, знаем и потому нанесем тебе удар через нее.
– Завершайте же.
Председательствующий поднялся.
– Оглашаю приговор. Жозеф Бальзамо – предатель, он нарушил клятвы, но его знание беспредельно и полезно нашему братству. Бальзамо должен жить ради торжества дела, которое он предал, он принадлежит братьям, хоть и отступился от них.
– Ах, вот как! – мрачно и ожесточенно бросил Бальзамо.
– Вечное заключение оградит наше общество от новых его вероломств и в то же время позволит братству получить все те выгоды, каких оно вправе ожидать от каждого из своих сочленов. Лоренца же Феличани приговаривается к суровой каре…
– Подождите, – невозмутимо спокойным голосом произнес Бальзамо. – Вы забыли, что я не воспользовался своим правом на защиту. Обвиняемый должен быть выслушан, прежде чем будет произнесен приговор… Мне достаточно будет одного-единственного слова, одного-единственного документа. Подождите минуту, я принесу обещанное доказательство.
Судьи стали совещаться.
– А, вы боитесь, что я покончу с собой? – с горькой улыбкой промолвил Бальзамо. – Если бы я захотел, то давно бы уже это сделал. Мне достаточно открыть мой перстень, чтобы разом покончить со всеми вами. Боитесь, что я сбегу? Если угодно, сопровождайте меня.
– Иди! – разрешил председательствующий.
С минуту Бальзамо отсутствовал, затем на лестнице послышались его тяжелые шаги, и вот он вошел.
На плече он нес остывшее, окоченевшее тело Лоренцы, и белая ее рука свисала над полом.
– Вот женщина, которую я обожал, женщина, которая была моим сокровищем, моим единственным благом, всей моей жизнью, женщина, которая, как вы утверждаете, совершила предательство… Возьмите ее! – вскричал он и тихо добавил: – Бог покарал ее, не дожидаясь вас, господа.
Мгновенным, словно молния, движением он снял труп с плеча и бросил его на ковер, к великому ужасу всех судей, чьих ног коснулись безжизненные волосы и руки покойной; в свете лампы они увидели разверстую багровую рану, пересекающую беломраморную шею.
– А теперь выносите приговор, – сказал Бальзамо.
У потрясенных судей вырвался крик; охваченные леденящим страхом, они вскочили и опрометью бросились прочь. Вскоре со двора послышалось ржание и цокот копыт, заскрипели петли ворот, и вновь в доме воцарилась торжественная тишина, сопутствующая смерти и отчаянию.








