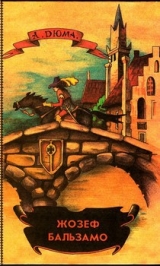
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 47 страниц)
145. СОВЕСТЬ ЖИЛЬБЕРА
Описанные нами сцены рикошетом жестоко ударили и по Жильберу.
Весьма своеобразная чувствительность этого молодого человека подверглась тяжким испытаниям: укрывшись в каком-нибудь уголке сада, он ежедневно следил по лицу и движениям Андреа за развитием ее недуга; однажды встревожившая его бледность девушки, на следующий день, когда мадемуазель де Таверне, подойдя к окну, подставила лицо первым лучам солнца, эта бледность показалась Жильберу еще заметней, еще красноречивей. Если бы в этот миг кто-нибудь следил за ним, наблюдатель не преминул бы отметить в его чертах признаки угрызений совести, ставшие уже классическими благодаря художникам древности.
Жильбера пленяла красота Андреа, и в то же время он ненавидел ее. Эта ослепительная красота в сочетании с прочими достоинствами являла собою новую границу, отделявшую его от девушки, и одновременно казалась ему новым сокровищем, которое он желал добыть. Вот каковы были причины его любви и ненависти, его влечения и презрения.
Но с того дня, как красота Андреа начала блекнуть, когда на лице ее стало появляться выражение страдания либо смущения, – короче, с того дня, когда появилась опасность и для Андреа, и для Жильбера, положение полностью переменилось, и он, как человек в высшей степени справедливый, тут же изменил свою точку зрения.
Первым его чувством была, пожалуй, глубокая грусть. Он не мог видеть без боли, как вянет красота, как тает здоровье его возлюбленной. Его гордости безмерно льстило, что он может жалеть эту надменную и столь высокомерную с ним женщину, отплатив ей сочувствием за все унижения, которым она его подвергла.
Сказанное вовсе не означает, что мы извиняем Жильбера. Гордыня ничему не может служить оправданием. И разве не из гордыни он постоянно следил за девушкой? Когда м-ль де Таверне, бледная, измученная, со склоненной головой, появлялась, словно призрак, перед взором Жильбера, его сердце начинало стучать, кровь приливала к глазам, жгла их, словно навернувшиеся слезы, и он, прижав к груди судорожно сжатую руку, точно желая унять укоры совести, шептал: «Это я погубил ее», после чего, бросив на девушку алчный, яростный взгляд, убегал, предвкушая, как снова встретит ее и услышит ее стенания.
Душевные муки Жильбера достигли предела, горе его стало настолько острым, что превосходило человеческие силы. Его яростная любовь нуждалась в утешении, и бывали минуты, когда молодой человек готов был отдать жизнь за право припасть к коленям Андреа, взять ее за руку, успокоить, вернуть к жизни, когда она лишалась чувств. Его бессилие в таких случаях было для него сущей пыткой, описать которую не в силах никто на свете.
Эти муки Жильбер терпел три дня.
В первый он заметил, что Андреа немного изменилась. Там, где другие не видели ничего, он, как сообщник, угадывал и объяснял все. Более того, наблюдая, как развивается недомогание, он рассчитал, когда в здоровье больной наступит серьезное ухудшение.
С того дня, как Андреа впервые потеряла сознание, Жильбер был вне себя, его постоянно бросало в пот, он все время пытался что-то предпринять, что свидетельствовало о нечистой совести молодого человека. Всю его бестолковую беготню, все его напускное безразличие или, напротив, рвение, взрывы сочувствия или язвительности, которые Жильбер считал чудом скрытности и тактического искусства, любой самый ничтожный писец из Шатле, любой самый глупый тюремщик из Сен-Лазара [125]125
Тюрьма в Париже.
[Закрыть]разгадал бы так же легко, как Лафуэн из ведомства г-на де Сартина расшифровывал тайнопись.
Всякий, кто увидел бы человека, который то несется куда-то что есть духу, то внезапно останавливается и издает нечленораздельные восклицания, то погружается в глубокое молчание или к чему-то внимательно прислушивается, то скребет ногтями землю или в исступлении кромсает дерево, – любой, кто увидел бы такого человека, остановился бы и сказал: «Это или безумец, или преступник».
Когда прошел первый приступ угрызений совести, Жильбер перешел от сострадания к мыслям о себе. Он понял, что частые обмороки Андреа скоро начнут казаться окружающим крайне странными и люди станут доискиваться причины.
Тогда Жильбер вспомнил, как грубо и с какой расторопностью правосудие добывает нужные сведения; вспомнил про допросы, расследования, проводимые одним лишь судейским, признаки, которые наводят на след преступника, ловких и умелых ищеек, именуемых следователями, вспомнил о всевозможных приемах, способных обесчестить любого человека.
А то, что совершил он, казалось Жильберу – в нравственном смысле – самым мерзким из преступлений.
Поэтому молодой человек перепугался уже не на шутку, так как боялся, что болезнь Андреа повлечет за собою расследование.
И с той поры, подобно преступнику со знаменитой картины, которого преследует ангел угрызений совести с бледным факелом в руке [126]126
Имеется в виду картина Пьера Поля Прюдона (1758–1823) «Правосудие и Возмездие, преследующие Преступление» (1808)
[Закрыть], Жильбер постоянно пугливо озирался вокруг. Каждый шум, каждый шорох казались ему подозрительными. Он вслушивался в каждое слово, произнесенное в его присутствии, и каким бы незначительным оно ни было, Жильберу казалось, что оно имеет отношение к м-ль де Таверне или к нему самому.
Он видел, как г-н де Ришелье отправился к королю, а г-н де Таверне – к дочери. В тот день ему показалось, будто в доме воцарился несвойственный ему дух интриг и подозрений.
Тревога молодого человека усугубилась, когда он увидел, как в комнату Андреа прошел врач дофины.
Жильбер принадлежал к тем скептикам, кто ни во что не верит и пренебрегает людьми и небесами, однако считал науку богом и верил в ее всемогущество.
Порою Жильбер отрицал всеведение высшего существа, но всегда признавал это свойство за медициной. Появление у Андреа доктора Луи нанесло духу Жильбера сокрушительный удар, оправиться от которого он был не в силах.
Оставив работу, не внемля приказаниям своих начальников, он кинулся к себе в комнатенку. Там, сидя за дрянной занавеской, повешенной, чтобы скрытно следить за Андреа, Жильбер напрягал все чувства, пытаясь уловить хотя бы слово, хотя бы жест, которые пролили бы свет на результат визита врача.
Однако ему ничего не удалось узнать. Всего лишь раз он успел увидеть лицо дофины, которая подошла к окну и выглянула во двор, который она никогда раньше, возможно, и не видела.
Правда, еще ему удалось разглядеть, как доктор Луи открывает окно, чтобы впустить побольше свежего воздуха. Больше же ничего он не сумел ни увидеть, ни услышать: тяжелая штора упала вниз и закрыла от него всю комнату.
Можно себе представить тревогу молодого человека. Своим безошибочным взглядом врач проник в тайну. Скоро все станет известно: не тотчас же – по верному рассуждению Жильбера, этому какое-то время будет мешать дофина, – но скоро, когда после ухода посторонних состоится объяснение между отцом и дочерью.
Обезумевший от горя и досады Жильбер принялся биться головой о стены своей мансарды.
Затем он увидел, как г-н де Таверне вышел из комнаты вместе с дофиной; врач к этому времени уже уехал.
«Объяснение состоится между г-ном де Таверне и ее высочеством дофиной», – решил Жильбер.
К дочери барон не вернулся; Андреа сидела в одиночестве на софе, то пытаясь читать между приступами мигрени, то погружаясь в странную задумчивость и безучастность; Жильберу, когда он благодаря порыву ветра, отогнувшему занавеску, увидел девушку в одну из таких минут, показалось даже, что она находится в каком-то трансе.
Наконец, устав от страданий и волнений, Андреа уснула. Воспользовавшись передышкой, Жильбер вышел, чтобы узнать, о чем толкует челядь.
Передышка оказалась для молодого человека весьма кстати, так как дала ему возможность все хорошенько обдумать.
Опасность была столь неотвратимой, что вступать в борьбу с нею следовало немедленно, решительно и героически.
За эту мысль немедленно зацепился нерешительный, но изворотливый ум Жильбера.
Однако какое решение принять? И молодого человека осенило: нужно сменить место. Значит, бежать? Ну конечно! Бежать, призвав на помощь энергию молодости, страха и отчаяния, которая удесятеряет силы человека и делает его способным противостоять целой армии. Днем прятаться, ночью идти…
Куда?
Где можно спрятаться, чтобы тебя не настигла карающая рука королевского правосудия?
Жильбер знал деревенские нравы. Что подумают в каком-нибудь полудиком малолюдном селении или деревушке (о городах Жильбер и не помышлял) о незнакомце, который в один прекрасный день явится туда, чтобы попросить кусок хлеба, а может, даже стянуть что-нибудь? И потом Жильбер прекрасно знал: лицо приметное, несущее на себе несмываемую печать страшной тайны, привлечет внимание первого же встречного. Бежать было опасно, однако разоблачение означало позор.
Если он убежит, его сочтут виновным; он отбросил эту мысль, и, так как ум его не мог найти другого выхода, бедняга подумал о смерти.
Мысль о смерти пришла ему впервые, однако этот мрачный призрак не вызвал в юноше ни малейшего страха.
«Прибегнуть к смерти я успею, – размышлял он, – когда все другие средства будут испробованы. К тому же, как считает господин Руссо, лишить себя жизни – это малодушие, гораздо благороднее – страдать».
Высказав столь парадоксальную мысль, Жильбер поднял голову и бесцельно побрел по саду.
Но едва перед молодым человеком явились первые проблески надежды на спасение, как внезапный приезд Филиппа, о котором мы уже знаем, вновь спутал все его мысли и вверг Жильбера в новую пучину растерянности.
Брат! Вызвали брата! Все ясно! Семейство решило помалкивать, однако не отказалось от выяснения обстоятельств и подробностей, что, по мнению Жильбера, было равнозначно всем орудиям пытки Консьержери, Шатле и Турнеля. [127]127
Консьержери, Шатле – тюрьмы в Париже; Турнель – палата парламента, где слушались уголовные дела.
[Закрыть]Это означало, что его бросят к ногам Андреа, поставят на колени и вынудят униженно признаться в преступлении, после чего убьют, словно собаку, палкой или кинжалом. Законное мщение, которое заранее будет оправдано, чему есть тьма примеров!
В подобных обстоятельствах король Людовик XV весьма снисходителен к знати.
К тому же Филипп – это самый грозный мститель, какого только могла позвать на помощь м-ль де Таверне: хотя он единственный из всей семьи относился к Жильберу по-человечески и почти как к равному, но зато может убить его не только шпагой, но и, к примеру, такими словами: «Жильбер, вы ели наш хлеб, а теперь обесчестили нас!»
Потому-то мы и оказались свидетелями того, как при появлении Филиппа Жильбер попытался убежать; потому-то он вернулся и, повинуясь своему чутью, перестал терзаться: теперь все силы были нужны ему для сопротивления.
Он прокрался следом за Филиппом, увидел, что тот поднялся к Андреа, говорил с доктором Луи; все подглядев и оценив, он понял, что Филипп в отчаянии. Он наблюдал за тем, как росли страдания брата Андреа, по теням на занавеске догадался о страшной сцене, происшедшей между девушкой и Филиппом.
«Я погиб», – подумал Жильбер и, в мгновение ока потеряв рассудок, вооружился ножом, чтобы убить Филиппа, когда тот появится у него в дверях, или… если это не удастся, себя.
Случилось, однако, непредвиденное: Филипп помирился с сестрой, и Жильбер увидел, как он встал на колени и поцеловал ей руку. Это дало Жильберу новую надежду, показалось лазейкой к спасению. Коль скоро Филипп не разразился яростными проклятьями, значит, Андреа понятия не имеет об имени преступника. Но если она, единственная свидетельница и обвинительница, ничего не знает, выходит, что и никто ничего не знает. А если Андреа – безумная надежда! – знает, но молчит, то это больше, чем спасение, это – счастье, победа.
С этой минуты Жильбер явно овладел положением. Как только к нему вернулась ясность мысли, преграды для него перестали существовать.
«Где улики, – размышлял он, – если мадемуазель де Таверне меня не обвиняет? Ну и дурак же я! Да разве она подозревает меня в преступлении? За последние три недели ничто не указывало на то, что она ненавидит меня или избегает больше, чем прежде; значит, она ничего не подозревает.
А если преступник ей не известен, то я ничуть не больше под подозрением, чем любой другой. Я сам видел, что король находился в спальне мадемуазель Андреа. Если понадобится, я поклянусь в этом ее брату, и как бы его величество не отрицал, поверят мне. Да, но это будет очень рискованно. Лучше буду молчать: у короля достаточно средств доказать свою невиновность и опровергнуть мое свидетельство. Но, кроме короля, чье имя сюда приплетать нельзя, если не хочешь провести всю жизнь в тюрьме или погибнуть, кроме короля, есть ведь еще незнакомец, который в ту ночь заставил мадемуазель Андреа спуститься в сад. Интересно, как он станет защищаться? Да, но как о нем догадаются, как его разыщут, если даже узнают о его существовании? Впрочем, он обычный человек, ничем не лучше меня, и я всегда смогу его опровергнуть. Да обо мне никто и не думает. Меня видел один Бог, – горько рассмеявшись, прибавил Жильбер. – Но Бог видел столько моих страданий и слез и молчал; вряд ли он будет настолько несправедлив, что выдаст меня теперь, когда впервые подарил мне счастье.
Впрочем, если преступления вообще случаются, то это его вина, а не моя, а господин Вольтер убедительно доказал, что чудес не бывает. Итак, я спасен, беспокоиться мне не о чем, моя тайна известна только мне. Будущее за мной».
После этих размышлений или, вернее, после этой сделки с совестью Жильбер отбросил свои земледельческие орудия и отправился вместе с приятелем ужинать. Он был весел, беззаботен, даже задорен. Мужчина, да еще философ, должен стараться как можно скорее избавляться от таких слабостей, как склонность к самобичеванию и страх. Однако Жильбер не принял в расчет совесть: заснуть ему не удалось.
146. ДВОЕ НЕСЧАСТНЫХ
Жильбер вполне здраво оценил свое положение, когда вспомнил о неизвестном, замеченном им в саду в тот вечер, что стал роковым для м-ль де Таверне.
«Найдут ли его?»
Филипп и в самом деле понятия не имел, где живет Жозеф Бальзамо, граф Феникс. Однако он вспомнил о знатной даме, маркизе де Саверни, к которой 31 мая отвезли Андреа, чтобы оказать ей помощь.
Час был еще не поздний, поэтому Филипп вполне мог сделать визит этой даме, жившей на улице Сент-Оноре. Стараясь сдержать смятение ума и чувств, молодой человек вошел в дом, и горничная герцогини немедленно сообщила ему адрес Бальзамо: улица Сен-Клод на Болоте.
Филипп тотчас отправился по указанному адресу.
В глубоком волнении взялся он за молоток у ворот этого подозрительного дома, где, как он считал, навсегда погребены покой и честь несчастной Андреа. Однако, призвав на помощь волю, он быстро справился с охватившими его негодованием и брезгливостью, чтобы не растерять силы, которые могли ему еще понадобиться.
Итак, он довольно уверенно постучал, и ворота, как обычно, распахнулись.
Держа лошадь под уздцы, Филипп вошел во двор.
Однако не прошел он и несколько шагов, как Фриц, выйдя из передней и задержавшись на верхней ступеньке лестницы, остановил его вопросом:
– Что вам угодно, сударь?
Филипп вздрогнул, словно натолкнувшись на непредвиденное препятствие.
Нахмурившись, он бросил взгляд на немца, как будто тот вышел за рамки обычных обязанностей слуги.
– Я хочу поговорить с хозяином этого дома, – ответил Филипп, пропуская поводья в кольцо в стене и направляясь к дверям.
– Его сиятельство отсутствует, – сообщил Фриц, однако с учтивостью хорошо вышколенного слуги пропустил Филиппа.
Странное дело, Филипп ожидал чего угодно, но только не этого простого ответа.
На секунду молодой человек растерялся.
– Где я могу его найти? – наконец спросил он.
– Не знаю, сударь.
– Но вы же должны знать.
– Прошу прощения, сударь, его сиятельство передо мной не отчитывается.
– Друг мой, – продолжал настаивать Филипп, – мне обязательно нужно сегодня же вечером поговорить с вашим хозяином.
– Вряд ли это возможно.
– Но у меня к нему дело первостепенной важности.
Фриц молча поклонился.
– Стало быть, он куда-то уехал?
– Да, сударь.
– Но он вернется?
– Не думаю, сударь.
– Не думаете?
– Нет, сударь.
– Прекрасно, – начиная выходить из себя, проговорил Филипп, – передайте тогда вашему хозяину…
– Но я уже имел честь вам доложить, сударь, что его нет дома, – невозмутимо прервал Фриц.
– Я знаю, что значит приказ никого не принимать, – продолжал Филипп, – и понимаю вас, мой друг, однако этот приказ не может относиться ко мне, так как ваш хозяин меня не ждет: я явился к нему неожиданно.
– Приказ относится ко всем, сударь, – сорвалось с языка у Фрица.
– Ах, раз есть такой приказ, значит, граф Феникс дома? – воспользовался Филипп промахом слуги.
– И что из того? – осведомился Фриц, которого подобная настойчивость уже начала раздражать.
– Я его подожду.
– Повторяю вам, его сиятельства нет дома, – процедил Фриц. – Недавно здесь был пожар, поэтому в доме жить нельзя.
– Но ты же живешь тут? – сорвалось с языка теперь уже у Филиппа.
– Я живу как сторож.
Филипп пожал плечами, желая показать, что не верит ни единому слову слуги.
Фриц начал сердиться.
– Впрочем, – снова заговорил он, – независимо от того, дома его сиятельство или нет, у нас не принято – в его присутствии или в отсутствии – впускать тех, кто намерен силой ворваться в дом. Так что если вы не подчинитесь нашим правилам, мне придется…
Фриц замолк.
– Что же тебе придется? – поинтересовался Филипп.
– Выставить вас, – спокойно докончил Фриц.
– Тебе? – сверкнув глазами, воскликнул Филипп.
– Мне, – подтвердил Фриц, который согласно свойству своей нации, чем сильнее сердился, тем более хладнокровный вид принимал.
Затем он шагнул к молодому человеку. Тот вне себя от возмущения выхватил шпагу.
Не моргнув и глазом при виде шпаги и не зовя никого на подмогу, возможно, потому что был один, Фриц сорвал со стены рогатину с коротким железным острием и, ринувшись на Филиппа, приемом скорее бойца на палках, нежели фехтовальщика, одним ударом переломил шпагу молодого человека.
Издав гневный вопль, Филипп в свою очередь кинулся к стене, чтобы завладеть каким-нибудь оружием.
В этот миг потайная дверь в коридор отворилась, и в темном дверном проеме появился граф.
– Что здесь происходит, Фриц? – осведомился он.
– Ничего, сударь, – ответил слуга, чуть опуская рогатину, но заслоня ею хозяина, который, стоя на ступеньке потайной лестницы, возвышался над ним на полкорпуса.
– Скажите, граф, – вмешался Филипп, – у вас в стране принято встречать дворянина с рогатиной в руках или это особенность только вашего знатного дома?
По знаку хозяина Фриц опустил рогатину и поставил ее в угол передней.
– Кто вы такой, сударь? – осведомился граф, плохо различая лицо Филиппа в свете лампы, горевшей в прихожей.
– Человек, который непременно хочет с вами поговорить.
– Хочет?
– Да, хочет.
– Это слово вполне извиняет Фрица, сударь; я не хочу ни с кем разговаривать и, находясь у себя дома, отказываю в праве говорить со мною кому бы то ни было. Стало быть, вы не правы, но, – вздохнув, прибавил Бальзамо, – я прощаю вас при условии, что вы уйдете и не будете более нарушать мой покой.
– Хорошенькое дело! – вскричал Филипп. – Вы требуете покоя, хотя сами отняли его у меня!
– Я отнял у вас покой? – переспросил граф.
– Я – Филипп де Таверне! – громко объявил молодой человек, считая, что для графа этим именем будет все сказано.
– Филипп де Таверне? – откликнулся граф. – Ваш отец, сударь, прекрасно принял меня в своем замке, поэтому добро пожаловать ко мне.
– Ну мне повезло, – пробормотал Филипп.
– Благоволите следовать за мной, сударь.
Бальзамо притворил дверь потайной лестницы и повел Филиппа в гостиную, где перед нашими глазами уже прошли некоторые сцены этой истории, в частности, самая последняя – встреча пяти мастеров.
В гостиной горел свет, словно здесь кого-то ждали, однако было очевидно, что так уж заведено в роскошном доме графа.
– Добрый вечер, господин де Таверне, – произнес Бальзамо своим мягким, бархатным голосом, звук которого заставил Филиппа взглянуть на его обладателя.
Но, увидев лицо графа, Филипп попятился.
Поистине граф скорей походил на собственную тень: глубоко запавшие глаза были тусклы, у рта обозначились две складки, а исхудавшее, бритое лицо, на котором выступили все кости, стало похоже на голый череп.
Филипп был совершенно сражен. Бальзамо заметил изумление молодого человека, и горестная улыбка тронула его бледные губы.
– Сударь, – промолвил он, – приношу вам извинения за моего слугу, но, по правде говоря, он выполнял мое распоряжение, а вы, если позволите, были не правы, ворвавшись сюда.
– Вы прекрасно понимаете, сударь, – ответил Филипп, – что в жизни бывают порой крайние обстоятельства; именно в таком положении я и оказался.
Бальзамо промолчал.
– Я хотел видеть вас, – продолжал Филипп, – и поговорить с вами. Чтобы проникнуть к вам в дом, я готов был рисковать жизнью.
Бальзамо продолжал молча смотреть на молодого человека в надежде на какие-то пояснения, требовать которых у него не было ни любопытства, ни сил.
– Наконец-то вы в моих руках, – говорил далее Филипп, – и мы можем объясниться, если позволите, но прежде благоволите отослать вашего человека.
И Филипп указал пальцем на Фрица, поднимавшего штору и как будто ожидавшего распоряжений хозяина относительно докучливого посетителя.
Бальзамо устремил на Филиппа взгляд, желая проникнуть в его намерения, однако, оказавшись перед человеком, равным ему по рангу и происхождению, Филипп вновь обрел спокойствие и силу и был непроницаем.
Тогда Бальзамо движением головы или, точнее, бровей отослал Фрица, и собеседники уселись друг против друга: Филипп – спиною к камину, Бальзамо – облокотившись о столик.
– Прошу вас, сударь, говорить быстро и ясно, – промолвил Бальзамо, – так как я слушаю вас лишь из благорасположения и, предупреждаю, скоро устаю.
– Я буду говорить так, как сочту нужным, сударь, – возразил Филипп, – и пусть это вам не понравится, но начну с вопросов.
Услыхав эти слова, Бальзамо резко сдвинул брови, и в глазах у него сверкнула молния.
Слова эти столько ему напомнили, что Филипп содрогнулся бы, узнав, что шевельнулось в сердце его собеседника.
Однако, помолчав немного и полностью овладев собою, Бальзамо ответил:
– Спрашивайте.
– Сударь, – начал Филипп, – вы мне так и не рассказали, что делали той пресловутой ночью тридцать первого мая, начиная с минуты, когда подняли мою сестру из груды мертвых и раненых на площади Людовика Пятнадцатого.
– Что это значит? – осведомился Бальзамо.
– Это значит, граф, что ваше поведение в ту ночь всегда казалось мне подозрительным, а теперь – более, чем когда бы то ни было.
– Подозрительным?
– Да, потому что, по всей вероятности, вы вели себя не так, как подобает человеку чести.
– Сударь, – отозвался Бальзамо, – я вас не понимаю. Вы заметили, наверное, что рассудок мой утомлен и слаб, и потому я становлюсь нетерпелив.
– Сударь! – в свою очередь вскричал Филипп, рассерженный высокомерным и в то же время спокойным тоном Бальзамо.
– После того как я имел честь встретиться с вами, сударь, – тем же тоном продолжал Бальзамо, – меня постигло большое несчастье: мой дом частично сгорел, и многие драгоценные, поймите, драгоценные для меня предметы погибли. От горя мой разум несколько помутился, поэтому прошу вас выражаться яснее, или я немедленно вас покину.
– Ну уж нет, сударь, – возразил Филипп, – покинуть меня будет не так-то просто. Я отнесусь с уважением к вашему горю, если вы проявите сочувствие к моему: меня тоже постигло несчастье, причем серьезное – гораздо серьезнее вашего, уверяю вас.
Бальзамо улыбнулся безнадежной улыбкой, которую Филипп уже наблюдал на его лице.
– Наше имя, сударь, обесчещено, – продолжал Филипп.
– Но чем я могу помочь вашему несчастью, сударь? – удивился Бальзамо.
– Чем можете помочь? – переспросил молодой человек, и глаза его сверкнули.
– Вот именно.
– Вы можете вернуть мне потерянное, сударь!
– Да вы с ума сошли, сударь! – воскликнул Бальзамо и протянул руку к сонетке.
Но движение его было столь вялым и лишенным гнева, что Филипп тут же перехватил его руку.
– Я сошел с ума? – прерывающимся голосом возопил он. – Да разве вы не понимаете, что речь идет о моей сестре, которую вы держали бездыханной на руках тридцать первого мая и которую отвезли в дом – по-вашему, приличный, а по-моему, гнусный. Словом, речь идет о моей сестре, защитить честь которой я пришел сюда со шпагой в руках.
Бальзамо пожал плечами.
– Господи, сколько уверток, чтобы дойти до такой простой вещи, – пробормотал он.
– Негодяй! – вскричал Филипп.
– Какой резкий у вас голос, сударь, – произнес Бальзамо с тем же грустным раздражением, – вы совсем меня оглушили. Не хотите ли вы сказать, что я нанес оскорбление вашей сестре?
– Да, подлец!
– Опять эти ваши крики и бессмысленные ругательства. Кто, черт возьми, сказал вам, что я оскорбил вашу сестру?
Филипп заколебался: тон, каким граф проговорил эти слова, привел его в изумление. Это был верх наглости или же голос чистой совести.
– Кто мне сказал?.. – переспросил молодой человек.
– Да, кто? – спрашиваю я вас.
– Сама сестра, сударь.
– Знаете, сударь, ваша сестра…
– Что вы сказали? – с угрозой в голосе вскричал Филипп.
– Я говорю, сударь, что вы заставляете меня составить о вас и вашей сестре весьма нелестное мнение. Знаете ли, самая отвратительная на свете спекуляция – это когда женщина играет на своем бесчестье. Вы вторглись с угрозами, словно бородатый брат из итальянской комедии, чтобы со шпагой в руке заставить меня либо жениться на вашей сестре, что говорит о том, что ей крайне необходим муж, либо откупиться от вас, так как вам известно, что я умею делать золото. Так вот, сударь, вы просчитались дважды: денег я вам не дам, а сестра ваша останется в девицах.
– В таком случае вы ответите мне кровью, – воскликнул Филипп, – если только она у вас есть в жилах!
– И этого не будет, сударь.
– Что?
– Я дорожу своей кровью и, чтобы пролить ее, выберу более серьезный повод, чем тот, что вы мне предлагаете. Поэтому, сударь, сделайте милость, ступайте подобру-поздорову, а если не прекратите шум, от которого у меня болит голова, я позову Фрица, и тот по моему знаку переломит вас пополам, словно тростинку. Ступайте.
На этот раз Бальзамо позвонил, но, поскольку Филипп снова пытался ему помешать, граф открыл стоявший на столе ящик из черного дерева, достал из него двуствольный пистолет и взвел курки.
– Лучше уж так! – воскликнул Филипп. – Убейте меня.
– Зачем мне вас убивать?
– Затем, что вы меня обесчестили.
Молодой человек произнес эти слова так бесхитростно, что Бальзамо взглянул на него уже мягче.
– Возможно ли, чтобы вы говорили это от чистого сердца? – спросил он.
– Так вы сомневаетесь? Сомневаетесь в слове дворянина?
– Я готов признать, – продолжал Бальзамо, – что мадемуазель де Таверне сама задумала эту гнусность и толкнула вас на нее, поэтому я вас успокою. Клянусь вам своею честью, что тридцать первого мая мое поведение по отношению к вашей сестре было безупречным. Ни с точки зрения чести, ни с точки зрения суда Божеского и человеческого в нем нельзя найти ничего, что шло бы вразрез с самыми строгими правилами благонравия. Вы мне верите?
– Сударь! – в изумлении пролепетал молодой человек.
– Вы понимаете, что дуэли я не боюсь – это можно прочесть у меня в глазах, не так ли? И пусть не вводит вас в заблуждение моя слабость, она обманчива. В лице моем ни кровинки, это так, однако мышцы не утратили своей силы. Хотите доказательств? Смотрите.
И Бальзамо без видимых усилий поднял одной рукой огромную бронзовую вазу, стоявшую на столике, работы Буля [128]128
Буль, Андре Шарль (1642–1732) – знаменитый французский мебельный мастер.
[Закрыть].
– Что ж, сударь, – ответил Филипп, – что касается тридцать первого мая, я вам верю. Но это ведь уловка с вашей стороны: вы дали слово, которое касается лишь одной даты, а сами встречались с моей сестрой и после.
Теперь заколебался Бальзамо.
– Это правда, я с ней встречался, – признал он.
На его просветлевшее было лицо опять наплыла туча.
– Вот видите! – бросил Филипп.
– Ну и что из того, что я видел вашу сестру? Это ничего не доказывает.
– Мне известно, что при вашем приближении она уже трижды погружалась в необъяснимый сон – она чувствовала его признаки – и что вы воспользовались этим ее состоянием для своих тайных целей.
– А это кто вам сказал? – воскликнул Бальзамо.
– Сестра!
– Да откуда она знает, если была погружена в сон?
– Значит, вы признаете, что она спала?
– Более того, сударь: я признаю, что усыпил ее самолично.
– Усыпили?
– Да.
– С какой целью? Чтобы обесчестить?
– С какой целью? Увы! – вздохнул Бальзамо, и голова его поникла.
– Отвечайте же!
– С той целью, сударь, чтобы узнать у нее тайну, которая для меня дороже жизни.
– Довольно ваших хитростей и уверток!
– И значит, той ночью, – продолжал Бальзамо, скорее следуя за ходом своих мыслей, а не отвечая на оскорбительный вопрос Филиппа, – той ночью ваша сестра?..
– Была обесчещена, сударь.
– Обесчещена?
– Моя сестра скоро станет матерью, сударь!
Бальзамо вскрикнул.
– Верно! Я вспомнил. Я ведь ушел, не разбудив ее.
– Значит, вы признаетесь? – вскричал Филипп.
– В этом – да. И какой-то негодяй в ту ужасную ночь – ужасную для всех нас, сударь, – воспользовался тем, что она спала.
– Да вы шутите, сударь!
– Нет, просто хочу вас убедить.
– Это будет нелегко.
– Где сейчас ваша сестра?
– Там, где вы с такой легкостью отыскали ее тогда.
– В Трианоне?
– Да.
– Едем в Трианон, сударь.
Филипп замер как громом пораженный.
– Я совершил ошибку, сударь, – проговорил Бальзамо, – но не преступление. Я оставил девушку погруженной в магнетический сон. Так вот, чтобы исправить эту ошибку и снять с себя подозрение, я назову вам имя преступника.
– Так назовите же, назовите!
– Я его не знаю, – ответил Бальзамо.
– А кто же тогда знает?
– Ваша сестра.
– Но она отказалась мне его назвать.
– Возможно, но мне назовет.
– Моя сестра?
– Если ваша сестра обвинит кого-нибудь, вы ей поверите?
– Разумеется! Моя сестра – ангел чистоты!
Бальзамо позвонил.
– Фриц, карету! – приказал он вошедшему немцу.
Филипп, как безумный, метался по гостиной.
– Преступник? – повторял он. – Вы обещаете назвать мне имя преступника?
– Сударь, – обратился к нему Бальзамо, – ваша шпага сломалась в схватке – вы позволите предложить вам другую?
Взяв с кресла великолепную шпагу с эфесом из позолоченного серебра, он сунул ее за перевязь Филиппа.
– А вы? – спросил молодой человек.
– Мне, сударь, оружие ни к чему, – ответил Бальзамо. – Защищаться я буду в Трианоне, а моим защитником будете вы, когда ваша сестра заговорит.
Четверть часа спустя враги сели в карету, и Фриц галопом погнал пару великолепных коней по версальской дороге.







