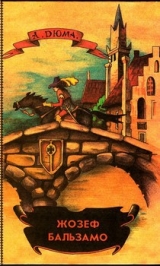
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 47 страниц)
139. ИГРА СЛОВ Г-НА ДЕ РИШЕЛЬЕ
Как мы видели, герцог де Ришелье отправился в Люсьенну с той стремительностью и решительностью, которые были свойственны бывшему послу в Вене и покорителю Маона.
Весело и непринужденно он, словно юноша, в мгновение ока взбежал на крыльцо, дернул за ухо Самора – как в былые дни, когда они жили в согласии, – и, можно сказать, ворвался в тот самый знаменитый обитый голубым атласом будуар, в котором бедная Лоренца видела г-жу Дюбарри, когда та собиралась на улицу Сен-Клод.
Лежа на диване, графиня отдавала г-ну д'Эгийону распоряжения на утро.
Заслышав шум, оба обернулись и при виде маршала буквально остолбенели.
– Вы, герцог? – воскликнула графиня.
– Вы, дядюшка? – вскричал г-н д'Эгийон.
– Да, это я, сударыня, это я, племянник.
– Вы?
– Я самый, собственной персоной.
– Лучше поздно, чем никогда, – заметила графиня.
– Сударыня, в старости у людей появляются капризы, – парировал маршал.
– Вы хотите сказать, что снова появились в Люсьенне…
– Из большой любви, на которую не действуют даже капризы. Именно так дело и обстоит, вы правильно уловили мою мысль.
– То есть вы вернулись…
– Вот именно, я вернулся, – подтвердил Ришелье, усаживаясь в самом удобном кресле, которое присмотрел с первого взгляда.
– Ну, нет, наверное, тут кроется что-то еще, о чем вы умолчали, – возразила графиня. – Каприз – это совсем на вас не похоже.
– Напрасно, графиня, вы меня в чем-то подозреваете, я стою большего, чем моя слава, и, если уж возвращаюсь, стало быть…
– Стало быть?.. – подхватила графиня.
– Стало быть, делаю это по велению сердца.
Г-н д'Эгийон и графиня расхохотались.
– Какое счастье, что мы тоже не совсем дураки и поэтому можем оценить всю остроту вашего ума, – заметила графиня.
– Что вы имеете в виду?
– Да я клянусь вам, что какой-нибудь глупец ни за что не понял бы причины вашего возвращения и безуспешно доискивался бы ее где угодно, только не там, где надо. Нет, ей-богу, дорогой герцог, ваши уходы и возвращения просто бесподобны, и даже Моле [120]120
Моле, Франсуа Рене (1734–1802) – знаменитый актер театра «Комедии Франсез».
[Закрыть]лишь провинциальный фигляр по сравнению с вами.
– Значит, вы не верите, что меня привело сюда сердце? – воскликнул Ришелье. – Осторожней, графиня, я могу составить о вас превратное мнение. А вы, племянник, не смейтесь, не то я нареку вас Петром, но ничего на сем камне не построю [121]121
Имя «Петр» в переводе с греческого означает «камень». Ришелье имеет в виду слова Иисуса Христа, сказанные им апостолу Петру: «…ты – Петр, и на сем камне я создам церковь мою».
[Закрыть].
– Даже министерства? – осведомилась графиня и снова от всего сердца расхохоталась.
– Бейте меня, бейте, – с напускным смирением откликнулся Ришелье, – сдачи я вам не дам: я уже слишком стар и не могу себя защитить. Издевайтесь, графиня, это развлечение теперь не опасно.
– Напротив, графиня, соблюдайте осторожность, – вмешался д’Эгийон. – Если дядюшка еще раз упомянет о своей слабости, мы пропали. Нет, герцог, бить вас мы не станем: при всей вашей беззащитности – подлинной или мнимой – вы дадите сдачи, да еще как! Нет, мы в самом деле очень рады вашему возвращению.
– О да, – дурачась, продолжала графиня, – и в честь этого стоило бы устроить потешные огни. Но знаете, герцог…
– Ничего я не знаю, – с детской наивностью отвечал Ришелье.
– Так вот, во время фейерверка от искры обязательно обгорает чей-нибудь парик, а кое-кто и без шляпы остается.
Герцог потрогал рукою парик и бросил взгляд на свою шляпу.
– Вот-вот, – подтвердила г-жа Дюбарри. – Однако вы вернулись, это хорошо. А мне, господин д'Эгийон может это подтвердить, безумно весело, и знаете почему?
– Графиня, графиня, вы снова хотите сказать мне какую-то колкость?
– Да, но это будет уже последняя.
– Ладно, говорите.
– Мне весело, маршал, потому что ваше возвращение предвещает хорошую погоду.
Ришелье поклонился.
– Да, – продолжала графиня, – вы похожи на тех поэтических птичек, что предвещают затишье. Как они называются, господин д'Эгийон, вы ведь у нас поэт?
– Зимородки, сударыня.
– Вот именно! Ах, маршал, надеюсь, вы не сердитесь, что я сравнила вас с птицами, у которых такое милое имя.
– Не сержусь, сударыня, – ответил Ришелье, скорчив гримасу, означавшую, что он удовлетворен, а это в свою очередь сулило очередную гадость с его стороны, – я не сержусь, тем более что сравнение верное.
– Вот видите!
– Да, я привез хорошие, превосходные новости.
– Ого! – заметила графиня.
– Какие же? – осведомился д'Эгийон.
– Бог мой, ну зачем вы так спешите, дайте маршалу подготовиться, – бросила г-жа Дюбарри.
– Бес меня так и подзуживает, и я должен сообщить их прямо сейчас; мои новости вполне созрели и даже уже, пожалуй, перестоялись.
– Если вы, маршал, привезли нам какое-нибудь старье…
– Ну это уже ваше дело: хотите берите, хотите – нет.
– Ладно, так уж и быть, говорите.
– Похоже, графиня, что король попал в западню.
– В западню?
– Да, окончательно и бесповоротно.
– В какую западню?
– В ту, что вы ему расставили.
– Я расставила западню королю? – удивилась графиня.
– Силы небесные! Вам ли не знать об этом?
– Честное слово, не знаю.
– Не очень-то красиво с вашей стороны, графиня, вводить меня в заблуждение.
– Да ничего подобного, маршал. Объяснитесь же, умоляю вас.
– Да, дядюшка, объяснитесь, – поддержал д'Эгийон, который за двусмысленной улыбкой маршала почуял какую-то пакость. – Графиня в нетерпении.
– Старый герцог повернулся к племяннику.
– Если графиня не посвятила вас в свои планы, милый д'Эгийон, видит Бог, это очень странно. Но в таком случае дело обстоит гораздо серьезнее, нежели я предполагал.
– Посвятила? Меня, дядюшка?
– Посвятила герцога?
– А кого же другого? Послушайте-ка, давайте откровенно: разве наш несчастный герцог д'Эгийон, сыгравший такую важную роль, не участвует в вашем маленьком заговоре против его величества?
Г-жа Дюбарри вспыхнула. Было еще так рано, что она не успела ни нарумяниться, ни приклеить мушки, поэтому еще могла краснеть.
Однако это было опасно.
– Вы оба от удивления так широко распахнули свои красивые глаза, что мне придется рассказать вам о ваших же делах.
– Расскажите, расскажите, – в один голос попросили герцог и графиня.
– Благодаря своей необыкновенной проницательности король все понял и испугался.
– Да что же он понял? – спросила графиня. – Ей-богу, маршал, я сгораю от любопытства.
– Но вы же, кажется, с моим чудным племянником так понимаете друг друга, что…
Д'Эгийон побледнел; взгляд его, обращенный на графиню, явно говорил: «Вот видите, я был уверен, без гадости не обойдется».
В подобных случаях женщины проявляют смелость куда большую, нежели мужчины. Графиня немедля бросилась в битву:
– Герцог, когда вы играете роль сфинкса, я страшусь любых загадок: мне кажется, что раньше или позже я непременно буду съедена. Избавьте же меня от беспокойства, и если это шутка, то позвольте счесть ее дурной.
– Дурной? Напротив, графиня, она великолепна, – воскликнул Ришелье. – Я, понятное дело, имею в виду вашу шутку, а не свою.
– Не понимаю вас, маршал, – заявила г-жа Дюбарри, нетерпеливо топнув крохотной ножкой.
– Ну-ну, графиня, не будьте столь самолюбивы, – продолжал Ришелье. – Итак, вы опасались, как бы король не увлекся мадемуазель де Таверне. Ох, только не спорьте, для меня это совершенно очевидно.
– Да, это так, не скрою.
– И когда у вас появились подобные опасения, вам захотелось побольнее уязвить его величество.
– И этого не отрицаю. Что ж дальше?
– Сейчас, графиня, сейчас. Однако, чтобы уязвить его величество, кожа у которого довольно груба, вам нужно было выбрать стрекало поострее [122]122
Фамилия «Эгийон» в переводе с французского означает «стрекало», «шип», «колючка».
[Закрыть]… Экая скверная получилась игра слов! Вы не находите?
И маршал разразился хохотом, то ли деланным, то ли искренним, поскольку во время взрывов этого веселья ему было удобнее наблюдать озабоченными лицами своих жертв.
– А почему, дядюшка, вы тут усмотрели игру слов? – осведомился д’Эгийон, который первым пришел в себя и в свою очередь решил поиграть в простодушие.
– А ты не понял? – удивился маршал. – Ну тем лучше, она вышла довольно пакостной. Я просто хотел сказать, что графиня, желая вызвать ревность короля, выбрала для этого весьма приятного и неглупого дворянина – в общем, чудо природы.
– И от кого же вы это слышали? – вскричала графиня, впадая в ярость, что свойственно могущественным людям, когда они не правы.
– От кого? Да все говорят, сударыня.
– Все – значит, никто, и вам, герцог, это прекрасно известно.
– Вовсе нет, сударыня, все – это сто тысяч одних версальцев, это шестьсот тысяч парижан, это двадцать пять миллионов французов. И заметьте, я не беру в расчет Гаагу, Гамбург, Роттердам, Лондон, Берлин, где издается достаточно газет, пишущих о парижских делах.
– И что же говорят в Версале, Париже, Франции, Гааге, Гамбурге, Роттердаме, Лондоне и Берлине?
– Говорят, что вы – самая остроумная и очаровательная женщина в Европе. И еще говорят, что благодаря искусной военной хитрости – сделав вид, будто завели себе любовника…
– Любовника? Помилуйте, на чем же основано это нелепое обвинение?
– Обвинение, графиня? Что вы, это дань восхищения. Все знают, что в действительности дело обстоит не так, и восхищаются военной хитростью. На чем основано это всеобщее восхищение и восторг, спросите вы? На вашей блистательной сообразительности и присутствии духа, на вашей мудрой тактике: вам ведь удалось невероятно искусно создать видимость, что в ту ночь вы находились в одиночестве – в ту самую ночь, когда у вас были я, король и господин д'Эгийон и когда я ушел от вас первым, король вторым, а господин д'Эгийон третьим.
– Хорошо, заканчивайте.
– А дальше вы обставили все так, словно остались наедине д'Эгийоном, как будто он ваш любовник, а утром он не без некоторого шума покинул Люсьенну, опять-таки как ваш любовник, чтобы несколько болванов и простецов, вроде меня, к примеру, увидели его стали кричать об этом на всех углах и чтобы король узнал об этом испугался и быстренько оставил малютку Таверне, дабы не потерять вас.
Г-жа Дюбарри и д'Эгийон не знали, как им держаться дальше.
Однако Ришелье нимало не смущался их взглядами и жестами; казалось, его внимание было занято исключительно табакеркой и жабо.
– И в итоге, – продолжал маршал, оправляя жабо, – очень похоже, что король расстался с этой малюткой.
– Герцог, – процедила г-жа Дюбарри, – заявляю вам, что я не поняла ни слова из ваших фантазий, и уверена, что, услышь их король, он понял бы не больше моего.
– В самом деле? – бросил герцог.
– Да, в самом деле. И вы, и весь свет приписываете мне предприимчивость, какою я не обладаю: у меня и в мыслях не было возбудить ревность его величества теми средствами, о которых вы говорите.
– Графиня!
– Уверяю вас.
– Графиня, истинный дипломат, а ведь лучшие дипломаты – женщины, никогда понапрасну не признается, что хитрил. Как бывший посол я знаю, что в политике существует правило: «Никому не рассказывай о средстве, которое помогло однажды, потому что оно может оказаться полезным еще раз».
– Но, герцог…
– Средство помогло – вот и все. Король крайне скверного мнения обо всех Таверне.
– Ей-богу, герцог, – воскликнула графиня, – у вас манера строить доказательства только на собственных домыслах!
– Так вы не верите, что король рассорился с Таверне? – не желая ввязываться в спор, осведомился Ришелье.
– Я не это имела в виду.
Ришелье взял графиню за руку.
– Вы – птичка, – проговорил он.
– А вы – змея.
– Стоило спешить к вам с добрыми новостями, чтобы получить такую награду.
– Вы заблуждаетесь, дядюшка, – с живостью вмешался д'Эгийон, понявший смысл маневра Ришелье. – Никто не ценит вас более, нежели графиня; она мне так и сказала, когда доложили о вас.
– Я действительно очень люблю своих друзей, – отозвался Ришелье, – поэтому мне и захотелось первому известить вас о вашей победе, графиня. Вы знаете, что Таверне-отец хотел продать свою дочь королю.
– Но, по-моему, это уже свершившийся факт, – ответила г-жа Дюбарри.
– О, графиня, до чего же ловок этот человек! Вот он-то – настоящий змей. Представьте, я был усыплен его разглагольствованиями о нашей с ним дружбе и братстве по оружию. Я всегда принимаю все близко к сердцу, но кто бы мог подумать, что сей провинциальный Аристид [123]123
Аристид (ок. 540 до н. э. – ок. 467 до н. э.) – афинский военачальник и государственный деятель, прозванный Справедливым.
[Закрыть]поспешит в Париж с целью перебежать дорогу Жану Дюбарри, этому умнейшему человеку? Мне понадобилась вся моя преданность вам, графиня, чтобы вновь обрести хоть капельку здравого смысла и способности предвидеть; клянусь вам, я был слеп.
– Но теперь-то, по крайней мере, все позади? – поинтересовалась г-жа Дюбарри.
– О да, все кончено, можете не сомневаться. Я так отчитал этого почтенного сводника, что сейчас он, должно быть, понял, что дельце у него не выгорело и мы остались хозяевами положения.
– Да, но король?
– Король?
– Ну да.
– Я спросил мнение его величества относительно трех особ.
– Кто же первая?
– Отец.
– А вторая?
– Дочь.
– Третья?
– Сын. Его величество изволил назвать отца… старым сводником, дочь – вздорной жеманницей. Что же касается сына, то его величество его не назвал, поскольку не смог вспомнить.
– Прекрасно. Таким образом, мы избавились от всей семейки.
– Полагаю, что да.
– А не стоит ли отослать этих Таверне назад в их дыру?
– Не думаю, они и без того уничтожены.
– И вы говорите, что сын, которому король обещал полк…
– У вас, графиня, память лучше, чем у короля. Господин Филипп и в самом деле очень милый юноша. А какие взгляды он на вас бросал – просто убийственные! Увы, он уже не полковник, не капитан, не брат фаворитки; ему осталось одно – быть отличенным вами.
Последние слова были сказаны герцогом с намерением царапнуть коготком ревности сердце племянника.
Но г-ну д'Эгийону было не до ревности.
Он пытался понять смысл маневра старого маршала и разобраться в истинных мотивах его возвращения.
Поразмыслив немного, он пришел к заключению, что маршал принес в Люсьенну ветер Фортуны.
Он сделал г-же Дюбарри знак – старый маршал, поправляя перед трюмо парик, заметил его, и графиня тут же предложила Ришелье остаться у нее на чашку шоколада.
Д'Эгийон откланялся, обменявшись с дядюшкой тысячей учтивостей.
Ришелье остался наедине с графиней; они сидели за круглым столиком, накрытым Самором.
Старый маршал, наблюдая, как фаворитка разливает шоколад, думал:
«Лет двадцать назад я сидел бы здесь и смотрел на часы с мыслью, что через час стану министром, – и стал бы.
Дурацкая штука – жизнь, – мысленно продолжал он. – В первой ее половине человек заставляет свое тело служить разуму, а во второй – разум, все еще сильный, становится слугою дряхлого тела. Экая нелепость».
– Милый маршал, – прервав внутренний монолог гостя, сказала графиня, – теперь, когда мы с вами опять добрые друзья и к тому же остались вдвоем, скажите: зачем вы так усердствовали, стараясь уложить эту маленькую кривляку в постель к королю?
– Ей-же-ей, графиня, – поднося чашку с шоколадом к губам, отвечал Ришелье, – я сам спрашиваю себя об этом и никак не могу взять в толк.
140. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Г-н де Ришелье знал, как держаться с Филиппом, а к тому же случайно узнал, что тот возвратился: по пути из Версаля в Люсьенну он встретил молодого человека, скакавшего в Трианон, и проехал мимо него достаточно близко, чтобы различить на его лице выражение печали и беспокойства.
Позабытый в Реймсе, прошедший сперва все ступени удачи, а затем равнодушия и забвения, измученный поначалу изъявлениями дружбы со стороны офицеров, которые люто завидовали его возвышению, и вниманием командиров, Филипп, по мере того как его блистательная будущность постепенно увядала под ветром опалы, чувствовал все большее отвращение, наблюдая, как дружба сменяется холодностью, внимание – пренебрежением, и в его чуткой душе скорбь обрела все признаки сожаления.
Филипп сожалел о своем лейтенантском чине в Страсбурге в ту пору, когда дофина въехала во Францию, сожалел о добрых друзьях и приятелях, с которыми был на равной ноге. Сожалел о спокойном и светлом отцовском доме, где хранителем очага был Ла Бри. Там молодой человек утешался молчанием и забвением, в которые погружаются, как в сон, деятельные натуры; к тому же уединение в обветшавшем замке Таверне, где все говорило об упадке и бедности, было не чуждо философии, которая так много говорила его сердцу.
Но больше всего Филипп сожалел о том, что с ним рядом нет сестры, чьи советы чаще всего были удивительно верны, хотя рождались они не столько из житейского опыта, сколько из чувства собственного достоинства. В благородных душах достойно удивления и восхищения то, что они непроизвольно, по самой своей природе, возвышаются над всяческой пошлостью и именно благодаря этому очень часто избегают обид, оскорблений и различных ловушек, тогда как низшим представителям тех насекомых, что зовутся родом человеческим, даже самым ловким из них, привыкшим лавировать, хитрить и замышлять всякие пакости, это удается далеко не всегда.
Досада Филиппа сменилась унынием, в своем одиночестве он чувствовал себя безмерно несчастным и ни за что не хотел поверить, что Андреа, его родная Андреа может наслаждаться жизнью в Версале, в то время как он так жестоко страдает в Реймсе.
Поэтому он и написал барону известное нам письмо, где сообщил о скором своем возвращении. Письмо это никого не удивило, и меньше всех самого барона; напротив, его повергло в изумление то обстоятельство, что Филипп терпеливо ждет, тогда как он сам чувствует себя словно на горячих угольях и уже две недели, встречая Ришелье, умоляет его поторопить события.
Не получив патента в им же самим установленный для себя срок, Филипп распрощался с офицерами, делая при этом вид, что не замечает их пренебрежения и насмешек, смягченных, впрочем, напускной любезностью, которая в ту эпоху еще входила в число добродетелей, свойственных французам, и невольным уважением, которое всегда внушает окружающим благородный человек.
И вот ровно в тот день, до какого он назначил себе ждать патента, хотя ждал он его не столько с нетерпением, сколько с опаской, Филипп вскочил в седло и поскакал в Париж.
Трехдневное путешествие показалось ему смертельно долгим, и, чем ближе он подъезжал к цели, тем более пугающим казалось ему молчание отца и в особенности сестры, обещавшей писать не реже двух раз в неделю.
Итак, как мы уже говорили, Филипп прибыл в Версаль в полдень, как раз когда Ришелье выезжал оттуда. Филипп скакал часть ночи и лишь несколько часов поспал в Мелёне; он был столь озабочен, что не заметил в карете г-на де Ришелье и даже не обратил внимания на ливреи его лакеев, хотя по их цветам мог бы понять, с кем повстречался.
Молодой человек направился прямо к воротам парка, где в день отъезда прощался с Андреа, когда девушка, не имея ни малейшего повода для печали, поскольку ее семейство было тогда на вершине успеха, все же, словно предугадывая дальнейший ход событий, почувствовала, как душа ее наполняется неизъяснимой грустью.
В тот день Филипп с непостижимой доверчивостью проникся недобрыми предчувствиями сестры; но потом рассудок взял верх и отринул бремя тревоги; теперь же по странному стечению обстоятельств молодой человек безо всякой видимой причины сам пришел на то же место, терзаемый теми же тревогами, не в силах, увы, хотя бы мысленно приглушить неодолимую, беспричинную тоску, которая, казалось, предвещала беду.
Когда лошадь Филиппа, высекая подковами искры из булыжника, пустилась по боковой дорожке, какой-то человек, явно привлеченный шумом, появился из-за ровной грабовой шпалеры.
Это был Жильбер, в руке он держал кривой садовый нож.
Садовник узнал своего бывшего хозяина.
Филипп тоже узнал Жильбера.
Жильбер уже месяц каждый день словно неприкаянный скитался по парку, не зная ни минуты покоя.
В этот день, со свойственной ему ловкостью воплощая в жизнь свой очередной замысел, он выбирал места на аллеях, откуда был бы виден флигель Андреа или ее окна; это ему было нужно, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за ее домом, но так, чтобы никто не замечал, как он томится, терзается и вздыхает.
Вооружившись для видимости садовым ножом, он обходил живые изгороди и куртины, здесь обрезая цветущую ветку, там подсекая кору на молодых липах якобы для того, чтобы снять наросты, и при этом постоянно прислушивался, приглядывался, вожделея и сожалея.
За последний месяц Жильбер сильно побледнел; о молодости в его лице свидетельствовали лишь странно блестевшие глаза да матовая, гладкая кожа, меж тем как плотно сжатые губы, уклончивый взгляд, подергивающаяся щека уже предвещали приход более угрюмой поры – зрелости.
Как мы уже говорили, Жильбер узнал Филиппа, а узнав, сразу сделал движение, словно желая скрыться в зарослях.
Однако Филипп направил к нему коня и окликнул:
– Жильбер! Эй, Жильбер!
Первым порывом Жильбера было убежать; на него напал ужас, его охватило то помутнение разума, то необъяснимое исступление, которое древние, любившие давать всему истолкование, приписывали воздействию Пана [124]124
Согласно верованиям древних греков, бог лесов Пан умел нагонять на людей внезапный, сильный страх; отсюда произошли слова «панический», «паника».
[Закрыть], и он уже готов был словно безумный броситься по аллеям, через боскеты и шпалеры прямо в пруд.
По счастью, обезумевший юноша услышал и понял полные доброты слова, с которыми обратился к нему Филипп.
– Неужто ты не узнал меня, Жильбер? – закричал он.
Поняв, что поступает глупо, Жильбер остановился.
Затем он вернулся назад, впрочем, медленно и недоверчиво.
– Да, господин шевалье, – дрожа, ответил молодой человек, – я вас не признал, принял вас за стражника и побоялся, что он увидит, что я ничего не делаю, и возьмет на заметку, чтобы наказать.
Филипп, удовлетворившись этим объяснением, спрыгнул на землю, взял лошадь под уздцы и положил руку Жильберу на плечо; тот вздрогнул.
– Что с тобой, Жильбер? – спросил Филипп.
– Ничего, сударь, – ответил юноша.
Филипп печально улыбнулся.
– Ты не любишь нас, Жильбер, – вздохнул он.
Молодой человек снова вздрогнул.
– Я понимаю, – продолжал Филипп, – мой отец обходился с тобой сурово и несправедливо, но я-то?
– О, вы… – пробормотал молодой человек.
– Я всегда любил тебя и поддерживал.
– Это правда.
– Так позабудь дурное и помни хорошее. Моя сестра тоже всегда была добра к тебе.
– О нет, вот это – неправда, – живо возразил юноша с чувством, которого никто бы не понял: в его голосе звучало и обвинение Андреа, и оправдание себя, в нем клокотала гордость и в то же время стенала нечистая совесть.
– Да-да, – согласился Филипп, – я понимаю, сестра несколько высокомерна, однако в глубине души она девушка добрая.
Затем помолчав, поскольку весь этот разговор он затеял лишь для того, чтобы отсрочить страшившее его свидание, Филипп спросил:
– Скажи, Жильбер, ты не знаешь, где сейчас Андреа?
Произнесенное вслух имя девушки болью отозвалось в сердце Жильбера; сдавленным голосом он ответил:
– Полагаю, что у себя, сударь. Откуда мне знать наверняка?
– Как всегда в одиночестве, как всегда грустит. Бедная сестра! – прервал его Филипп.
– Сейчас она, по всей вероятности, и вправду одна, сударь. После бегства мадемуазель Николь…
– Как? Николь сбежала?.
– Да, сударь, со своим любовником.
– С любовником?
– Во всяком случае, мне так кажется, – пояснил Жильбер, испугавшись, что зашел слишком далеко. – Прислуга поговаривала…
– Но послушай, Жильбер, – беспокоясь все сильнее, настаивал Филипп, – я ничего не понимаю. Из тебя все приходится вытягивать чуть ли не клещами. Будь-ка немного полюбезнее. Ты не глуп, у тебя есть врожденное благородство, так не порти эти свои похвальные качества напускной дикостью и грубостью, неподобающими ни тебе, да и никому другому.
– Но я, сударь, просто не знаю того, о чем вы меня спрашиваете, а если вы поразмыслите, то поймете, что и знать не могу. Я целыми днями работаю в саду, а что там делается в замке – понятия не имею.
– А я-то, Жильбер, полагал, что у тебя есть глаза.
– У меня?
– Да, и что тебе небезразличны все, кто носит наше имя. Каким бы убогим ни было гостеприимство Таверне, ты все же пользовался им.
– Я, господин Филипп, очень интересуюсь всем, что касается вас, – внезапно охрипшим, резким голосом ответил Жильбер; снисходительность Филиппа, равно как еще одно чувство, которого тот угадать не мог, смягчили сердце нелюдима. – Да, я люблю вас и потому скажу, что ваша сестра серьезно больна.
– Серьезно больна? Моя сестра серьезно больна? – вскричал Филипп. – И ты молчал об этом?
Но тут же, не дожидаясь ответа, он задал следующий вопрос:
– Боже, что с нею?
– Никто не знает.
– Но все-таки?
– Сегодня она трижды лишалась чувств прямо в парке. А только что у нее были врач ее высочества дофины и господин барон.
Филипп больше не слушал: предчувствия его не обманули, однако перед лицом истинной опасности он вновь обрел все свое мужество.
Молодой человек бросил поводья Жильберу и со всех ног устремился к службам.
Что же до Жильбера, то, отведя лошадь на конюшню, он тут же исчез, следуя примеру диких или вредных птиц, предпочитающих держаться подальше от человека.








