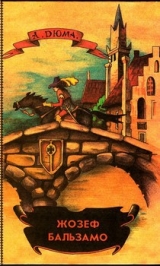
Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 47 страниц)
– Все так и есть, Лоренца. Это лес Везине, а город – Сен-Жермен, замок же принадлежит де Мезонам. Войдем в дом, который находится за спиной у нас.
– Мы вошли.
– Что ты видишь?
– В передней сидит негритенок в нелепой одежде и ест конфеты.
– Это Самор. Идем дальше.
– Великолепно обставленный салон, в котором никого нет. Двери расписаны богинями и амурами.
– В салоне никого?
– Никого.
– Дальше, дальше.
– Ах, мы в восхитительном будуаре с атласными обоями, на которых вышиты цветы, неотличимые от живых.
– Он тоже пуст?
– Нет, на софе лежит женщина.
– Кто она?
– Погоди.
– Тебе не кажется, что ты уже видела ее?
– Да. Это графиня Дюбарри.
– Все верно, Лоренца, все верно. Я схожу с ума от радости. Что она делает?
– Думает о тебе.
– Обо мне?
– Да.
– Ты можешь прочесть ее мысли?
– Да, ведь я же тебе сказала, она думает о тебе.
– Но что, что?
– Что ты ей обещал.
– Что обещал?
– Обещал дать ей тот самый напиток красоты, который Венера, желая отомстить Сафо, подарила Фаону [107]107
По преданию, великая древнегреческая поэтесса Сафо умерла от неразделенной любви к красавцу корабельщику Фаону, получившему от Афродиты дар влюблять в себя всех женщин.
[Закрыть].
– Правильно. И что же дальше?
– Она приняла решение.
– Какое?
– Постой. Она протягивает руку к сонетке, звонит. Входит еще женщина.
– Брюнетка? Блондинка?
– Брюнетка.
– Высокая? Маленькая?
– Маленькая.
– Это ее сестра. Послушай, что говорит ей госпожа Дюбарри.
– Она велит ей распорядиться, чтобы подавали карету.
– И куда она собралась ехать?
– Сюда, к тебе.
– Ты уверена?
– Такой она отдала приказ. О, его уже исполняют: я вижу лошадей, карету. Через два часа она будет здесь.
Бальзамо упал на колени.
– Если она и вправду через два часа будет здесь, – воскликнул он, – мне не о чем больше тебя просить, Господи! Молю только об одном: смилуйся над моим счастьем.
– Мой бедный друг, ты все еще боишься? – промолвила Лоренца.
– Да.
– Чего же тебе бояться? Любовь, которая дополняет физическое бытие, облагораживает и бытие духовное. Любовь, как всякая возвышенная страсть, приближает к Богу, а от Бога исходит просветленность.
– Лоренца, Лоренца, еще немного, и я сойду с ума от радости!
И Бальзамо опустил голову на колени своей прекрасной возлюбленной.
Он ждал доказательства, которое сделало бы его совершенно счастливым.
Этим доказательством должен был стать приезд г-жи Дюбарри.
Два часа промчались мгновенно – время для Бальзамо перестало существовать.
Внезапно Лоренца вздрогнула и взяла руку Бальзамо.
– Ты все еще сомневаешься, – сказала она. – Хочешь знать, где она сейчас?
– Да, – подтвердил Бальзамо.
– Карета мчится по бульвару, приближается, въезжает на улицу Сен-Клод, останавливается у ворот, в ворота стучат.
Комната, где они находились, была удалена от входа и так изолирована от всего дома, что стук бронзового молотка не был слышен в ней.
Тем не менее Бальзамо привстал на одно колено и замер, прислушиваясь.
Два удара, которыми постучался Фриц, заставили его вскочить: то был условный знак, что прибыл нежданный визитер.
– Значит, это правда, – прошептал Бальзамо.
– Ступай, Бальзамо, убедись, только поскорее возвращайся.
Бальзамо подошел к камину.
– Позволь мне проводить тебя до двери на лестницу, – попросила Лоренца.
– Идем.
Они оба прошли в комнату, украшенную шкурами.
– Ты не выйдешь из этой комнаты? – спросил Бальзамо.
– Нет, я же буду тебя тут ждать. Будь спокоен: Лоренца, которую ты любишь, это не та Лоренца, которой ты боялся, и ты сам прекрасно это знаешь. Впрочем…
Она замолчала и улыбнулась.
– Да? – поинтересовался Бальзамо.
– Разве ты не читаешь у меня в душе так же, как я в твоей?
– Увы, нет.
– Тогда вели мне уснуть до твоего возвращения, вели мне оставаться недвижной на этой софе, и я засну и не сдвинусь с места.
– Ну что ж, усни, любимая Лоренца, и жди меня.
Лоренца, уже борясь со сном, приникла поцелуем к устам Бальзамо, пошатнулась и упала на софу, шепча:
– До скорого свидания, мой Бальзамо, до скорого…
Бальзамо помахал ей рукой от двери, но она уже спала.
Приоткрыв рот, Лоренца лежала с распущенными волосами, на щеках играл лихорадочный румянец, глаза затуманились, и она была так прекрасна и чиста, так не похожа на земную женщину, что Бальзамо вернулся, поцеловал ей руку, поцеловал в шею, но не осмелился приникнуть к устам.
Снова раздался двойной стук – то ли графиня торопилась, то ли Фриц опасался, что Бальзамо в первый раз не слышал сигнала.
Бальзамо направился к двери.
Он уже закрыл ее, но тут ему почудился шорох, какой он слышал совсем недавно. Он приотворил дверь, осмотрелся, но ничего не обнаружил.
В комнате никого не было, только Лоренца прерывисто дышала во сне, изнемогая под бременем любви.
Бальзамо закрыл дверь и с радостным сердцем, без всякого беспокойства, страха и дурных предчувствий сбежал по лестнице.
Он заблуждался: не только любовь гнела грудь Лоренцы и делала ее дыхание таким тревожным.
То было нечто вроде сновидения, проникшего в летаргический сон, в который была погружена Лоренца, в сон, столь схожий со смертью.
Лоренце виделось в безобразном зеркале сонных видений, будто среди сгущающегося сумрака часть дубового потолка, нечто наподобие огромной розетки, начала вращаться и медленно, размеренно, равномерно с угрожающим шипением опускаться вниз; у нее появилось ощущение, что ей недостает воздуха, словно этот вращающийся круг потихоньку душил ее.
И еще ей почудилось, будто на этом опускном люке копошится некое бесформенное существо вроде Калибана из «Бури», чудовище в облике человека – старик, у которого живыми остались только глаза и руки, и он не отрывает от нее страшных глаз и тянет к ней иссохшие руки.
И она, несчастное дитя, тщетно извивалась, не имея возможности убежать, не догадываясь об угрожающей ей опасности, чувствуя только, что в ее белое платье вцепились живые клещи, подняли ее, не испытывающую ни ужаса, ни скорби, с софы и перетащили на люк, который медленно-медленно стал подниматься к потолку под унылый визг железа, трущегося о железо, под омерзительный хриплый смех этого чудовища в человеческом облике, что увлекало ее ввысь.
130. НАПИТОК МОЛОДОСТИ
Как и предсказывала Лоренца, посетительницей была г-жа Дюбарри.
Прекрасную куртизанку провели в гостиную. Она ждала Бальзамо, листая презанятную книгу о смерти, гравированную в Майнце; гравюры в этой книге, исполненные с поразительным искусством, представляли смерть, направляющую все действия, какие совершает в своей жизни человек; вот она поджидает его у двери бального зала, куда он пришел, чтобы пожать любимую руку; вот она утягивает его во время купания на дно; вот он идет на охоту, а она прячется в стволе его ружья.
Г-жа Дюбарри разглядывала гравюру, на которой была изображена красавица, прихорашивающаяся перед зеркалом, когда Бальзамо отворил дверь и со счастливой улыбкой поклонился ей.
– Простите, графиня, что я заставил вас ждать, но я неправильно рассчитал расстояние или, верней сказать, не знал, сколь стремительны ваши кони. Я полагал, что вы еще только на площади Людовика Пятнадцатого.
– Как так? – удивилась графиня. – Вы знали, что я приеду к вам?
– Да, сударыня, примерно два часа назад я видел, как вы отдавали у себя в голубом атласном будуаре приказ запрячь лошадей.
– Вы говорите, я была в голубом атласном будуаре?
– Да, там на атласе вышиты цветы. Вы, графиня, лежали на софе. И вам пришла в голову счастливая мысль. Вы сказали себе: «А не съездить ли к графу Фениксу?» – и позвонили.
– И кто же вошел на звонок?
– Ваша сестра, графиня. Так? Вы попросили ее распорядиться, чтобы запрягли лошадей.
– Вы, граф, поистине волшебник. Но не значит ли это, что вы в любой миг можете заглянуть ко мне в будуар? В таком случае вы должны были бы предупредить меня об этом.
– Успокойтесь, графиня, я заглядываю только в открытые двери.
– И, заглянув в открытую дверь, вы увидели, что я думаю о вас?
– Да, и притом с самыми лучшими намерениями.
– Вы правы, дорогой граф: что касается вас, намерения у меня наилучшие. Но признайтесь, что вы, такой добрый, такой услужливый, заслуживаете большего, нежели намерения. Мне кажется, вам предназначено сыграть в моей жизни роль опекуна, а трудней этой роли я ничего в мире не знаю.
– Право, графиня, это было бы для меня великим счастьем. Чем я могу быть вам полезен?
– Как! Вы, прорицатель, и не догадываетесь?
– Оставьте мне хотя бы одно достоинство – скромность.
– Пусть будет так, дорогой граф. Но тогда я начну с того, что сделала для вас.
– О, нет, сударыня, этого я не позволю. Умоляю, поговорим сначала о вас.
– Хорошо, дорогой граф, и тогда первым делом снимите с моей души незримый камень, потому что по дороге я, хоть и ехала быстро, узнала одного из слуг господина де Ришелье.
– И что же этот слуга, сударыня?
– Вместе со скороходом следовал верхом за моей каретой.
– Как вы думаете, с какой целью герцог приказал следить за вами?
– С целью сыграть со мной какую-нибудь скверную шутку, на которые он мастер. Как бы ни были вы скромны, граф, поверьте, Бог одарил вас многими преимуществами, вполне достаточными, чтобы король почувствовал ревность… из-за моих визитов к вам или ваших визитов ко мне.
– Господин де Ришелье, – отвечал Бальзамо, – ни при каких обстоятельствах не может быть опасен для вас.
– Тем не менее, дорогой граф, совсем недавно он представлял для меня большую опасность.
Бальзамо понял, что имеет дело с тайной, которую не успела открыть ему Лоренца. Поэтому он не рискнул вступать на неведомую территорию и ответил улыбкой.
– Да, да, – продолжала г-жа Дюбарри, – я едва не стала жертвой прекрасно подготовленной интриги, к которой и вы, граф, имеете некое касательство.
– Я – к интриге против вас? Да быть этого не может, сударыня!
– А разве не вы дали господину де Ришелье зелье?
– Какое зелье?
– Приворотное зелье, внушающее безумную любовь.
– Нет, сударыня, такие зелья господин де Ришелье составляет сам, у него давно есть рецепт. Я же дал ему обычный наркотик.
– Это правда?
– Клянусь честью.
– Постойте, постойте… А когда герцог попросил у вас этот наркотик? Вспомните, сударь, в какой это было день? Это крайне важно.
– В прошлую субботу, накануне того дня, когда я имел честь послать вам с Фрицем записку, в которой просил встретиться со мной у господина де Сартина.
– Накануне этого дня? – воскликнула г-жа Дюбарри. – Накануне дня, в который видели, как король направлялся к этой Таверне! О, теперь мне все ясно.
– Поскольку вам все ясно, сударыня, вы теперь видите, что мое участие заключалось только в передаче наркотика.
– И этот наркотик выручил нас.
Бальзамо опять предпочел подождать, поскольку ничего не знал.
– Я счастлив, сударыня, что сумел вам помочь, пусть даже невольно, – промолвил он.
– О, вы всегда были добры ко мне. Но вы можете сделать для меня гораздо больше, чем до сих пор. Ах, доктор, я была, выражаясь уклончиво, опасно больна и сейчас еще с трудом верю, что выздоровела.
– Сударыня, – заметил Бальзамо, – врач, поскольку тут и вправду присутствует врач, всегда спрашивает о подробностях болезни, которую ему предстоит лечить. Соблаговолите же рассказать мне как можно точнее, что вы испытывали, и, если возможно, постарайтесь не упустить ни одного симптома.
– Нет ничего проще, милый доктор или милый волшебник, как вам предпочтительней. Накануне дня, когда был использован этот наркотик, его величество отказался сопровождать меня в Люсьенну. Его лживое величество, сославшись на усталость, остался в Трианоне, чтобы, как впоследствии я узнала, поужинать с герцогом де Ришелье и бароном де Таверне.
– Ого!
– А теперь и вы понимаете! Во время ужина королю подлили любовное зелье, хотя он без того уже влюбился в мадемуазель де Таверне. Известно также, что на следующий день он не собирался ко мне. Он предполагал заняться этой крошкой.
– И что же?
– Он ею и занялся, вот и все.
– И что же там произошло?
– Вся трудность в том, что в точности узнать это невозможно. Хорошо осведомленные люди видели, как его величество направлялся к служебному флигелю, то есть к покоям мадемуазель Андреа.
– Мне известно где она живет. Что же было дальше?
– Дальше? В том-то и дело. Какой вы, граф, прыткий! Если король прячется, следить за ним небезопасно.
– И все-таки?
– Я могу сказать вам одно – его величество вернулся в Трианон среди ночи, в чудовищную грозу, бледный, трясущийся, и у него был жар, едва не перешедший в горячку.
– И вы полагаете, – улыбнувшись, осведомился Бальзамо, – что король напуган не только грозой?
– Да. Лакей слышал, как король несколько раз вскрикивал: «Мертва! Мертва! Мертва!»
Бальзамо хмыкнул.
– Это все наркотик, – продолжала графиня. – Ничто не нагоняет такого страха на короля, как мертвецы, а кроме мертвецов – картины смерти. Он увидел мадемуазель де Таверне спящую странным сном и решил, что она мертва.
– Да, именно мертва, – подтвердил Бальзамо, припомнивший, что в спешке он не разбудил Андреа, – или, во всяком случае, она выглядела как мертвая. Именно так! Дальше, сударыня, дальше.
– Итак, никто не знает, что на самом деле произошло той ночью, верней сказать, в начале ночи. По возвращении у короля начался чудовищный жар и нервные судороги, которые прошли лишь на следующий день, когда дофине пришла мысль открыть в покоях его величества занавеси, чтобы он увидел ласковое солнце, освещающее веселые лица. И все эти неведомые видения исчезли вместе с породившей их ночью. В полдень король съел бульона и крылышко куропатки, а вечером…
– А что же вечером? – переспросил Бальзамо.
– А вечером его величество, не пожелавший, надо думать, оставаться после ночных ужасов в Трианоне, приехал ко мне в Люсьенну, и клянусь вам, дорогой граф, я убедилась, что герцог де Ришелье ничуть не меньший волшебник, чем вы.
Торжествующее лицо г-жи Дюбарри, грациозный и лукавый жест, которым она выразила то, что не высказала словами, вполне убедили Бальзамо, что фаворитка все еще имеет власть над королем.
– Итак, вы довольны мною, сударыня? – осведомился он.
– Клянусь вам, граф, я в восторге. Вы сказали чистую правду, говоря мне о непреодолимых препятствиях, которые вы создали.
И в подтверждение своей признательности графиня протянула Бальзамо белую, мягкую, надушенную руку; хоть кожа на ней и не была столь же свежа, как у Лоренцы, однако тепло ее тоже было весьма красноречиво.
– А теперь, граф, поговорим о вас, – предложила г-жа Дюбарри.
Бальзамо поклонился, давая понять, что он слушает.
– Вы уберегли меня от великой опасности, – сказала графиня, – но мне кажется, я тоже спасла вас от ничуть не меньшей угрозы.
– О, вы могли даже не упоминать об этом, – скрывая волнение, промолвил Бальзамо, – я и без того признателен вам. Тем не менее соблаговолите рассказать…
– Как вы понимаете, речь идет о шкатулке.
– И в чем же там дело, сударыня?
– В ней были шифрованные бумаги, которые господин де Сартин отдал для прочтения своим канцеляристам. Все они расшифровали их по отдельности друг от друга, все записали свои расшифровки, и все расшифровки дали один и тот же результат. И вот сегодня утром господин де Сартин приехал в Версаль, как раз когда я была там, и привез эти записи и словарь дипломатических шифров.
– Вот как? И что же сказал король?
– Поначалу король выглядел удивленным, потом испуганным. Короля очень легко заставить слушать, говоря ему об опасности. После удара, нанесенного ему перочинным ножом Дамьена, есть одно слово, с которым у Людовика Пятнадцатого может преуспеть любой, и слово это «берегитесь».
– Итак, господин де Сартин обвинил меня в заговоре?
– Первым делом господин де Сартин попытался принудить меня выйти, но я наотрез отказалась, заявив, что, поскольку никто больше меня не привязан к королю, ни у кого не может быть права удалять меня, когда речь заходит об опасности. Господин де Сартин настаивал, я уперлась, и тогда король улыбнулся, многозначительно глянул на меня и сказал: «Оставьте ее, Сартин, сегодня я ни в чем не могу ей отказать».
Как вы понимаете, граф, я осталась, и господин де Сартин, не забывший о весьма недвусмысленных словах, что я сказала ему на прощание, побоялся вызвать мое недовольство, обвиняя вас. Он стал упирать на недоброжелательность прусского короля к Франции, на стремление иных умов использовать сверхъестественное для подготовки мятежа. Одним словом, с помощью расшифрованных бумаг он объявил множество людей преступниками.
– В каком же преступлении он их обвинил?
– В каком? Граф, вы хотите, чтобы я выдала государственную тайну?
– Сударыня, это наша тайна. Можете быть спокойны, вы ничем не рискуете. Мне кажется, молчать в моих интересах.
– Да, граф, в ваших интересах. Господин де Сартин хотел доказать существование многочисленной могущественной секты, состоящей из отчаянных, хитрых и решительных адептов, которая втайне подрывает почтение к его величеству, распространяя о нем всевозможные слухи.
– Какие, например?
– Например, будто его величество виновен в том, что его народ голодает.
– И что на это ответил король?
– Как всегда, шуткой.
Бальзамо с облегчением вздохнул и поинтересовался:
– И что же это была за шутка?
– Король сказал: «Раз меня обвиняют в том, что я морю голодом свой народ, я берусь взять на свое иждивение всех распускающих этот слух и, более того, предоставлю им жилье в своей Бастилии».
Бальзамо почувствовал, как у него по спине пробежал холодок, однако он продолжал улыбаться.
– А дальше?
– Король с улыбкой спросил мое мнение. «Государь, – заявила я, – никто не заставит меня поверить, будто эти черные значки, которые показывает вам господин де Сартин, утверждают, что вы плохой король». Начальник полиции начал протестовать. «Разве что они являются доказательством, – добавила я, – что ваши люди не умеют читать».
– И что же король, графиня? – осведомился Бальзамо.
– Сказал, что я, вероятно, права, но что господин де Сартин тоже прав.
– Ну и?..
– Было принесено множество именных королевских указов о заключении, и тут я увидела, что среди них господин де Сартин пытается подсунуть указ с вашим именем. Я вмешалась и объявила ему: «Сударь, можете арестовать хоть весь Париж, ежели вам угодно, это ваша должность, но пусть никто не пробует даже пальцем коснуться моих друзей!» «Ого! – воскликнул король. – Она гневается. Сартин, берегитесь». «Государь, – вскричал господин де Сартин, – интересы королевства…» «Послушайте-ка, – покраснев от ярости, отчеканила я, – вы как будто не Сюлли [108]108
Сюлли, Максимилиен де Бетюн, герцог де (1559–1641) – сподвижник, друг, советник и министр Генриха IV.
[Закрыть], а я вам не Габриель [109]109
Габриель д’Эстре (1573–1599) – любовница Генриха IV, который хотел на ней жениться, чему противился Сюлли.
[Закрыть]». «Графиня, но короля хотят убить, как убили Генриха Четвертого».
Король тут же залился бледностью, вздрогнул и схватился рукой за голову.
Я почувствовала, что проигрываю.
«Государь, – объявила я ему, – позвольте этому господину продолжить, его люди, надо думать, вычитали в этих шифрах, что я тоже участвую в заговоре против вас».
И я вышла.
Но это, дорогой граф, было на следующий день после любовного напитка, и мое присутствие для короля было дороже присутствия господина де Сартина. Король побежал следом за мной. «Графиня, ради Бога, не сердитесь!» – воскликнул он. «Тогда прогоните, государь, этого мерзкого человека, от него воняет тюрьмой». «Ладно, Сартин, ступайте», – пожав плечами, велел король. «А я запрещаю вам на будущее не только являться ко мне, но даже кланяться», – добавила я.
И тут наш начальник полиции потерял голову. Он подбежал и униженно поцеловал мне руку. «Хорошо, графиня, будь по-вашему, – сказал он, – но вы губите государство. Мои агенты не тронут вашего протеже, раз уж вы так стоите за него».
Бальзамо, казалось, погрузился в глубокую задумчивость.
– Так вот как вы благодарите меня, – упрекнула его графиня, – за то, что я избавила вас от знакомства с Бастилией, что было бы не только несправедливо по отношению к вам, но и крайне неприятно.
Ни слова не произнося, Бальзамо вынул из кармана флакон с красной, как кровь, жидкостью.
– Примите, сударыня, – сказал он. – За свободу, которую вы мне подарили, я дарю вам двадцать дополнительных лет молодости.
Графиня сунула флакон за вырез корсажа и, радостная и торжествующая, ушла.
Бальзамо продолжал стоять и о чем-то думал.
– Возможно, они были бы спасены, – произнес он наконец, – если бы не женское кокетство. Ножка этой блудницы столкнула их в бездну. Поистине, с нами Бог.
131. КРОВЬ
За г-жой Дюбарри еще не захлопнулась дверь дома, а Бальзамо уже поднимался по потайной лестнице в комнату, устланную шкурами.
Разговор с графиней затянулся, и поспешность Бальзамо объяснялась двумя причинами.
Во-первых, ему хотелось поскорее увидеть Лоренцу. Во-вторых, он боялся, как бы она не утомилась; в ее новой жизни не могло быть места для скуки, а вот утомление могло перевести ее, как это несколько раз случалось, из магнетического сна в состояние экстаза.
Однако после экстаза почти всегда случался нервный припадок, доводивший Лоренцу до изнеможения, если только Бальзамо не успевал вмешаться, устанавливая с помощью подкрепляющего магнетического флюида равновесие между противоположными силами организма.
Закрыв дверь, Бальзамо сразу бросил взгляд на софу, на которой он оставил Лоренцу.
Там ее не было.
И лишь тонкая кашемировая шаль, расшитая золотыми цветами, одиноко лежала на подушках, как бы свидетельствуя, что Лоренца была в этой комнате, что она тут отдыхала.
Бальзамо замер, не сводя глаз с пустой софы. Быть может, Лоренце стало нехорошо от странного запаха, стоящего в комнате и сейчас быть может, совершенно безотчетно, машинально, по привычке, сохранившейся от ее былой, реальной жизни, она переменила место.
У Бальзамо сразу мелькнула мысль, что Лоренца пошла в лабораторию, куда совсем недавно он ее водил.
Он кинулся туда. По первому впечатлению лаборатория была пуста, однако Лоренца спокойно могла укрыться и в тени огромной печи, и за любым восточным ковром.
Бальзамо приподнял все ковры, обошел вокруг печи, но нигде не было и следа Лоренцы.
Оставалась ее комната, куда, вероятней всего, она и вернулась.
Эта комната казалась Лоренце тюрьмой, только когда она бодрствовала.
Он ринулся туда, но увидел, что потайной ход закрыт.
Но это отнюдь не доказывало, что Лоренца не могла пройти через него. Вполне возможно, в своем вещем сне Лоренца вспомнила про тайный механизм, а вспомнив, подчинилась сонной галлюцинации, недостаточно тщательно изглаженной из ее мозга.
Бальзамо нажал на пружину.
Комната, как и лаборатория, была пуста; похоже, Лоренца даже не входила в нее.
И тогда мучительная мысль, мысль, как мы знаем, уже давно точившая его сердце, перечеркнула все упования, все надежды счастливого возлюбленного.
Лоренца играла; она притворялась, будто спит, развеяла подозрения, тревоги, усыпила бдительность супруга и при первой возможности обрести свободу снова бежала, куда более уверенная в успехе своего предприятия и обладающая куда большим опытом, чем при первой и даже второй попытке.
Потрясенный этой мыслью, Бальзамо позвонил Фрицу.
Но поскольку Фриц замешкался, он, гонимый нетерпением, кинулся навстречу ему и встретил его на потайной лестнице.
– Синьора? – крикнул он.
– Да, мастер? – спросил Фриц, чувствуя по волнению Бальзамо, что произошло нечто чрезвычайное.
– Ты ее видел?
– Нет, мастер.
– Она не выходила?
– Откуда?
– Да из дома!
– Из дома никто не выходил, кроме графини, и я запер за нею дверь.
Точно безумный Бальзамо взлетел по лестнице. Он подумал, что сумасбродной Лоренце, так отличающейся во сне от той, какой она бывает, когда бодрствует, пришло в голову попроказить по-детски, и она прячется в каком-нибудь уголке, наблюдая, как он мечется в ужасе; она наслаждается его испугом, но вот-вот явится перед ним и успокоит его.
И начались тщательные поиски.
Не осталось ни одного угла, в который бы он не заглянул, ни одного не открытого шкафа, ни одного не отдернутого занавеса. Во время этих поисков он был похож не то на человека, одержимого страстью, не то на умалишенного, не то на пьяного, который едва держится на ногах. В конце концов у него осталось сил только на то, чтобы раскрыть объятия и позвать: «Лоренца! Лоренца!» – в надежде, что возлюбленная выйдет из укрытия и с криком радости бросится к нему.
Но единственным ответом на эту сумасбродную мысль и на этот отчаянный зов было молчание – глухое, безнадежное молчание.
Бальзамо метался, передвигая мебель, взывал к стенам, крича: «Лоренца!» – смотрел, не видя, вслушивался, не слыша, трепетал, не живя, вздрагивал, не мысля, и в таком состоянии прожил три минуты, иными словами, три столетия агонии.
Из этого состояния бреда он вышел полубезумным, окунул ладонь в вазу с холодной водой и смочил себе виски, затем, взявшись одной рукой за запястье другой, словно стараясь удержать ее, усилием воли заставил умолкнуть назойливый шум в голове – роковое, непрестанное, монотонное биение крови, ибо когда оно не отдается в мозгу, то означает жизнь, но когда становится бурным и стремительным, грозит смертью либо сумасшествием.
– Подведем итог, – промолвил он. – Лоренцы здесь нет. Хватит играть с собой в прятки. Лоренцы здесь нет, значит, она ушла. Да, ушла.
Бальзамо еще раз огляделся вокруг и снова позвал – на всякий случай.
– Ушла! – повторил он. – И напрасно Фриц утверждает, будто он не видел ее. Она ушла.
И тут возможны два варианта.
Первый: Фриц действительно не видел ее, что в сущности вполне естественно – человеку свойственно заблуждаться. И второй: он видел ее, но был подкуплен Лоренцей.
Фриц – подкуплен!
А почему бы нет? Почему нельзя усомниться в его верности? Если Лоренца, любовь, наука могут так обманывать и лгать, почему не может солгать столь слабое и порочное по своей природе существо, как человек?
О, я все узнаю, все! Разве не остается у меня мадемуазель де Таверне?
Да, с помощью Андреа я удостоверюсь в измене Фрица, в измене Лоренцы и тогда… О, на этот раз, если подтвердится, что любовь солгала, наука ошиблась, а верность подстроила западню, Бальзамо покарает преступников без жалости, не слушая оправданий, отринув милосердие и храня гордость, как и должно карать могущественному человеку.
Итак, сейчас мне нужно уйти, не возбудив подозрений Фрица, и скакать в Трианон.
И Бальзамо, подхватив шляпу, упавшую на пол, рванулся к двери, но в тот же миг остановился.
– О Господи, – пробормотал он, – но сначала… Бедный старик, я совсем забыл о нем. Прежде всего надо повидать Альтотаса. Из-за этого исступления, этих предательских любовных судорог я совершенно забросил беднягу. Какая неблагодарность, какая жестокость!
В лихорадочном возбуждении, каким были отмечены в этот час все его поступки, Бальзамо подбежал к пружине, приводящей в действие рычаг опускного механизма.
Подъемник спустился.
Бальзамо встал на него и благодаря противовесу начал подниматься, но и сейчас он был занят лишь своими сердечными и душевными тревогами и думал только о Лоренце.
Едва его голова поднялась над полом комнаты Альтотаса, он услыхал голос старца, и это отвлекло его от печальных мыслей.
Однако, к величайшему изумлению Бальзамо, услышал он не попреки, которых ждал, нет, Альтотас встретил его весело и жизнерадостно.
Ученик поднял удивленный взгляд на учителя.
Старик лежал, откинувшись, в своем кресле на пружинах; он дышал с хрипом, но с таким наслаждением, словно каждый вдох приносил ему лишний день жизни; его глаза, пылавшие мрачным огнем, который несколько смягчала улыбка, кривившая губы, казалось, впивались в Бальзамо.
Бальзамо, собравшись с силами, привел в порядок мысли, чтобы ни в коем случае не выдать свое волнение перед наставником, не слишком склонным прощать человеческие слабости.
И в этот миг, когда Бальзамо собирался с силами, он ощутил: что-то гнетет его грудь. Да, воздух был насыщен чем-то тлетворным, каким-то тяжелым, пресным, тепловатым, тошнотворным запахом; этот же самый запах, но не такой сильный, Бальзамо почувствовал уже внизу, а здесь он просто висел в комнате, подобный тем испарениям, что поднимаются осенью в часы рассвета и заката над озерами и болотами; он липнул к телу и оседал каплями влаги на стеклах.
От этого тягостного, кисловатого воздуха у Бальзамо сжало сердце, закружилась голова, к горлу подступила тошнота, он почувствовал, что слабеет, ему не хватает дыхания.
– Учитель, – обратился он к Альтотасу, ища на что бы опереться и пытаясь вздохнуть, – как вы можете тут жить? Здесь нечем дышать.
– Ты так считаешь?
– Да.
– А мне так очень хорошо дышится, – с некоторой даже игривостью отвечал Альтотас, – и, как видишь, я жив.
– Учитель, подумайте о себе, – чувствуя себя все хуже и хуже, продолжал Бальзамо, – позвольте мне отворить окно. Мне кажется, будто с пола поднимаются кровавые испарения.
– Кровавые? Ты находишь?.. Кровь! – воскликнул Альтотас и зашелся смехом.
– О, да, да! Я чувствую миазмы, какие выделяет тело только что убитого существа! Я их словно физически ощущаю, так они гнетут мне сердце и мозг.
– Вот-вот, – с насмешливым хохотком заметил старик, – я уже давно заметил: у тебя, Ашарат, слишком нежное сердце и слишком слабая голова.
– Учитель, – произнес Бальзамо, указывая пальцем на старца, – у вас кровь на руках. Учитель, кровь на этом столе, кровь всюду, даже в ваших глазах, в которых сверкает огонь. Учитель, от этого запаха у меня мутится голова, я задыхаюсь от него. Учитель, здесь пахнет кровью.
– Ну и что? – равнодушно поинтересовался Альтотас. – Разве этот запах для тебя внове?
– Нет.
– Ты что же, никогда не видел, как я произвожу опыты? Разве ты сам никогда не производил их?
– Но это человеческая кровь! – воскликнул Бальзамо, проводя рукой по лбу, на котором выступил пот.
– У тебя тонкое обоняние, – удивился Альтотас. – Никогда не подумал бы, что можно по запаху отличить кровь человека от крови животного.
– Человеческая кровь! – пробормотал Бальзамо.
Он пошатнулся и, ища за что бы ухватиться, вдруг с ужасом заметил большой медный таз, полированная поверхность которого отражала красный, глянцевый цвет свежей крови.
Таз был наполнен до половины.
Бальзамо в страхе попятился.
– Кровь! – воскликнул он. – Откуда она?
Альтотас не отвечал, но его взгляд отмечал неуверенность, растерянность, испуг Бальзамо. А тот внезапно душераздирающе взвыл.
Затем бросился, словно заметив добычу, в угол комнаты и схватил с пола расшитую серебром шелковую ленту, стягивающую длинную черную косу.
После этого резкого, горестного, нечеловеческого вопля в комнате на несколько мгновений воцарилась тишина.
Бальзамо медленно поднял ленту, весь дрожа, долго рассматривал косу: на одном конце она была перехвачена лентой, в которую была вколота золотая шпилька, с другого конца была ровно отрезана и чуть расплелась; кончики волос были в крови, на них дрожали крупные красные капли.
Чем выше поднимал Бальзамо руку, тем сильней она тряслась.
Чем пристальней всматривался он в испачканную ленту, тем бледней становилось его лицо.







