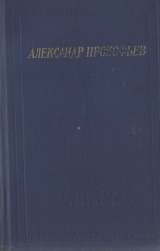
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Александр Прокофьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
Слова мы не на паперти
Выпрашиваем где-то,
Они у нас на скатерти
Сверкают – самоцветы.
Они у нас, они у нас…
(«Можно ли отречься от стихов?..»)
Поэт останавливается, словно у него перехватило горло от внезапно сверкнувшего перед ним и поразившего его (в самом буквальном смысле этого слова!), неожиданного даже для него самого сравнения, чтобы воскликнуть:
…Они как молния из глаз!..
И в свете этих внезапно сверкнувших молний ему с особенной ясностью видится все то, что несет нам поэзия, безмерно обогащающая наш внутренний мир, а потому и равная чуду – что бы ни говорили на сей счет иные скептики и маловеры.
Поэт обращался к творчеству на том накале и подъеме чувств и страстей, без какого, полагал он, лирике чего-то самого нужного и необходимого может и не хватить, или, как утверждал он:
Ты сам гори, и выйдет чудо,
Коль нету чуда – не стихи!
(«Люблю, коль день работой начат…»)
В этом его утверждении – не отклик на случайное и преходящее настроение, а то убеждение, какое поэт отстаивал годами и десятилетиями, выступая против «школы равнодушных» (говоря словами Николая Тихонова). Это во многом определяет и полемический накал его творчества, чуждого полутонам и полупризнаниям, какой бы то ни было уклончивости или недоговоренности.
Уж если поэт и начинал разговор в стихах – и о стихах, – то со всею присущей ему откровенностью, пристрастностью, требовательностью, – а иначе, полагал он, и заводить такой разговор ни к чему! А поводов для полемики в 50–60-х годах у поэта было немало.
Положение на фронте современной литературы являлось сложным, а во многом и противоречивым. Здесь – наряду с произведениями значительными и подлинно реалистическими – публиковалось немало и таких, какие меньше всего отвечали большим задачам, стоящим перед нашей литературой. Иные критики ставили под сомнение самые ее основы, испытанные и проверенные целыми десятилетиями, метод социалистического реализма, стремились ограничить художника областью сугубо личных переживаний и преходящих настроений, никак не связанных с гражданским началом, с чем А. Прокофьев никак не мог примириться и выступал против подобных воззрений и концепций со всею присущей ему решительностью. Утверждая, что в стороне от современной действительности не может остаться ни один художник, поэт с горечью замечал:
Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгрустит.
Но что Россию знаем плохо,
То уж наверно не простит!
(«На темы самокритики»)
Не мог простить этого и сам Прокофьев, видевший, что иные поэты – и не без влияния критики и эстетики – всецело погружены в область своих сугубо личных переживаний и настроений, ограничиваются ими, не стремятся к основательному постижению современности и деятельному участию в ней – и тем самым обедняют свое творчество, лишают его подлинной глубины и значительности.
Поэт решительно выступал против стиха внутренне неорганизованного, «расхристанного», претендующего на некую смелость, но отвечающего лишь некоторым броским признакам новизны и преходящей моды, в чем бы они ни заключались! Он с иронией говорил:
Стихов подобных горы сложены.
Они-де модны, эти горы,
О них повсюду разговоры…
(«Хромает стих, строка ломается…»)
А. Прокофьев настойчиво спорил и с теми, кто пытался свести новаторство к самодовлеющему формотворчеству, к внешним приемам и броским эффектам; поэт не без усмешки обращался в адрес таких стихотворцев:
Поразбивали строчки лесенкой
И удивляют белый свет,
А нет ни песни и ни песенки,
Простого даже ладу нет!..
Конечно, сам-то А. Прокофьев не против «лесенки», так же как и других новых форм стиха (присущих и его творчеству), если они внутренне оправданы и необходимы, продиктованы внутренним развитием затронутой темы.
Но если иные «новаторы» в оправдание своих сугубо формальных новаций ссылались на Маяковского, весьма поверхностно осмысляя самое существо и дерзкую новизну его стиха, то поэт настойчиво напоминал им:
Ужель того не знают птенчики,
Что он планетой завладел?
Они к читателю с бубенчиком,
А он что колокол гремел.
(«Поразбивали строчки лесенкой…»)
Здесь поэт подчеркивает в стихах Маяковского тот гражданский пафос и самоотверженный труд, какого явно не хватает в произведениях тех, кто склонны считать себя самыми верными его последователями и наследниками.
С особой настойчивостью оспаривал поэт невнимательное, а зачастую и пренебрежительное отношение к великим традициям нашего искусства, а Прокофьев не мыслил без них и его дальнейшего развития. Здесь он спорил со своими оппонентами со всею присущей ему страстностью и даже ожесточенностью, отстаивая не только наследие классиков прошлого, Блока, Маяковского, Есенина, но и те клады и заветы народного творчества, какие кое-кому казались уже устаревшими и отжившими, а для него они оставались навсегда живыми и неистощимо плодотворными.
Выше говорилось о том, как весомо и своеобразно отзывались в раннем творчестве А. Прокофьева народные предания, легенды, былины, обретавшие в его стихах поразительно новое звучание – в сочетании с теми событиями и эпизодами гражданской войны, героический характер которых явился побудительным началом новых былин и преданий, на какие и откликнулся поэт, обогащая их своим жизненным и литературным опытом.
Для поэта несомненно и то, сколько возможностей для большого и страстного разговора о глубинах наших переживаний слышится в частушке, с какою проникновенностью и ясностью может она передать и запечатлеть их. И вот мы читаем в его стихах:
Ты оставь свою кручину,
Сбрось ее скорее с плеч,
Ведь кручина не лучина,
Ею печку не разжечь!..
И какая чувствуется здесь душевность и психологическая глубина! А если тот, к кому обращены стихи, не поймет этого – что ж, тем хуже для него:
Если ты ее не сбросишь,
Изведет тебя она.
Ну а впрочем, ну а впрочем,
Наше дело – сторона!..
И хоть не совсем «сторона», но поэт свое дело сделал, и если не этот его слушатель, значит, кто-то другой (и таких найдется немало!) не сможет не отозваться на его ясную и прозрачную, подобную прохладной ключевой воде, частушку, вобравшую капли и крупицы подлинно народной мудрости, той житейской зрелости, какая досталась ценою больших испытаний.
Поэт так чуток к прекрасному в народном слове, в его поэзии, что из самого непритязательного мотива умеет извлечь драгоценное зерно высокого искусства и по-своему обогащает его, сообщив присущему частушке выражению сердечности и непосредственности ту точность и виртуозность, в которой сказывается хватка испытанного мастера:
Северяночка, устюженка,
Веселые года,
Ты куда ушла, жемчужинка,
Ужели навсегда?..
(«Неужели?»)
И мы видим, что эта «жемчужинка» полна немеркнущим светом, который словно бы разливается и в самой частушке А. Прокофьева прозрачным, хочется сказать, жемчужным сиянием.
А если поэт зачастую обращался к такому традиционному жанру, как частушка, мог ли он умолчать о гармони, навсегда связанной с нею, хотя и знал, что иные критики рассматривают этот инструмент как слишком примитивный и чуждый духу нашей современности. Но поэт не собирался отказываться от нее, видел ее новые и неисчерпаемые в его глазах возможности. Для него гармонь – это словно волшебная шкатулка, «доверху набитая песнями, стихами», и как молодо, всегда по-новому звучит она, если попала в руки мастера, и сколько неожиданного, задушевного ему слышится в ней, когда он снова встречается со своими односельчанами:
Провожали гармониста всем селом,
Осыпали гармониста серебром:
Серебром нашей речи,
Всех частушек Заречья…
(«Серебро»)
А если поэт заговорит о таком жанре, как сказка, то не сможет удержаться от восторженного воспевания ее чудесных свойств и особенностей, накрепко связанных, при всей ее фантастичности, с реальной и подчас крайне трудной жизнью, с самыми суровыми испытаниями, издавна изведанными поэтом и его родными и однокашниками:
С ней живет рыбак на льдине,
С ней легка дорожка!
Ходит сказка вся в сатине,
В лаковых сапожках, —
(«Сказка»)
ходит, как наш закадычный, с детства знакомый друг и заступник в беде, на которого можно положиться всегда и во всем.
А вслед за сказкой в лирику А. Прокофьева входит песня, оживленная, бойкая, необходимая в любом труде, та, без которой и праздник не в праздник, а с нею одно чудо возникает вслед за другим:
Раньше времени
Снег растаял,
И взвилися лебеди
Белой стаей…
(«Выход песни»)
И не только лебеди – чувством полета охвачены все те, кто прислушивается к ней и с кем она делится своей красотой, своим вдохновением, своею властной и покоряющей силой.
Как видим, поэт не только в детстве, когда увлеченно прислушивался к сказаниям, частушкам, песням своих односельчан, но и в зрелые свои годы видел в созданиях народного творчества тот неисчерпаемый источник, какой может обогатить и современную нашу поэзию, дать ей новые и важные стимулы дальнейшего развития и совершенствования, – но и это нередко обретало дискуссионный характер, ибо далеко не все критики и поэты соглашались с таким пониманием традиции и новаторства.
То же самое можно сказать и о таких традиционных и издавна знакомых, но всегда живых и бессмертных в глазах поэта образах и мотивах, как деревья, цветы, травы, за воспевание которых ему порою весьма сурово выговаривали иные критики, в адрес которых он и замечал:
Упрекают критики всерьез
В том, что много мной посажено берез,
И не только по цветным полям, лугам,
А по песням, по частушкам, по стихам…
Что ж, поэт не отвергал этих попреков: ведь и верно, немало посадил он берез и других деревьев и злаков, и не только на лоне родной природы, но даже в стихах и песнях! Но стоит ли это тех попреков, на которые слишком тороватыми оказались иные критики? А для самого поэта очевидно: не так-то все просто, как представляется им, и те же березки, – хоть и много о них уже сказано, – могут постоять сами за себя, навеки живые и бессмертные (как бессмертен и прекрасен окружающий нас мир!). И поэт объясняет своим критикам то, что для него совершенно очевидно и без всяких доказательств:
Ну и что ж, – я отвечаю. – Ну и что ж,
Ведь красивы так, что глаз не отведешь!
Но он восхищается ими не только потому, что от них «глаз не отведешь», а и другими их особенностями и приметами, не менее прекрасными и значительными в его глазах, – их упорством, стойкостью, жизнеспособностью. Здесь одно неотделимо от другого, это они —
…проходят то суглинком, то песком,
А на Север а на Крайний – лишь ползком!
Перед ними только камень, только лед,
Мертвый холод подниматься не дает,
А березка, белой смерти вопреки,
Проползает, хоть на шаг, из-за реки!..
И разве не залюбуешься такой березкой, словно бы спрашивает поэт своего слишком придирчивого критика, разве можно остаться равнодушным к этому удивительному сочетанию красоты и мужества, отвечающего мужеству тех людей, среди которых она выросла и закалилась? Все это и является ответом тем критикам, которые «попрекают» поэта (да еще «всерьез»!) за его пристрастие к березам (да и к другим приметам и символам родной земли!). Но разве в этом не сказывается их явная нечуткость и близорукость? – утверждал поэт в споре с ними.
Бросается в глаза и то, что в своей полемике А. Прокофьев не ограничивался проблемами сугубо литературного и эстетического характера, а касался важнейших вопросов жизни и творчества. В их решении поэт также сохранял всю присущую ему страстность и непримиримость, если видел, что вопрос затрагивает те положения и основы, где какая бы то ни было уступчивость и уклончивость недопустима.
Как очевидно для любого читателя, лирика А. Прокофьева пронизана духом и пафосом героики, воодушевляющей многие и многие его стихи, но и в этом своем качестве она нередко также оказывалась полемически заостренной: ведь находились и такие критики, которые отвергали героическое начало в нашем искусстве, трактуя его как высокопарность и риторику.
Этим критикам поэт и отвечал, опираясь прежде всего на огромный опыт времен войны, изведанный миллионами и миллионами; это они
Шли суровой воинской порою,
Громом пушек всё перекричав,
Шли за власть Советскую герои,
Грозен был их путь и величав…
(«Билет № 4 142 357»)
Эти стихи обретали не только утверждающий, но еще и иной смысл, полемически заостренный против тех, кто усердно ратовал за «дегероизацию» нашего искусства.
А. Прокофьев видел поэзию в одном ряду с другими творческими деяниями и свершениями, а потому и говорил в своих стихах:
…Можно взять иных профессий круг,
Лишь бы труд был в нашей родословной.
С ним придет поэзия сам-друг…
(«Владимиру Маяковскому»)
Она придет как родная сестра, как муза людей труда и борьбы, скажет за них и о них свое слово, и эту музу, еще не успевшую сбросить словно бы пропитанную потом гимнастерку, славил и воспевал поэт, вступая в страстную полемику с теми, кто находил такое толкование искусства слишком далеким от его сути и назначения.
Когда поэт не без гордости утверждал:
Это я прошу иметь в виду —
Все у нас рыбачили в роду, —
то здесь не просто констатация факта, а решительное и горделивое утверждение, полемически заостренное против любого, кто усомнился бы в нем и недооценил всей его значительности, как в жизни, так и в творчестве, кто сводил суть лирики к изъявлению субъективных настроений самого художника.
«Прошу иметь в виду» – так решительно и требовательно говорят только о самом важном, без чего нельзя осмыслить и оценить суть затронутого вопроса, иначе и все остальное может показаться чем-то сомнительным и ненадежным.
Поэт неизменно отстаивал великое значение и непреходящую красоту любого подлинно плодотворного труда, без какого он не представлял и нашего внутреннего богатства, а стало быть, открывающего перед художниками слова те обширные возможности, мимо которых иные из них проходят слишком равнодушно и незаинтересованно. С ними-то поэт и вступал в острый спор.
Исполненный чувством внутреннего горения, постоянной готовности к труду и борьбе, служению самым высоким целям и устремлениям нашего века, поэт именно с этих позиций отвечал и тем, кто пытался усмотреть (были и такие!) некую неодолимую преграду меж различными поколениями наших людей, меж нашими «отцами» и «детьми»:
Ты веди меня, Русь.
Я еще молодых затыкаю за пояс,
Ничего не боюсь
И о смерти не беспокоюсь!
Я, как многие, видел ее не однажды,
Коченея от холода,
Изнывая от жажды…
(«Россия»)
И хотя это сказано не без «перехлеста» («затыкаю за пояс»), характерного для поэта, отвергающего в своей страстности и запальчивости какие бы то ни было меры и пределы, но разве и в этом не чувствуется его неиссякаемая молодость и задорность во всем, чего бы это ни касалось!
Как известно, книга «Приглашение к путешествию» открывается циклом романтически окрыленных и возвышенно-горделивых «Стихов о России». Иному читателю может представиться, что поэт, создавая эти торжественные стихи и величальные гимны, чуждые, казалось бы, какой бы то ни было спорности и дискуссионности, утихомирил с годами свой полемический пыл и задор. А на самом деле это не так, и даже его стихи о России совсем не чужды духу полемики, что станет нам особенно очевидным, если мы вспомним, какие дискуссии кипели в литературной среде в 50–60-х годах, когда кое-кто в критике и вообще оспаривал значение большой общественной темы в нашей поэзии.
Эти полемические мотивы в творчестве А. Прокофьева не утратили своей актуальности и поныне. Можно напомнить, что не только в то время иные критики высказывали сомнение в необходимости величальных гимнов России, но и совсем недавно в одном из весьма популярных журналов утверждалось, что «всякие же модные биения в грудь и клятвы перед Русью (в стихах. – Б. С.) – один маскарад, не больше!»[3]3
«Юность», 1973, № 9, с. 74.
[Закрыть]
А вот такое пренебрежительное отношение к этим клятвам было в корне чуждо А. Прокофьеву, и поэт резко и решительно полемизировал с ним, опровергая его во многих и многих своих стихах, где говорил о коммунистах:
Они несут знамена боевые,
Благоговейно осеняют Русь.
Они клялись беречь тебя, Россия,
И я под их знаменами клянусь!..
(«Мне о России надо говорить…»)
И поэт в своем творчестве утверждал и свидетельствовал незыблемость этих клятв, верность им в любых боях и испытаниях. Он полагал, что только тот, кто видит в окружающем его мире главное и основное и говорит именно о нем, может стать достойным художником нашей эпохи.
Страна моя воистину прекрасна,
И никому ее не превозмочь!.. —
(«Не знаю, что я в памяти оставлю…»)
восклицал он в посвященных России стихах, но даже и этому утверждению, незыблемому в глазах поэта, он придавал полемически заостренную направленность, задавая настойчивый вопрос:
Согласны с этой истиной, согласны?
И тут же резко и даже гневно отвечал тем, кто мог бы поставить под сомнение эту истину, неопровержимую в его глазах:
Кто не согласен – пусть уходит прочь!
Как видим, если вопрос касался святых и нерушимых в глазах поэта убеждений и верований, он ни в чем не мог уступать, защищая свои позиции со всею присущей ему страстностью и даже запальчивостью.
Если он исповедовался перед нами в своей всепоглощающей и страстной любви, словно бы преображающей в его глазах весь окружающий мир:
Я только то и делаю, что славлю
Самозабвенно Родину свою, —
то тут же добавлял, придавая своим стихам откровенно полемическую заостренность:
…Мои друзья,
Я никогда веснушек не считаю,
И в этом тоже заповедь моя!
Конечно, не всякий читатель и критик согласится с такою «заповедью». Можно, а подчас и необходимо взглянуть на окружающий мир и по-иному, не пропуская и мелочей, соринок, «веснушек», что также вполне отвечает духу и закономерностям подлинно реалистического искусства.
Как видим, страстная увлеченность порою настолько захватывала поэта, что заставляла его отстаивать даже и те положения, с какими трудно согласиться. Читатели и критики могли бы поспорить с иными полемическими стихами А. Прокофьева, – и порою не без оснований.
Но если кто-либо и стремился отвергать те позиции и утверждения поэта, какие он полагал несомненными – и не только для своего творчества! – то в резком споре со своими оппонентами он не чувствовал себя одиноким, ибо видел в себе представителя той семьи и того рода, которые не уступают, если верят в свою правоту. Недаром, когда нужно,
…давали сдачи
Наши деды-рыбаки,
Бабки-рыбачки.
(«Рыбацкая»)
А уж если в этой семье даже и бабки могут дать сдачи своим обидчикам, то мог ли уступить им в этом запале сам поэт? Исполненный неугасимым творческим пылом и задором, он требовал от жизни таких верных и надежных слов, каких не смогли бы размыть ливни и сжечь грозы, он требовал их
…по главному,
По кровному родству,
Крутому, своенравному,
Которым я живу!..
(«Дай мне, жизнь, пожалуйста…»)
Поэт не случайно подчеркивал в этом родстве с жизнью «крутость», «своенравие» как отличительные черты и самой жизни и своего характера, гордого, неуступчивого, страстного, что полностью отозвалось в его лирике и в его полемике, да и не только в полемике!
Но даже и тогда, когда поэт в своем полемическом задоре и запале нарушал необходимую меру объективности и многосторонности, нельзя не видеть, что и в этих случаях он исходил не из сугубо личных пристрастий или антипатий, а из чувства неотъемлемой ответственности не только за свое творчество, но и за всю современную литературу и ее дальнейшее развитие. И если здесь что-то вызывало его заботу или тревогу, он издавна высказывал их со всею присущей ему прямотой, откровенностью, страстностью – уж такова была его натура! Он готов был пойти на любые трудности и испытания, самые острые споры, если видел, что именно так можно отстоять свои верования и убеждения.
До самых последних лет своей жизни поэт оставался таким же неистовым борцом, жизнелюбом, как и в прежние годы. Его всегда сжигала неутолимая жажда активной и напряженной деятельности, посвященной самым великим целям и устремлениям наших людей, что и являлось тем вдохновляющим началом, без какого нельзя представить его творчество.
Нетрудно убедиться, что многое в нем – и самый его пафос, его романтическая устремленность, верность большой гражданской теме, пристрастие к «буйной силе», отзывающейся во всех средствах образной выразительности, – свидетельствует о цельности поэта, внутреннем единстве всего созданного им за несколько десятилетий. Вместе с тем бросается в глаза и то, что с годами его творчество менялось, обретая все большую реалистическую весомость, зримость, верность фактам и обстоятельствам самого повседневного быта, вытесняющую былой гиперболизм, а то и фантастичность, не считающуюся с условиями окружающей действительности.
В стихи последнего периода его творчества уже не вторгается «многоголовый зверь», а если мы вспомним такое характерное раннее стихотворение о деде, который, подобно мифологическому герою, «рыжее солнце берет в пятерню», и сопоставим его со стихотворением «Дед», созданным многие годы спустя, то увидим, как изменился почерк поэта.
Образ деда отвечает тому же духу героики и романтики, какому поэт никогда не изменял, но воссоздан он в ином ключе. Здесь дед – родоначальник большой рыбацкой семьи, внешне ничем не примечательный – разве что своим горбом, – предстает перед нами во всей обыденности, а вместе с тем и в своем непобедимом обаянии и величии, да и его горб, нажитый огромным и бессонным трудом, обретает большой и почти символический смысл.
А разве не отличаются такою же жизненностью и живописностью те «Татьянки да Юльки» рыбацкой семьи, которые, едва выползши из люлек, «свистели в свистульки и сети вязали»?
Вырванные из народной гущи, образы этих людей возникают перед нами во всей их характерности и доподлинности, верной обстоятельствам и подробностям самого повседневного быта, и зачастую именно в этой верности, не требующей никаких преувеличений и приукрашений, находит художник реалистическую полнокровную живописность, поэзию и романтику воссоздаваемых им образов его героев, неотделимых от пафоса мужества, борьбы, творческого труда, что с наибольшей увлеченностью и настойчивостью подчеркнуто поэтом в зрелый период его творчества.
С годами во многом изменился и язык поэта. В более поздних его стихах уже нет акцента на сугубо локальные, может быть и не совсем понятные за пределами данной местности и данных обстоятельств речения и идиомы («Тырли-бутырли, дуй тебя горой…» и т. п.), в каких он некогда находил особую свежесть стиха, его неповторимое своеобразие. А в последних книгах поэта его язык, не утрачивая своей локальной выразительности, вместе с тем становится прозрачней, яснее: в нем нередко сочетаются особенность и и непосредственность говора ладожской деревни («…Татьянки да Юльки и прочая клюква» и т. п.) с традициями и нормами литературного языка, что и определяет особое звучание стиха, присущего именно А. Прокофьеву и придающего ему подлинное своеобразие.
Перед своим читателем поэт предстает как большой и самобытный художник, мастерски владеющий стихом. Но особо следует подчеркнуть и то, что за каждым его словом – не просто искусство большого и опытного мастера, а и весь его характер, весь его жизненный опыт, годы и десятилетия борьбы и труда, что полностью отозвалось и в его творчестве.
Поэт справедливо утверждает: «Вся моя биография Разошлась по стихам», и далее, перебирая события, ставшие переломными в его жизни, а стало быть, и в творчестве, подчеркивает, что здесь одно неотделимо от другого. Вот что придает такую весомость и значительность его стихам. За каждым из них мы угадываем опыт всей его жизни, напряженной борьбы.
Поэт не только повествует в своих стихах о родной ему рыбацкой семье и тех исторических событиях, в каких она являлась непременным участником: он с гордостью скажет и о себе самом как об одном из тех, кто принадлежит к исконной рыбацкой «династии» и делит с нею на равных началах все ее труды и заботы, деяния и подвиги: «Я не только рыбачил, Я и землю пахал!» И без этой трудовой и солдатской закваски, пафоса плодотворного труда и неустанного, преобразующего мир творчества нельзя представить и лирики А. Прокофьева во всей ее полноте и многогранности, во всех ее особых и крайне характерных чертах и приметах.
А. Прокофьев никогда не забывал и о том, кому обязан он – выходец из почти никому не известной, а потом ставшей знаменитой деревни Кобона, сын ладожского крестьянина и рыбака, обреченный на скудное житье и беспросветную нужду, – тем, что в корне изменилась вся его судьба, неотделимая от судеб Родины, кровно связанная с нею, и это чувство настолько поглощало и захватывало поэта, что в его выражении и воплощении он всегда находил нечто новое и дотоле невысказанное.
Страна моя прекрасная,
Я выстрадал ее, —
(«Отечество»)
читаем мы в его стихах. А о том, что это именно так, о том, что уже и с самых малых лет он призван был «выстрадать» ее, свидетельствует поэма «Юность», где явственно угадываются автобиографические мотивы, и они говорят о том, что поэт обращался к ним далеко не случайно.
«Юность» – поэма о неповторимо личном и крайне знаменательном жизненном пути ее автора, а вместе с тем – о самом главном и основном, что в корне изменило его судьбу и судьбы множества таких же, как и он, некогда бесправных и обездоленных, ныне ставших полновластными хозяевами своей могучей и прекрасной страны.
Жизненный опыт А. Прокофьева вместил в себя множество черт и примет, характерных для выходца из старой ладожской деревни, а вместе с тем явился необычайно важным, социально-весомым, неотъемлемым от судеб миллионов, что и позволило поэту раскрыть этот опыт во всей его индивидуальности и неповторимости, а вместе с тем подчеркнуть его нерасторжимую связь с судьбами всего народа. Это и придало особо важное значение творчеству Александра Прокофьева, определило его весомость и масштабность. В нем неповторимо личное сочетается с большими раздумьями, с патриотическим пафосом, с чувством высокой ответственности за судьбы родной страны и ее будущее. Все это и слагается в то единое и внутренне неразрывное целое, какое составляет суть и характер всего творчества А. Прокофьева, являющегося одной из самых примечательных глав советской поэзии. Поэт видел и в себе представителя и неотъемлемую часть того народа, который
Велик своей душой отрадной,
Животворной, истинно живой, —
и поэт восторженно говорит о том необычайном и удивительном, что открывалось ему, и с годами все очевидней и несомненней:
Он широк в плечах, широк душою,
Слова зря не молвит по уму.
И веселье у него большое, —
Малое зачем ему, к чему?
(«Россия»)
Прокофьев стремился полностью перенять у народа все эти великолепные черты и качества в своем творчестве. Лирика его —
Как русская песня с хорошим зачином,
С которою жить веселей…
Действительно, с его лирикой «жить веселей» – столько в ней радости, душевной широты, молодого и деятельного задора, восторга перед родной страной и ее людьми.
Радость жизни, жажда творчества, готовность к борьбе, к преодолению любых испытаний, великая вера в будущее, в человека, который стремится открыть и утвердить прекрасное во всем окружающем нас мире, – вот что составляет пафос лирики А. Прокофьева.
Конечно, особого внимания заслуживает и его творчество как одного из активных деятелей дружбы народов, во вдохновенных переводах которого многие выдающиеся создания поэтов братских республик находят точное и художественно полнокровное воплощение. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать «стихи товарищей» А. Прокофьева – Павло Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, мастерские переводы белорусских, эстонских, латышских и многих других поэтов, творчество которых находило и здесь свой верный и сердечный отклик.
Обращаясь к очень широкому кругу читателей, поэт не забывает и самых малых из них, чем и вызвано создание детских стихов, ярких и своеобразных, насыщенных фольклорными мотивами, а вместе с тем и острым чувством современности, готовности говорить с детьми о том, что не может не увлечь, не захватить их и сегодня. Но эта область творчества А. Прокофьева заслуживает особого разговора.
За многие годы своей литературной деятельности Александр Прокофьев создал выдающиеся произведения, являющиеся значительным вкладом в нашу поэзию и составляющие яркую и неповторимую страницу ее истории.
В сентябре 1971 года «большого поэта России» (так называлась посвященная его памяти статья Николая Тихонова[4]4
«Литературная газета», 1971, 22 сентября, с. 3.
[Закрыть]) не стало. Он ушел из жизни, но его самобытное творчество живет и поныне, активно участвует в борьбе за будущее, в эстетическом и нравственном воспитании нашего человека и навсегда останется в благодарной памяти многих и многих его читателей.
Борис Соловьев








