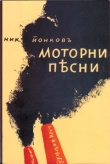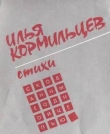Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Александр Прокофьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
Александр Андреевич Прокофьев
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ[1]1
Вступительная статья Б. И. Соловьева печатается посмертно. – Ред.
[Закрыть]
Вступительная статья

Творчество Александра Андреевича Прокофьева – Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий – одно из наиболее выдающихся явлений советской поэзии.
Родился А. Прокофьев 2 декабря 1900 года в крестьянской семье в ладожском селе Кобона – некогда неизвестном, а в годы Великой Отечественной войны ставшем знаменитым, ибо именно через него проходила в годы ленинградской блокады Дорога жизни.
С малых лет Прокофьев приучился к земледельческому и рыболовецкому труду. Как боец Красной Армии участвовал в гражданской войне, героика которой вдохновила его на создание многих примечательных стихотворений – уже в Ленинграде, с которым поэт навсегда связал свою судьбу.
Очень недолгое время ушло у него на литературное ученичество, на поиски своего собственного стиха, стиля, почерка, на то, чтобы мастерски воплотить в слове и образе свой не по годам богатый жизненный опыт, привнести в поэзию переживания, наблюдения, раздумья, рождавшиеся в небывалых по своему размаху и социально-историческому значению боях, от которых зависело будущее всего народа, дело революции.
Восстановление народного хозяйства, осуществление планов первых пятилеток, переустройство деревни на новых началах – все это стало кровно близкими поэту и жизненно важными для него событиями, какие всецело захватили его и так глубоко отозвались в его творчестве, словно поток самой жизни – могучий, клокочущий, неукротимый – ворвался в его стихи.
Конечно, на подобные темы и замыслы отзывался не один Прокофьев. Но он отвечал на них и решал их совсем по-особому, по-своему – с позиций самого рядового участника отображаемых им событий, недавнего ладожского парня, сохранившего свой говор, свой склад ума, свои характерные черты, а вместе с тем возросшего и закалившегося в духе подлинно политической зрелости, высокой гражданственности, о чем говорят даже ранние его стихи.
А. Прокофьев входил в литературу как художник, в творчестве которого органически сочетаются и взаимообогащаются две темы: революция, гражданская война, в условиях которых росли и мужали наши люди, и тема родных краев, откуда вышел поэт, – тема Ладоги, нашего Севера, образы тех родичей и односельчан, которых неизменно славил и воспевал поэт как людей великого жизнелюбия, грозных страстей и вдохновенного труда. Будь это хлеборобы, рыбаки, кузнецы – все они необычайно дороги и близки поэту. Вот почему даже и ранние его стихи отличаются возвышенной романтичностью, а вместе с тем отвечают острой зоркости того художника, который постигает новую жизнь с самых ее корней и истоков.
Поэт с малолетства был влюблен в ладожскую деревню, вырастившую и воспитавшую его, формировавшую его внутренний мир, его привычки и пристрастия, эстетические (хотя некогда он еще и не знал, что они могут называться именно так) вкусы и взгляды.
Родной ладожский край и его суровая природа, его люди и их навыки, нравы, обычаи остались для поэта навсегда родными и близкими, явились неисчерпаемым источником его творчества. Здесь он с самого раннего детства «помогал в хозяйстве – вязал мережи и сети, выезжал с отцом на рыбную ловлю, косил траву, пахал землю», как говорит он в автобиографии, и впоследствии все это глубоко и основательно отозвалось в его лирике, – так же как и то, что в родном селе «по вечерам, после работы, а в праздничные дни с полдня, звенела на улицах гармонь… С тех пор вошла в мою душу гармонь-тальянка, трехрядка, доверху набитая песнями, стихами», и к ее звучанию поэт и впоследствии никогда не оставался равнодушным.
С тех же пор он навек полюбил свое «родное море» (так поэт называет Ладожское озеро «с его низкими туманами, с его ветрами – шелонником, полуденником, меженцем, зимняком, с безбрежным, то суровым, то ласковым простором», так же как «простой быт моих родичей и односельчан. Все это позже отразилось в моих стихах», – справедливо утверждает поэт в автобиографии и прежде всего – в «Песнях о Ладоге». Сам А. Прокофьев отметил: «Начало своей литературной биографии отношу к 1927 году, когда в „Комсомольской правде“ поэтом Иосифом Уткиным были напечатаны мои „Песни о Ладоге“».
Да, именно этими песнями открывается путь А. Прокофьева в литературу, и именно они обнаружили в нем большого и самобытного художника, творчество которого составляет значительную и неповторимую главу советской поэзии.
В «Первой песне о Ладоге» передан такой безудержный восторг, какой может испытать и пережить только тот, кто вырос на ее берегах и сызмала впитывал и усваивал очарование родного края и его суровой природы, взывающей к упорству, мужеству, преодолению самых опасных испытаний, – только тогда она раскрывается во всей своей красоте и приносит людям свои дары и плоды:
У Ладоги
И камень,
И синий-синий шелк.
Он серебрит сигами
И золотит ершом…
Поэт с восхищением живописует то озеро, возле которого рос и мужал и где крепли его трудовые навыки и творческие замыслы – здесь одно неотделимо от другого!
О Ладога-малина,
Малинова вода,
О Ладога, вели нам
Закинуть невода…
И это повеление Ладоги не пропадало втуне – к нему внимательно прислушиваются те, чья судьба тесно связана с навсегда родным для них озером:
Смотри, какие ловкие
Идут в набег лихой,
Чтоб хвастаться похлебкой,
Налимовой ухой.
Эти ловкие и лихие парни – друзья и однокашники поэта – навсегда остались близкими и дорогими ему. С ними он делил свою судьбу, мужал и закалялся прежде всего в их среде; вот почему и о себе Прокофьев говорит как о поэте, выросшем на берегах Ладоги и глубоко вдохнувшем в себя ее ветер и ее свежесть, ее гордый, своенравный и крутой характер:
А я в стихах недаром
Чуть свет за слово бьюсь,
Я хвастаюсь амбаром,
Мережами хвалюсь!
(«Пятая песня о Ладоге»)
А если хвалится – значит, и сам сумел наполнить эти мережи богатым и обильным уловом – в прямом и переносном смысле слова. Иной поэт на этом бы и остановился и перешел к описанию других столь же близких ему мест и пределов. Но уже во «Второй песне о Ладоге» Прокофьев говорит о том, что неодолимо и властно вторгается в издавна знакомый ему мир и преображает его, выводит нас на тот простор, какой не просто открывается перед нами, а завоеван в тяжелых и напряженных боях, истоки которых уходят в далекое прошлое:
Земля была постелькой
Под княжеским плечом,
Но поднимался Стенька,
И вышел Пугачев…
Это с ними чувствует кровную связь поэт и говорит от имени того народа, который и впоследствии не забывал их заветов и шел под их знаменем, но уже гораздо более выверенным путем – к победе.
По Ладоге, и Каме,
И по другим рекам
Мы грохотали камнем
Рабочих баррикад…
И для поэта было очевидно и неоспоримо: без борьбы на этих баррикадах крестьянство никогда не обрело бы лучшей доли; вот почему его любовь к родной деревне никогда не носила замкнутого и ограниченного характера, – как зачастую бывало у таких крестьянских поэтов, как Н. Клюев или С. Клычков, – неизменно утверждала ее нерушимую связь с городом и никогда не противопоставляла их друг другу. Мотивы городские и деревенские возникали здесь в их нерасторжимом единстве и взаимообогащающей цельности. В этом – одна из самых характерных и примечательных черт творчества А. Прокофьева, так же как и Александра Твардовского, Михаила Исаковского, Николая Рыленкова, – каждый из этих больших художников по-своему развивал ее.
Поэт воочию видел, какие просторы раскрылись перед родными ему людьми, некогда обреченными на скудную и бесправную жизнь, какая большая доля выпала им и как самоотверженно они отстаивали ее.
Мы, рядовые парни
(Сосновые кряжи),
Ломали в Красной Армии
Отчаянную жизнь…
(«Третья песня о Ладоге»)
Для поэта нет сомнения, что деяния и подвиги этих «рядовых парней» имели великое значение не только для родных им краев, но и далеко за их пределами и границами, в чем и сказывается их внутренняя широта, интернациональный размах их переживаний и устремлений, все значение их напряженной борьбы за переустройство жизни на новых началах, о чем и говорит поэт в своих «Песнях о Ладоге».
О той же самой масштабности событий, участниками которых становились «рядовые парни» – друзья и однокашники поэта, его соседи и сверстники, говорит и более позднее стихотворение «Мой братенник» (1929), сразу завоевавшее внимание широких читательских кругов своей удивительной самобытностью, неповторимостью, размахом, самим языком, словно подслушанным в говоре родной деревни, а вместе с тем раскрывающим тот большой мир, в каком отныне живут наши люди:
Вся деревня скажет: вылил пулю,
Ныне рассказал такое нам!
Мой братенник ходит к Ливерпулю
По чужим, заморским сторонам!..
Такою большою жизнью живут отныне односельчане поэта, его друзья и родные; они смело идут и туда, где командует «повелитель моря – Судотрест», и чувствуют себя уже не подневольными людьми (как в былые времена), а полновластными хозяевами своей страны и своей судьбы, – и все это передано поэтом со страстностью и неповторимостью живого, непосредственного чувства и выразительностью подслушанного в родной деревне острого и занозистого слова. Да и каким еще языком, полагал поэт, можно говорить, если речь идет не о ком-нибудь, а именно о братеннике, который поймет тебя с полуслова?!
А появлявшиеся затем за подписью Прокофьева одно за другим необычайно яркие и самобытные стихотворения свидетельствовали, что «Мой братенник» – это не случайная удача поэта, что в литературу пришел новый и большой мастер. И все последующее его творчество только подтверждало эти читательские впечатления и ожидания.
В самом начале 30-х годов поэт создает такие важные и значительные в его творчестве стихотворения, как «Мы», «Эпоха», «Страна принимает бой», «Разговор по душам», «Начало диктатуры», «Слово о матросе Железнякове», и многие другие, схожие с ними своим пафосом и характером. И тогда стало очевидным, что Прокофьев стремительно растет, говорит свое, неповторимое и властное слово В нашей поэзии от имени тех «рядовых парней», от которых зависели самые большие события нашей эпохи, дело революции.
Совсем недавно отгремели годы гражданской войны, и стремление запечатлеть ее небывалое и переломное значение в истории и судьбах всего мира, сочетать обыденную повседневность и самые суровые испытания, выпавшие на долю наших людей, с романтической окрыленностью, революционной героикой становится вдохновляющим началом многих стихов А. Прокофьева.
Примечателен самый пафос его раннего творчества. «Мы», «Эпоха», «Революция», «Бессмертие», «Сотворение мира» – даже и названия этих стихотворений говорят о том, что поэт стремился отозваться не столько на свои преходящие настроения и случайные впечатления, каких немало у каждого, сколько на те переживания, раздумья и стремления наших людей, в которых сказались творческие и героические качества, сплачивающие их воедино. Поэтому героем многих его ранних стихов было не столько «я», сколько «мы» – «мы», отзывающиеся на самые знаменательные события своего времени и принимающие в них активное и страстно заинтересованное участие.
В стихотворении «Мы» поэт славит также величие и правоту нашего дела, перед которым меркнет все остальное («Глохни, романтика мира!..»). Он страстно утверждает здесь, что бойцы Красной Армии одержали свою победу в таких испытаниях, каких никто не ведал доселе:
На тысячу тысяч верст знамена – красный бархат и шелк,
Огонь, и воду, и медные трубы каждый из нас прошел.
Эти воины – почти непременные герои ранней лирики А. Прокофьева, их она воспевает и возвышает как людей повседневного подвига и великой мечты, воплотивших ее в живую действительность, – а что может быть величественнее и прекраснее такого подвига?! Его совершили люди голодные, босые, плохо вооруженные, и в описании перенесенных ими испытаний поэт достигает предельной меры, чтобы никто не мог сказать, будто изображенная им картина является хоть несколько приглаженной и приукрашенной. Вспоминая о тех боях, каждый из которых мог стоить жизни и требовал неколебимого мужества, поэт утверждает:
Нам крышей служило небо, как ворон летела мгла,
Мы пили такую воду, которая камень жгла.
Мы шли от предгорий к морю – нам вся страна отдана,
Мы ели сухую воблу, какой не ел сатана!..
(«Разговор по душам»)
И тому «горячему пеклу», в каком побывали наши солдаты, наверно, «ад позавидовать мог».
Со всею присущей ему страстностью и пылкостью поэт почти каждый штрих доводит до того предела выразительности, за которым чувствуется дыхание романтики, трепет «лада баллад»:
От нас шарахались волки, когда, мертвецы почти,
Тряслись по глухому снегу, отбив насмерть потроха…
А далее слышится восторженный возглас, когда поэт видит в этих передрягах и испытаниях, выпавших на долю его героев, не только невероятную горечь и смертельные муки, но и такое духовное величие, сравнения с которым не может выдержать никакое иное:
Вот это я понимаю, а прочее – чепуха!
В этом – пафос поэта, воспевающего самые суровые испытания и смертельные опасности гражданской войны, без преодоления которых не вошла бы «в историю славы единственная страна».
А если бы нашлись скептики, которые усомнились бы в правдивости повествования поэта, не знавшего предела и готового дойти до края возможного, а то и хватить через край в своих сравнениях и гиперболах, подчас напоминающих сказочные или библейские («На нас налетал ежечасно многоголовый зверь»), – поэт отвечал, отлично осознавая, что условность иных его описаний отнюдь не исключает их верности самому духу и пафосу героики и романтики времен гражданской войны:
Проверьте по документам, которые не солгут…
Он утверждал тем самым, что даже и невероятные события, описанные им, отвечают реальности и характеру тех, какие пережили и испытали его герои, – иначе как бы они добились своей великой победы?!
В словах одного из солдат гражданской войны, ставшего впоследствии большим поэтом, мы чувствуем не только горечь небывалых испытаний, но и великое торжество человека, знающего, что он и его соратники отстояли «нашу советскую власть» и что отныне нам «вся страна отдана», – вот почему у этого лирического героя, поведавшего о невероятных испытаниях, какие под силу выдержать далеко не каждому, вырываются слова величайшей гордости и торжества:
И все-таки, все-таки, все-таки прошли сквозь огненный шквал.
Ты в гроб пойдешь – и заплачешь, что жизни такой не знал!
И как ни неожиданны эти слова, они не могут не захватить читателя своею искренностью, неоспоримостью, своим задором и пылом.
Но герою ранних стихов А. Прокофьева – да и самому поэту – присущи не только романтическая увлеченность теми подвигами, слава о которых идет «от Белого моря до Сан-Диего», но и вскормленное в родной деревне и воспитанное с детских лет понимание реальных условий и возможностей, острая наблюдательность, меткость языка, ироническая усмешка над любой фальшью, выдумкой, претенциозностью. Вот почему его героев никогда – даже в самых суровых и трудных обстоятельствах – не покидает трезвость мысли и точность наблюдений, занозистость языка, определяющая особую характерность их речи.
Вспомним в связи с этим «Слово о матросе Железнякове» – стихотворение о роспуске Учредительного собрания, осуществленном Железняковым и его соратниками, которым было поручено это весьма важное задание. От его успеха многое зависело в судьбах страны, и для юмора как будто совершенно нет никаких поводов. Ведь вопрос решается исторически очень важный: эсеры и меньшевики, обладающие в Учредительном собрании большинством, стремятся во что бы то ни стало подорвать власть Советов, повернуть вспять колесо истории, на что и надеялась вся контрреволюционная буржуазия; но Железняков и его товарищи знают: реальные силы – за ними, за большевиками, и матросы готовы любой ценой выполнить свою задачу, чувствуют себя полными хозяевами создавшегося положения. Но, испытывая чувство высокой ответственности за порученное им дело, они не утрачивают и присущего им юмора: слишком велико несоответствие претензий понаехавших сюда «гостей» с реальными их возможностями!
Именно от лица этих героев поэт и ведет свою речь, в которой важный и грозный смысл происходящих событий сочетается с откровенно веселой усмешкой:
На улице январь, на улице холодно,
Поземка разносит белый порошок.
Надо для гостей приготовить баню,
Попарить их веником, чтобы стало хорошо.
Хорошо ли, плохо ли… Это нам известно.
Только хозяева сошлись на том:
«Для почета времени, наверное, хватит.
Баню дадим потом…»
Как видим, в этой речи развиваются два плана: подлинно исторический, а вместе с тем и юмористический, о чем свидетельствует все острее развивающийся образ бани («надо для гостей приготовить баню…»), который всячески обыгрывается в диалоге матроса Железнякова и его соратников.
Да, здесь слышится не только патетика, но и смех поэта, «грозный смех» (говоря словами Маяковского – одного из учителей Прокофьева). И характер этого смеха говорит о том, что он принадлежит людям, с виду, может быть, самым обыкновенным, но неколебимо преданным делу революции и живущим такой полнокровной, богатой, внутренне напряженной жизнью, что они не могут обойтись без веселья, меткой наблюдательности, острого словца – даже тогда, когда обстоятельства не являются столь уж веселыми и обычными.
Но как меняется язык поэта, когда речь заходит о подлинных героях баллады («Балтийские матросы – красота!..»). Он не может, да и не хочет сдержать своего горделивого восхищения и балтийскими матросами, и спокойной и решительной речью Железнякова, предельно краткой, воспроизведенной здесь с буквальной точностью («Прошу покинуть зал заседания. Караул устал»), не претендующей ни на какие ораторские эффекты, – но именно в ней сказались дух и сила того народа, который пришел к власти и не собирался уступить ее никаким узурпаторам и демагогам, как бы они ни были искушены в области ораторского искусства. Железняков разговаривает со своими противниками именно так – по-хозяйски, властно и решительно, что и передано в его предельно лапидарной речи, перекликающейся, на слух поэта, с говором всего народа, с посвистом вьюги, разгулявшейся на всех углах и перекрестках города революции:
Ой, гуди, метелица, в дальние края.
Лучшая речь, Анатолий, твоя…
Восхищенный такой «лучшей речью», отвечающей духу и событиям великой революции, поэт и завершает ею «Слово о матросе Железнякове».
А в стихотворении «Матрос в Октябре» необычайности характера и образа того подлинного героя, который берет на себя ответственность за великое дело преобразования всего мира, отвечает резко подчеркнутая экспрессивность и лапидарность каждой черты и каждой детали, как бы готовых взорваться на наших глазах от того напряжения, каким исполнено и заряжено это стихотворение.
Мужественности, угловатости, резкости «матроса в Октябре» отвечает скупой, обозначенный предельно резкими и угловатыми штрихами рисунок, вычерченный словно раскаленным, светящимся углем:
Справа маузер и слева,
И, победу в мир неся,
Пальцев страшная система
Врезалась в железо вся!
А иначе – как можно было бы отстоять победу в те дни, когда
…Мир ломается. И ветер
Давят два броневика.
Здесь все отвечает друг другу: широта и значение подвига, какого потребовала эпоха от наших людей, и характер стиха, изображение «матроса в Октябре», передающее самое главное; резко подчеркнутые его черты и свойства, предельно четкие, круто замешенные, поразившие читателя своей страстностью, необычностью, экспрессивной выразительностью. Именно так написаны в то время многие стихи А. Прокофьева.
А потом мы увидим в его стихах этих солдат и матросов, отважных и непреклонных поборников и защитников дела революции, и на других фронтах ожесточенной борьбы с врагом, в том числе и на том, где они становились чекистами, – и именно в творчестве А. Прокофьева их образы запечатлены – если говорить о поэзии – наиболее полнокровно и реалистически зримо.
Мы видим здесь образы суровых и непреклонных людей «в кожаных куртках», которых так опасался «малохольный буржуй, чистоплюй и картежник», и опасался не напрасно. Как бы он ни был порою увертлив и ловок в сокрытии своих темных и преступных деяний, чекисты умели проникнуть в их суть, разоблачить ее:
Ты не рыба сиг,
Ты не рыпайси,
Самым круглым дураком
Не прикидывайся! —
(«Начало диктатуры»)
настойчиво и насмешливо советуют они ему, и хоть их живой и острый язык далеко не всегда отвечал правилам грамматики, но в понимании правил борьбы с врагом они проявили полную политическую грамотность и зрелость, непреклонную преданность делу революции, что и подчеркнуто здесь поэтом.
Годы великого строительства, преобразование всей страны на новых началах, пафос творчества и созидания – все это требовало от поэта ответа на самые острые и насущные вопросы современной действительности, и он отзывался на эти требования во многих своих стихах.
«Я славил Красную Армию, каленую сталь штыков», – говорил он в стихотворении «Победа», признавая, что теперь необходимо утверждать и иную славу – славу героев труда, строительства, творчества.
А. Прокофьев воспевал победы на фронтах восстановления промышленности, осуществления планов первых пятилеток, вызвавших в свое время немало иронических комментариев заграничных злопыхателей. Поэт и здесь увидел огненные рубежи сражений, от исхода которых зависит судьба родной страны, увидел новых героев, которые в своих могущественных замыслах и деяниях могли даже перевернуть землю (для этого надо только одно, уверяет поэт: «…подкиньте таким рычаг!»).
А. Прокофьев обращался к ним с настойчивым призывом, словно бы раскаленным в пламени неугасимого энтузиазма:
Поднимем металл и уголь, удвоим колосья ржи.
Страна, уважай героев, почетом их окружи,
Включи в особые списки, запомни их имена…
(«Победа»)
И скоро, действительно, страна составила эти списки и запомнила имена героев, добывавших новые и великие победы, но уже не саблями и штыками, а отбойным молотком, на тракторах, у текстильных станков.
Цикл стихотворений А. Прокофьева «Перечень профессий» – название несколько суховатое, а на самом же деле очень обязывающее, ибо о каждой из отмеченных здесь профессий поэт говорит свое неповторимое и меткое слово, свидетельствующее о том, как дороги ему настоящие труженики, знакомые не только по бросающимся в глаза признакам, но и по иным, далеко не всегда приметным с первого взгляда, что свидетельствует о кровном родстве поэта с героями этих стихов – металлистами, кузнецами, шахтерами, преобразующими облик родной страны, с которыми его объединяет чувство кровной ответственности за их труд и его итоги, – в чем он и находит новые источники творческих замыслов и свершений.
Поэт, воспевая и Красную Армию, и тех, кто закаляет рельсопрокатную сталь, добывает уголь, строит корпуса новых заводов, совсем не собирался представить современную действительность как совершенную и чуждую каким бы то ни было просчетам и огрехам. Сама мысль о таком ее восприятии и изображении вызывала у него саркастическую усмешку; вот почему он и говорил в стихотворении «Страна принимает бой» после того, как утверждал – вновь и вновь! – торжество и победы наших людей на фронтах борьбы и труда:
Пусть ветер наводит тень на плетень,
шумит ворохами лузги.
А я не желаю лакировать
огромные сапоги.
Для поэта очевидно, что «у нас неурядиц – пруды пруди», как и то, в каких трудах и испытаниях рождаются и выковываются победы его соратников и современников, какой большой ценой достаются они.
Во многих своих стихах А. Прокофьев словно бы обращается к тысячам и тысячам слушателей с такою взволнованной, ораторски-митинговой, страстно-напряженной речью, чтобы вовлечь их в свой разговор, вдохновить их на те поступки и действия, от каких зависят и судьбы революции, будущее всей земли, и это им внушает он веру в свое великое дело и свои неисчерпаемые силы:
…Не счесть, сколько громких профессий за нас:
Кузнецы,
горняки,
металлисты,
Пулеметчики,
бомбометчики,
ополченцы второго разряда за нас…
(«Эпоха»)
Так поэт подхватывал и развивал в своем творчестве те заветы и традиции, какие он прежде всего связывал с именем Маяковского. Здесь в широте и пафосе ораторски-митинговой интонации, в прямом и открытом утверждении дела революции, в самом стихе, «свободном и раскованном», – при всей его самобытности – нельзя не уловить влияния Маяковского, одного из учителей и наставников поэта, творчество которого особенно дорого ему.
В несколько ином ключе звучат стихи Прокофьева, посвященные родным местам и родной природе – Ладоге и ее людям, их труду и их праздникам, в описании которых поэт издавна обнаружил неистощимую любовь к ним, тонкую наблюдательность, меткость и занозистость языка, подслушанного в разговорах, шутках и прибаутках односельчан, что и определило поразительное своеобразие ладожских циклов его стихов.
Снова оказавшись «во нашей во деревне», встречаясь по-дружески и с молодыми парнями, смелыми и озорными, и с девушками, лукавыми и острыми на язык, и с их отцами, словно бы не подвластными старости, поэт выводит перед нами одного за другим своих односельчан, людей высокой и замечательной судьбы – неповторимых, трудолюбивых, страстно влюбленных в жизнь во всей ее красоте, со всеми ее испытаниями, во всей ее светоносности.
Чувство могущества и полноты жизни не изменяет им даже тогда, когда наступает последний час и смерть уже готова увести не того, так другого в свой темный предел, как это однажды и случилось со стариком Степаном Булдыгиным, который
…умирал четыре дня.
Вкруг него чадили свечи, ладан жгли во всех углах.
Несмотря на это старец всё ж не обращался в прах…
(«Как во нашей во деревне…»)
А потом ему – неугомонному и неукротимому – окончательно надоели и ладан, и свечи, и пресные молитвы,
И сказал тогда Булдыгин,
А не кто-нибудь другой:
«Душно в саване поганом!
И, чтоб мир в красе вернуть,
Дайте водки два стакана
И натрите перцем грудь!..» —
и разве может кто-нибудь из читателей остаться равнодушным к этому старику с большим сердцем, юной душой и так полнокровно чувствующему все неиссякаемое могущество подлинной жизни?!
Поэт воссоздает образы тех родных ему односельчан, для которых жизнь неисчерпаема в своей мощи И красоте, и возникающих перед ним во всем своем могуществе, словно отвечающем тому, какое некогда слышалось в северных былинах и древних сказаниях:
Ты снова, мой дядя, – что дуб на корню
И рыжее солнце берешь в пятерню, —
(«Дядя»)
и этот дядя далеко не одинок в своем могуществе и неодолимом жизнелюбии; рядом с ним встает такая же великолепная родня поэта, и для ее описания он вводит в свои стихи самые грандиозные изо всех мыслимых образы и неисчерпаемо богатые краски – только они, кажется ему, могут передать властную силу и неумирающую красоту его родичей.
Это его «громадная родня» прогремела «в первоклассных песнях», это они
До ста лет стояли, как сугробы,
Падали, ликуя и скорбя, —
(«В первоклассных песнях прогремела…»)
и разве можно представить их без этого жизненного полнокровия, без того кипения страстей, какого не могло успокоить даже приближение последнего часа?
А если поэт заводит разговор о молодежи ладожских краев, о ее делах и судьбах, то признается, что хотел бы «совсем немногого»:
Чтобы бредил новыми морями
Вкруг озер раскинутый народ,
Чтобы, милых сердцу не теряя,
Парни от приема шли во флот!
(«Всё ты мнишься мне в красе и силе…»)
И пусть это «совсем немногое» может кому-то показаться слишком обычным и повседневным, но поэт и здесь видит столько радостного и необыкновенного, что стихи о таких, казалось бы, обычных делах и событиях обретали горделивое, романтически возвышенное звучание.
А каких девушек находит поэт в родном селении – во всей их прелести, всем обаянии, взывающем к самому восторженному, а вместе с тем непроизвольно вырвавшемуся восклицанию:
Совершенно очевидно, почему:
…за этой Машей Ильиной
Все ребята ходят белою стеной.
Но зря ходят, ибо ее любовь уже завоевана тем, кто и сам под стать ей по глубине своих чувств, стойкости характера, и на кого, стало быть, можно положиться всегда и во всем, в любом деле, в любых испытаниях; вот почему она и отвечает преследующим ее ребятам:
Бросьте, отстаньте, дайте покой,
Нету вам, ребята, надежды никакой!
У меня мальчишка просто золотой,
Из-под шапки волос вьется завитой,
А насчет характера – в батьку крутой.
Вот какие дельные и крепкие характеры достойны настоящей любви и подлинного уважения, полагает эта Маша, да и сам восхищенный ею поэт. А когда один из парней хочет завоевать любовь девушки подарками и готов обнять ее при людях, то слышит в ответ:
Ты сокол, а я дожидаю орла!
Он выведет песню, как конюх коня,
Без спросу при людях обнимет меня…
(«Невеста»)
И для нас очевидно, как богат и сложен духовный мир этой простой, на первый взгляд, девушки, какой у нее гордый и независимый характер, как много требует она от жизни.
Таковы здешние девушки – ладные, работящие, смелые (так они и в таких суровых условиях воспитаны!).
А когда поэт вспоминает о том, что происходит весной в родных краях, то не может удержаться от восхищения их красотой и прелестью – даже самой неприметной на посторонний взгляд:
…Волны неумолчно в берег бьют.
На цветах настоенную воду
Из восьми озер родные пьют.
Пьют, как брагу, темными ковшами
Парни в самых радостных летах.
Не испить ее:
она большая.
И не расплескать:
она в цветах!
(«Что весной на родине? Погода…»)
Здесь все охвачено и пронизано тем чувством свежести и цветения, какое так глубоко и всецело захватило поэта, что он навсегда остался верен ему в своем творчестве.
Да, много нового, а подчас и неожиданного увидел Прокофьев в облике и характере своих земляков и односельчан, вновь и вновь возвращаясь в родные места, – и с какою широтой раскрывались перед ним берега с детства знакомой ему Ладоги!
Но это совсем не значит, что и другие ее черты и приметы, идущие от прошлого, остались вне его острого и пристального внимания. Мы видим в ладожских стихах А. Прокофьева и ту деревню, какая изображена в духе едкой сатиры и броского гротеска, тех противоречий, когда новое сталкивается со старым, которое не хочет уступать ему без боя, без яростного сопротивления – и далеко не всегда безуспешного. В этих схватках и столкновениях, проницательно подмеченных поэтом в самом повседневном быту, и рождаются почти невероятные, на грани фантастики и гротеска, подчас подлинно драматические, а вместе с тем и взывающие к чувству юмора образы, сцены, конфликты, характерные для северной деревни в первые годы ее коллективизации, – и мы немало заметим их в стихах А. Прокофьева.