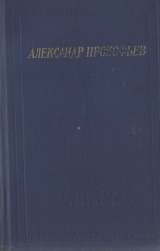
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Александр Прокофьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц)
Да, есть слова глухие,
Они мне не родня,
Но есть слова такие,
Что посильней огня!
В честь слова «Россия» и, главное, всего того, что оно значит для наших людей, поэт и слагает горделивый гимн:
Наполненное светом,
Оно горит огнем,
И гимном слово это
Гремит в стихе моем…
И таким гимном отчизне, восторженным и вдохновенным, звучат многие и многие его стихотворения. Одно из них поэт снова открывает эпиграфом из Есенина («О Родина, в счастливый и неисходный час…») и, словно продолжая его, возглашает:
О Родина, ты в сердце
Любого из солдат.
О Родина, ты в сердце
Давно несешь набат.
(«О Родина, по зову…»)
И поэт, повинуясь этому набатному зову, высказывает свою любовь к Родине непосредственно, прямо, открыто, не стремясь хоть в чем-либо умерить пылкость своего чувства, силу гордого и торжественного звучания посвященных ей стихов.
Во многих стихах А. Прокофьева мы угадываем и то, как дороги поэту и те города, края, селения родной страны, ее великие просторы, с какими столько связано в его жизни, что нельзя всего и пересказать! Тут особое место в творчестве А. Прокофьева занял Ленинград, ставший навсегда дорогим и близким ему за те несколько десятилетий, какие поэт прожил в нем, и с которым связана вся его творческая биография. Поэт посвятил ему и его людям множество вдохновенных стихов, и без них нельзя составить достаточно полного представления о его творчестве. Даже сама земля Ленинграда, кажется поэту, – это особая земля, ибо необычайно много означает она в судьбах и истории родной страны, да и в его собственной судьбе, как он признается перед нами:
Вечно ощущать хочу отраду
Вашу,
перелески и поля,
И твою —
родного Ленинграда
Революционная земля.
(«Сердце радо…»)
И к этой земле, словно бы вобравшей в себя самый дух великого города, вновь и вновь припадает поэт, чтобы воспринять ее закалку, ее мужество и вольнолюбивый задор.
И как же поэту не гордиться тем, что его труды и его борьба, его самые большие устремления также порождены и вскормлены этой землей, посвящены ей, составляют в ее истории особые и неповторимые строки!
Он и Сибирь воспевал, встретившись с нею, словно захлебнувшись от переполняющего и рвущегося через все края восторга, которому не знал – да и не хотел знать – никакой меры, ибо ее бескрайности и беспредельность словно бы ответила его внутренней широте, перекликнулась с нею.
Сибирь – страна бессонная,
Бетонная,
Кессонная!
Сибирь – страна-громада.
Такую нам и надо!..
(«Сибирь – страна зеленая..»)
Немало стихов, пронизанных радостью и гордостью за эти края и их людей, творческие деяния которых отвечают их внутреннему размаху, посвятил поэт «стране зеленой», «морозами каленой», полюбившейся ему с первой встречи с нею.
А сколько еще и других краев и областей нашей родины воспел поэт, восхищенный их свершениями, их красотой и неповторимым многообразием! Среди них он особо сроднился с тем, какой был родиной Есенина, творчество которого было необычайно близко ему, по-своему отозвалось в его стихах, а потому и ставшим для Прокофьева навсегда дорогим и любимым:
…краса моя,
Краса и свет… —
(«Синь да синь»)
тот свет, какому никогда не дано померкнуть в его душе и каким нельзя не поделиться со всеми теми, кто жаждет его, как делился некогда и сам Есенин.
Приглашая своих читателей к путешествию по всем областям и краям нашей родины, поэт возглашал:
Нет в России города без славы,
Местной, повсеместной, мировой.
На своих птенцов глядит держава,
Видит их с горы сторожевой…
И сам он стремился увидеть воочию любые наши селения и города, молодые и тысячелетние, раскинувшиеся где бы то ни было – у подножья гор или среди степных просторов, в Заполярье или в дальних сибирских краях.
А с наибольшей увлеченностью и всепроникающей прозорливостью запечатлен им, пожалуй, тот ладожский край, чья жизнь знакома ему с самых малых лет во всей ее основе и подноготной. В каких бы краях ни побывал поэт и где бы он ни был, он признается:
Я вижу волн сердитых глыбы
И небо, слитое с водой.
Мне всюду мнится в блеске молний
И электрических огней
Кусок земли, идущей в волны
Бессонной Ладоги моей!
(«Друзья мои!»)
И сколько важного и значительного он сумел сказать о ней, как много открыть и увидеть, как полно и многообразно передать ее безудержную удаль и суровую красоту, повседневный быт людей, вскормленных и вспоенных на берегах того же озера и словно воспринявших крутизну его волн, их широкий и вольный размах!
Крайне характерно и примечательно здесь стихотворение «Чем знаменита Ладога?», где поэт словно бы одним взглядом окидывает любимое им озеро и его побережья.
А знаменита Ладога многим, и прежде всего —
…водою
Холодною, крутою,
Прозрачною, седою!..
…Еще травою донником,
Да резкими ветрами,
Меженцем и шелонником,
Да блеклыми утрами…
Под гул и посвист этих резких ветров росли и закалялись люди на ее берегах, мужали и крепли их характеры – вот почему Ладога знаменита не только водою, рыбой, шелонником, но и обживающими ее людьми и их делами и подвигами, их «сильными, советскими, широкими шагами».
Завершается это стихотворение знаменательным и многозначительным утверждением:
Идут деды с внучатами,
Идут деды и внемлют
Своим садам, посаженным
И ждущим совершенства,
Большим шагам – по сажени,
Своим ветрам-меженцам!
Здесь перед нами возникает удивительно богатый и внутренне цельный мир, где все взаимно и полнозвучно перекликается – и резкий ветер, и крутые, прозрачные волны, и широкие, властные шаги отцов и сыновей, знающих, что посаженные дедами сады – да и не только сады – ждут приложения сильных и работящих рук, и все это слагается во властный и цельный гимн Ладоге и ее людям.
Поэт с гордостью говорит о своей трудовой родословной, о крестьянской и рыбацкой «династии» – начиная с ее основателя. Если он и вспоминает старших в своем роду, то именно с тем, чтобы воздать им честь как великим труженикам и мастерам своего дела, дух и традиции которых усвоены их детьми и внуками:
Дед мой Прокофий
Был ростом мал,
Мал, да удал,
Да фамилию дал!..
(«Дед»)
Эта фамилия, оказывается, в своей рабочей знатности и доблестной «геральдике» ничем не уступит любой геральдике старых времен, которою некогда так гордились иные аристократы:
Дал, как поставил
Печать с гербом!
А что на печати?
Да дед с горбом!..
С непреходящей гордостью говорит поэт о своем деде, чья песня и дума идет по всей стране и чье сердце лежит в земле отцов, обретает бессмертие. Так жизнь простого рабочего человека, который ничего не нажил, кроме горба, но любил и славил труд и воспитал в духе этой любви все свое потомство, становится легендой, о которой поэт говорит так же пылко и торжественно, как о любом другом с детства полюбившемся ему героическом сказании.
С такою же гордостью и увлеченностью, а вместе с тем с подлинно народным и удивительно самобытным юмором, издавна усвоенным Прокофьевым и берущим свое начало в «шутейных сказах» старых времен, поэт говорит и о потомстве этого деда – родоначальника целой «династии» рыбаков, в изображении которых поэт достигает необычайной выразительности, яркости, живописуя каждого из них. Перед нами воочию, наглядно, зримо до рези в глазах предстают те «Татьянки и Юльки и прочая клюква», которые сидели «кучней за обедом» или еще качались по люлькам, даже те,
…что из люльки
Едва выползали,
Свистели в свистульки
И сети вязали!
Марфины и Настины —
Все были В династии!..
(«Это я прошу иметь в виду…»)
И эта «династия» – вместе со всей ее малолетней «клюквой» (до чего этот образ ярко и характерно передает тот колорит, который связан с нашими именно северными краями!), с ее преданностью рыболовецкому труду – находит в лице А. Прокофьева проникновенного, ею же и рожденного художника. Он с поразительной точностью и полнотою раскрывает самое примечательное в людях своей деревни, своего рыбацкого рода. И нам понятна гордость поэта, который представляет нам – одного за другим – членов своей «династии», которая не уступит никакой другой в своей трудовой доблести и своих славных традициях.
Поэт, снова навестив родную деревню, воочию видит и то, какие задорные, деловитые, мужественные парни выросли в ней, как широк их внутренний мир. На них можно положиться во всем, чего требует рыболовецкая сноровка, труд садовода, уход за родным полем. Да и далеко за его пределами они также находят свое достойное и верное место, никогда не теряются. Если раньше поэт говорил о братеннике, который «ходит к Ливерпулю», то и теперь он ведет разговор о тех парнях, которым так же не в диковинку ходить «по чужим, заморским сторонам», чувствовать свою непосредственную связь с народами всей земли. Они шагнули далеко за ладожские края, а песни их запевал
…там осели,
Где вышли из груди:
В Тулоне и в Марселе,
И в Лондоне, поди!
(«Неясные рассветы…»)
Вот как широко шагнули молодые родичи поэта и как привольно дышится им везде, куда ни пошлет их родина. Не потому ли их тянет петь везде, «где есть моря какие», – и сам поэт, снова встретившись с ними, радостно подхватывает эти гордые и несмолкаемые песни.
В его глазах сама красота ладожских девушек именно потому с особенной полнотой захватывает нас своим неотразимым обаянием, что она также сочетается с началом деятельным и мужественным, с готовностью выдержать любые выпавшие на их долю испытания и преодолеть их – чего бы это ни стоило и каких бы внутренних сил ни потребовало!
Для поэта очевидно, что новое, по-хозяйски полновластное восприятие мира, деятельное отношение к нему, присущее нашему человеку, обогащает и преображает всю область его чувств и переживаний, даже, казалось бы, и извечно неизменных. От лица одной из матерей, которая «в соку березовом доченьку купала», поэт обращается к ее дочери, которой она сулила не серебро и золото,
А сулила ей луга,
И поля и горы.
«Вот, – сказала ей, – бери
Все холмы и скаты,
Блеск и отблески зари,
Чем земля богата…»
(«Утро было розово…»)
А разве и сам поэт не из этой же семьи, не из этой трудовой династии и воспитан не в этом же духе?
Ее традиции и навыки навсегда сохранили для него свое великое значение, полновластно отозвались в его творчестве, что и побуждало поэта никогда не забывать о взрастившем его крае, особенно дорожить дружбой со своими земляками, всегда считаться с их суждениями и оценками – ведь кто же знает его лучше, чем они, чей взгляд более взыскателен и придирчив?! Вот почему так дорого ему каждое их доброе слово о нем – ведь это слово они никогда не скажут впустую!
Сердечным волнением отозвалась в нем весть о том, что земляки увидели и оценили в нем своего поэта, и совсем не случайно, как стало известно ему,
Мои стихи как песни
На Ладоге поют.
(«Вот радостные вести…»)
Поэт, услышавший об этом, преисполнен такой гордостью и благодарностью своим землякам, что не может не высказать их и не поделиться своими ответными чувствами:
Она меня встречала
Как будто бы в венках,
Она меня качала,
Как сына, на руках!..
А когда поэт снова возвращается – может, спустя несколько дней, а может, и через несколько лет! – в родное село, то радуется не только он и не только его родные и друзья, но, кажется ему, и все то, что встречает его по дороге и что отвечает ощущению полного единства поэта со всем окружающим миром:
Вон от радости пляшет
Целый взвод тополей;
Вон мне озеро машет
Белой гривой своей!..
(«У юности в гостях»)
Они принимают по-родственному живое и деятельное участие в его раздумьях и переживаниях, зародившихся в юности и оставшихся свежими и молодыми навсегда. Да и он также принимает самое деятельное участие в окружающем его мире и не остается безответным к нему и его потребностям.
Так, поэт не только любуется ржаными полями или белыми березами родного края, но и горделиво подчеркивает:
Почти над самым плесом,
Почти что над волной
Шумят, шумят березы,
Посаженные мной…
А разве не в этом – залог того бессмертия, какое видится поэту во всем окружающем мире:
…пускай мои деревья
Меня переживут.
Под их высокой крышей
В заречной стороне
Другой стихи напишет
И вспомнит обо мне…
И не только вспомнит, а и скажет с уважением, даже если не узнает о других свершениях поэта: «Вот Прокофьев Березы посадил».
Уже одно это дает ему подлинное удовлетворение, углубляет чувство неотъемлемой своей причастности к будущему.
Поэт издавна принимает самое непосредственное и деятельное участие в преображении всего окружающего мира – вот почему, если он и замечает возле своего крыльца безымянную речку, то не может не подумать:
Нет на нее
Ни обиды, ни жалоб…
Ей без меня
Трудно будет, пожалуй!.. —
(«Около дома»)
как, наверно, трудно было бы и ему прожить без этой почти никому не известной речки, невозбранно утолявшей его жажду.
Вот такое чувство единства и взаимосвязанности всего живого, а стало быть, и своего собственного существа со всем окружающим миром, пронизывает лирику А. Прокофьева, является ее активным и динамическим началом.
В шелесте травы и листвы поэту слышались те голоса раздумья, советы, тот говор, к которому он прислушивался с обостренным вниманием; деревья в его стихах весело перекликаются и судачат между собой. А о чем же им еще говорить, как не об издавна знакомых им людях, – вот хотя бы о той девчонке, которая сейчас проходит под их кронами, розовея от солнца:
Ты в пятнадцать лет похорошела,
И об этом столько лет подряд
Сосны над тропинкою замшелой
Молодым сосенкам говорят…
И как же не заметить, что эти сосны отличаются тою внимательностью и прозорливостью, какая ни в чем не уступит людской и полностью согласна с нею!
Здесь одно неразрывно сочетается с другим – как и во многих, многих стихах поэта, пронизанных пафосом единства нашего человека со всем окружающим его миром, единства деятельного и душевного – как в той дружной семье, где все понимают друг друга с первого взгляда.
А сколько друзей у поэта в лесу – не сосчитать! И как глубоко переживает он утрату любого из них, – вот хотя бы того поверженного на землю дерева, которое уже глухо ко всему живому. И поэт по-своему передает то, что произошло, как одну из незаметных для постороннего взгляда, но великих трагедий, о какой нельзя говорить спокойно и равнодушно:
Оно ползло,
Униженное ветром
И брошенное намертво в траву!
О нем уже не помнила округа,
Ликуя, вешней свежестью дыша…
Я поднял это дерево,
Как друга.
О, как заговорила в нем душа!
(«Я поднял дерево…»)
Так широко распахнут внутренний мир поэта перед всеми событиями родной ему природы, вот почему так внятен ему ее язык, даже безмолвный и бессловесный.
В его стихах и сами стихии – воздуха, воды, огня – обретают удивительную жизненность, полнокровные и человеческие черты и индивидуальную неповторимость, подобную той, какая присуща родичам и соседям поэта, его сверстникам и однокашникам: если девчонка, закутанная в платок и раскрасневшаяся от мороза, идет за водой к заледеневшей речке, то даже и ветер не может остаться равнодушным к ней – так она пленительна и обаятельна!
И он с тобой, любовь моя,
Заводит кутерьму, —
Целует любушку. И я
Завидую ему…
(«Я полюбил давно его…»)
Да и как не завидовать, если этот озорник без всякой робости делает то, о чем поэт, судя по всему, может еще только мечтать!
Вот и зима – это для А. Прокофьева не просто и не только одно из времен года, а и то живое и родное существо, с каким можно запросто поговорить обо всем без утайки, как со своим закадычным другом, который поймет тебя с полуслова:
Зима летит и видит речку.
«Да подожди ты! – говорю. —
Ее веселое сердечко
Само затихнет к январю!»
(«Зима стремглав промчалась долом…»)
Но напрасны эти уговоры:
«Нет, нет, – кричит зима, – немедля!..»
И хотя она не послушалась поэта, но для него очевидно, что с нею можно поговорить по-свойски и она не только понимает его, но отвечает ему на своем, но вполне понятном языке.
Так же по-родственному поэт относится ко всему тому, что приносят жаркие дни, то лето, которое «смотрело братски на меня».
И эти приметы братства, родства, дружбы не подвели поэта, в очередной раз подтвердили со всею очевидностью и несомненностью свое родство с ним и свою приязнь к нему. Вот что обогащало и расширяло ту семью, непременным и деятельным участником которой всегда и неизменно чувствовал себя поэт.
Ощущение кровного родства со всем окружающим миром порождало чувство ответственности за все, что происходит в нем, той деятельной любви к нему, какая сказывается и в размахе дел, посвященных его преображению, и в заботе о самой малой птахе, если она нуждается в помощи и защите. А о том, кто оказал эту помощь, поэт скажет с уважением и любовью:
Был он человеком настоящим,
Смерть он ненавидел,
Жизнь любил…
(«Тополей веселая стена…»)
Вот переживания и деяния таких людей, чья любовь ко всему живому является не только созерцательной, но и деятельной, заставляющей активно вмешиваться в судьбу и события всего окружающего мира, как в свои собственные, и отображены в стихах А. Прокофьева как прекрасные и примечательные, какими бы скромными они ни были на первый взгляд.
Поэт утверждал свое полное единство со всем зримым, но это не тот пантеизм, который всецело растворяет человека в окружающей природе, а нечто иное – стремление увидеть в ней и запечатлеть то деятельное и творческое начало, какое всецело усвоено ею от ее жителей и обитателей, от всех наших людей, благодаря чему она и сама становится непосредственной участницей наших дел, забот, тревог, судеб, уподобляется нам в наших деяниях и нашей борьбе. Вот поэтому и красота окружающего мира обретает в глазах поэта особое обаяние именно тогда, когда она сочетается с такими присущими нашим людям качествами и началами, как стойкость, мужество, готовность выдержать и перенести даже самые суровые испытания и одержать над ними победу, что и подчеркнуто во многих стихах А. Прокофьева.
Поэт никогда не отделял чувства восхищения своей издавна дорогой и любимой землей от сурового солдатского мужества, без какого нельзя ее ни защитить, ни отстоять. Вот почему, услышав новое название озер, возле которых наши солдаты вели кровопролитные бои, поэт подчеркивает издавна утверждаемое им родство нашего человека с окружающим его миром:
Они участвуют и действуют
В завоевании сердец.
Кто их назвал
Красногвардейскими,
Тот, безусловно, молодец!
(«Красногвардейские озера»)
И поэтому видится даже в соединяющих их протоке «гвардейская ленточка» – разве и он не участвовал в развернувшихся здесь боях, отзвук которых слышится поэту и посейчас?
Они гремят грозой отпора,
Героев славя имена,
Красногвардейские озера,
Красногвардейская волна!
Такие волны, словно продолжающие подвиг наших воинов и полновластно отзывающиеся на него, широко и мощно вторгаются в лирику А. Прокофьева, по-своему перестраивают и обогащают ее лад и ее характер.
Такое восприятие родной природы побуждало поэта совершать одно открытие вслед за другим, и каждое из них поражает его своею неожиданностью и неоспоримостью.
Всё в цветах! Везде я их встречаю,
Даже пробиваются как, слышу.
Куст какой-то смелый иван-чая
Смотрит на собратьев прямо с крыши, —
(«Нынче удались цветы повсюду…»)
и как отчетливо смелость этого куста перекликается с той, какая свойственна тем людям, среди которых он вырос!
А сколько каждый раз нового мог бы рассказать поэт о той же березке – извечно неизменной в своей непостижимой красоте и вместе с тем отзывающейся на все то, что свершили и пережили наши солдаты, как это мы видим в стихотворении «Стоит березка фронтовая…»:
…Ей не от солнца горячо,
У ней ведь рана огневая,
Пробила пуля ей плечо!
Почти закрыта рана эта
Как бы припухшею корой…
И для поэта очевидно, как близка эта березка всем своим житейским и боевым опытом ему, его современникам и соратникам, а потому и наделяет ее теми чувствами и переживаниями, какими и они могли бы поделиться с нею.
Да и говорит она тем языком, какой зачастую слышался поэту в родных ему краях:
Как северянка, речь заводит,
Всё с переспросом: «Чо да чо?»
И только ноет к непогоде
С закрытой раною плечо.
Да, здесь раненая березка так похожа на девушку-северянку и военную санитарку, словно стала ее верной и неизменной подругой.
Вот и сосна по-родственному дорога и близка поэту именно потому, что и в ней он угадывает те свойства и качества, какие особенно ценит у своих боевых друзей:
Сосна гранит ломает,
Она – каменолом.
Потом стрелой взлетает
Туда, где ходит гром…
(«Высокая сосна»)
Чем глубже разламывает она толщу гранита, тем выше поднимается ее крона, и, на взгляд поэта, многие и многие могли бы позавидовать ей и взять у нее надежные уроки выдержки, мужества, упорства, преодолевающие самые тяжелые испытания, – вот чем эта сосна особенно дорога поэту. Ни в чем не уступит ей – ни в упорстве, ни в мужественности – тот дуб, о котором наши люди исстари слагали столько прекрасных и бессмертных песен:
…Он стоит, величия исполнен,
И смотрит вдаль, и видит дальний путь,
И только шрамы от ударов молний,
Как воину, легли ему на грудь.
(«Мне о России надо говорить…»)
В этом воине наши солдаты также могли бы угадать своего друга и соратника, и именно той красоте, какая словно бы углублена и безмерно умножена сопрягающимся с нею мужеством, упорством, несокрушимой внутренней силой, посвящает А. Прокофьев свои восторженные и вдохновенные гимны.
Поэт стремился вместить в своем творчестве всю родину во всей ее неизмеримой широте и несказанной прелести,
С ее колосистой
Пшеницей и рожью,
С ее голосистой
Песней дорожной…
…И сказом, и сказкой,
И древней былиной,
И речью, что я завладел,
Соловьиной!..
(«Россия стоит на граните»)
Иной поэт на этом и завершил бы свои любовные излияния, ибо что может быть прекраснее речи, названной здесь соловьиной? Но Прокофьев, с неизменно присущим ему чутьем творца и ратоборца, не может не вспомнить и о том, какою ценою оплачены неисчислимые богатства нашей отчизны, а потому продолжает;
…С великим народом
Ее именитым,
А также с железом ее
И гранитом.
Одно неотделимо от другого!
Так и здесь нежность соловьиной песни сочетается с железной хваткой, суровым мужеством, что крайне характерно для творчества А. Прокофьева.
Словно подытоживая все прожитое, оглядываясь на пройденный путь, такой трудный и крутой, что не каждый выдержит, поэт признается в подобных исповеди стихах:
Меня, как в море, бури закачали,
И скажем прямо:
Я хлебнул всего!
Все три войны остались за плечами
И в доле поколенья моего…
Поэт воочию видел, сколько необыкновенного и примечательного совершили люди его поколения, герои нашего времени, что и побуждало его с особенной увлеченностью и проникновенностью всматриваться в их облик, находить истоки их внутренних сил, их героизма, одержанных ими побед в борьбе и творчестве. И сколько примечательных открытий совершил он здесь, сколько образов современников и соратников со всеми присущими им навыками и особенностями воссоздано в его стихах, проходит перед нами один за другим!
Образы людей творческого труда и воинского подвига возникают в стихах поэта во всей своей жизненности, неповторимости, во всем своем внутреннем богатстве. Все творчество А. Прокофьева населено ими – и сколько же дорогих нам лиц и близких друзей, встающих перед нами с присущей им зримостью и непринужденностью, обретаем мы, знакомясь с ними! А если поэт говорит о своих сверстниках и однокашниках, открывших новую страницу истории, то он слагает им гимны, захватывающие своей страстностью, размашистостью, безмерной гордостью за них и их бессмертные подвиги, равные легендарным и даже превосходящие их, как это мы видим хотя бы в стихотворении «Первая песня»:
Мои друзья летали в бурках
Зимою в огненной пыли,
И сивки – вещие каурки
Едва касалися земли…
Это они «встречали грудью ярый шквал», не отступая перед ним и преодолевая все выпавшие на их долю испытания.
Вот каких друзей и сверстников, ни в чем не знающих предела и меры, а стало быть, и в своей преданности делу революции, как и в годы своей юности, славит и воспевает поэт – людей героической борьбы и творческого труда, отстоявших родную землю от захватчиков и неутомимо преобразующих ее. Вот почему его творчество пронизано прежде всего пафосом борьбы и труда, что отзывается и на характере его стиха.
Повторяя – вслед за Павлом Васильевым – «творящие слова», А. Прокофьев именно в них видел великую силу, неодолимое могущество, а потому и внушал своим товарищам по перу, да и не только им, но и себе самому:
…чтоб больше надежд,
Больше стало надежд, —
Дай всему
Творительный падеж!.. —
(«Другу»)
творительный не только в прямом, но и в самом широком смысле этого слова, связанном с основами всей жизни, в которой поэт прежде всего видел и подчеркивал «творительное» начало. Поэтому он отстаивал прежде всего такую песню, какая отвечает духу «творительного падежа», ту, которая
…трогает сердце и душу,
Взвивает знамена в бою,
И скалы взрывает и рушит,
Проходит в гвардейском строю.
Именно такая песня, отвечающая духу творчества и борьбы, находила в лице поэта своего страстного защитника, непреклонного заступника, полного веры в ее всемогущество и красоту. Он настойчиво стремился к тому, чтобы и его собственная лирика в полной мере отвечала этим заветам и призывам; вот почему в поэзии А. Прокофьева неизменно чувствуется тот высокий накал, без какого нельзя по-настоящему представить ее существо, ее наиболее характерные черты и особенности, – касается ли это самого существа стиха или средств его образной выразительности, какие призваны ответить этому накалу, вызваны им к жизни и дышат им, исключают все то, что чуждо ему и неспособно выразить его.
Если поэт восклицает с радостью и торжеством:
В красном блеске, в буйной силе
Встало солнце над Россией, —
(«День рождения»)
то сказано это с особым смыслом и значением, ибо он стремился к тому, чтобы и его стихи были под стать такой «буйной силе» и, как прежде, по-своему отвечали ей в своей размашистости, безудержности, готовности дойти до самого края, а если нужно, то хватить и через край, – лишь бы дойти до читательского сердца и увлечь его.
Поэт утверждал, полностью раскрывая себя перед читателем и ни в чем не желая таиться от него, пролагать какую бы то ни было межу между ним и собою:
…Коль что-нибудь значу,
То всею судьбою.
Ничего не жалея,
Грудь открыв, словно дверцу,
Там не тлеет, не тлеет,
А горит жаром сердце!..
Этим горением охвачено и пронизано все его творчество, что побуждало поэта обращаться к словам и образам предельно размашистым, пылким, безудержным, а иных в его стихах мы почти не встретим; вот почему и весь окружающий мир, словно охваченный этим никогда не остывающим огнем, представал перед ним таким необыкновенным и чудесным, и здесь одно чудо следует за другим – лишь бы взглянуть на него зоркими, словно бы омытыми ключевою водой глазами!
Тогда и тот закат, к зрелищу которого мы так привыкли, становится поразительным и необычайным, если он внезапно вспыхивает в грозящих «обвалом» облаках, – и это острое столкновение стихийных и противоборствующих сил словно бы вещает об одном из драматических событий мирового катаклизма:
…в лугу
Розовый стожар горит в стогу,
Розовые сосны на снегу,
Розовые кони в стойла встали,
Розовые птицы взвились в дали,
Чтобы рассказать про чудеса…
(«Закат»)
Все обрело небывалые оттенки, краски, цвета, совершенно необыкновенные образы и очертания. И хотя эти чудеса продолжались лишь минуты, но сколько за это время высмотрел их поэт, да, наверно, и не он один!
Так он вызывает у своего читателя особую чуткость к немеркнущей красоте окружающего мира, равной чуду и рождающей чудеса, какие он открывает перед нами одно за другим, находит их даже и «в ненастный день».
Оказывается, что и этот день неповторим, сказочно хорош, если не пропустить мимо глаз его прелесть и красоту:
Всё хорошо, отрадно смолоду,
Когда плечам не страшен груз.
Вошла, и губы пахнут холодом,
Дождинкой, сладкою на вкус!..
(«В ненастный день»)
И сколько таких дождинок – целый ливень, в свете и свежести которого словно бы преображается и расцветает весь мир, – вторгается в стихи А. Прокофьева, и каждая из них свидетельствует о чуде жизни, которое захватывает сердце даже тогда, когда день поначалу кажется пасмурным и ненастным.
Вот и ветер в его стихах возникает как один из героев волшебных сказок, который не может не вызвать удивительных событий и перемен; он проходит перед нами
…в шапке-невидимке,
Что приметить хочет, что забыть!..
Рощи и леса в зеленой дымке.
Чуда нет.
Но чудо может быть!
(«Воспоминание»)
Таким предчувствием чуда, какое может случиться (а то и случается) на каждом шагу, – лишь бы его не проглядеть! – пронизана вся лирика А. Прокофьева, открывающего необычайное и чудесное даже в самом обычном и неприметном его обличье. А без чуда – или хотя бы его предчувствия и предвестия! – поэту просто невозможно представить себе жизнь. Везде он видит приметы и признаки чуда, и все здесь дышит чудом, тянется ему навстречу, готово к его приходу, – и не только в окружающем мире, но и в самом себе, в нарождении и смене своих чувств и страстей поэт видит нечто необыкновенное и удивительное.
Само творчество – это тоже чудо в своей всемогущей и неподвластной времени красоте; поэт с предельной увлеченностью стремился постигнуть ту тайну, когда самое простое и привычное слово становится удивительным и волшебным, что и передано в стихотворении «А у нас на Ладоге», где все так необыкновенно и чудесно:
А у нас на Ладоге —
Гром-слова:
Трын-трава,
Разрыв-трава,
Плакун-трава…
И каждое такое слово звучит в ушах поэта дивной поэзией, как и те создания народного творчества, к каким он увлеченно прислушивался еще с детских лет.
В стихотворении «По дороге в Низово» поэт словно бы нанизывает слова и на лозу, и на елки-мутовки, на осинник и на вербы; слово предстает здесь перед нами во всей своей выразительности и даже ощутимости, в своем наглядно-зримом воздействии на весь окружающий мир. А разве поэзия не призвана воспринять и передать властность и красоту такого наглядно-ощутимого слова?!
Для поэта очевидно и то, чему и кому он обязан богатством своего языка, неповторимой образностью своей речи, ее многоцветностью и самобытностью, ее звучанием:
А у нас по Заречью
Да на веки веков
Много самых сердечных
Раскидано слов.
Тех, что кружатся, вьются,
Словно птицы в лугах,
Тех, что сами смеются
У тебя на губах.
Эти слова, вторгаясь в стихи, придают им особую свежесть, выразительность, окрыленность, и если в самой действительности поэт открывает одно чудо вслед за другим, то такие же чудеса он открывает и в стихии народной речи, вторгшейся в его лирику и придающей ей особое обаяние, свежесть, меткость, удивительную выразительность.
Людям, глухим к поэзии и даже ставящим под сомнение ее возможности и ее будущее, поэт противопоставлял все кипение и все богатство живой, страстно напряженной и ничем не заменимой лирической речи:








