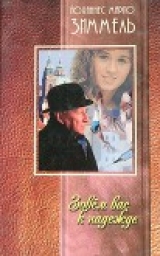
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 52 страниц)
13
Приблизительно час спустя – в 22 часа 14 минут – Линдхаут вышел на Верингерштрассе и с облегчением вздохнул. Он глубоко вдыхал и выдыхал воздух, вдыхал и выдыхал… Толлек еще долго расспрашивал о подробностях его исследований и при этом порол несказанно глупую политическую чушь.
«Чушь, да, глупая чушь, – думал Линдхаут, запирая тяжелые ворота института (он получил ключ), – но это не безобидная чушь! Этот Зигфрид Толлек – одержимый нацист, коричневый фанатик, непоколебимо верящий в окончательную победу, чего и следовало ожидать. А теперь я знаю, что оказался в логове льва. Я должен принимать меры предосторожности – все время и очень основательно. Надеюсь, что этот кошмар не будет длиться слишком долго. Странно, я, конечно, никакой не герой, скорее трус, как все люди, которые обладают достаточной фантазией. И все же я не боюсь. И все же я знаю, что переживу эту чуму. I shall overcome, – подумал он, вспомнив известную религиозную песню американских негров, в которой выражается воля к сопротивлению черного человека: I shall overcome, я преодолею. И я смогу работать дальше в мирных условиях, когда с этими исчадиями ада будет покончено».
Ночь была теплой.
Перед институтом были заросли кустарника, и дурманяще пахло жасмином. Линдхаут все еще глубоко дышал, когда тронулся в путь. Ему нужно было повернуть налево и идти вдоль по Верингерштрассе в направлении кольца Шоттенринг, чтобы добраться до переулка Берггассе. Вместо этого он повернул направо, выждав несколько минут, чтобы проверить, не следят ли за ним.
Не было видно ни одного человека.
Линдхаут прошел до конца здания в направлении Нусдорферштрассе, затем свернул направо, в изгибающийся дугой Штрудльхофгассе. Теперь боковой фасад института был у него по правую сторону; по левую сторону возвышалось большое строение монастыря. Линдхаут шел медленно, осторожно и совсем бесшумно в тишине этой летней ночи. Он дошел только до ближайшего перекрестка, где из Штрудльхофгассе свернул в Больцмангассе.
Он дошел до дома номер 13 и, остановившись перед большими застекленными воротами из кованого железа, открыл замок ключом, который вытащил из левого кармана пиджака. Это был большой и красивый дом, красивее, чем дом в переулке Берггассе, хотя и построен приблизительно в то же время и в том же стиле.
Здесь был лифт, но Линдхаут не воспользовался им. Как можно меньше шума! И он стал подниматься по ступеням на четвертый этаж. При этом следовало учитывать странное устройство многих венских домов: между первым и вторым этажом в виде собственно этажей были еще бельэтаж и полуэтаж.
В более старых подобных домах – а таких было большинство – на лестничных площадках между этажами, там, где лестница поворачивает в противоположном направлении, в стены была вставлена небольшая горизонтальная решетка из кованого железа. Линдхаут видел подобное впервые. Он не знал, что в таких домах прачечные сплошь располагались в подвалах и что состоящие здесь на службе женщины, приходящая прислуга, должны были тащить белье своих господ с самого низа на чердак, в помещения для сушки с постоянно натянутыми там бельевыми веревками. Белье, влажное и тяжелое, таскали в корзинах. Даже молодые женщины могли подняться без передышки не выше полуэтажа. Они ставили корзины на решетки из кованого железа и переводили дыхание, чтобы нести их дальше.
Линдхаут добрался до четвертого этажа. Квартиры располагались здесь одна напротив другой. Почти беззвучно он подошел к двери с латунной табличкой, на которой стояло «Мария Пеннингер», и позвонил: три коротких звонка, один длинный, а потом еще раз короткий.
Послышались приближающиеся шаги. Дверь открылась. На пороге стояла приятная молодая женщина.
– Добрый вечер, фрау Пеннингер, – сказал Линдхаут.
– Добрый вечер, – ответила она тихо и втянула его внутрь квартиры. Дверь закрылась. Свет на лестничной клетке погас.
Они стояли друг против друга в прихожей, как это было у фройляйн Демут.
– Извините, что я пришел так поздно, но я же обещал Труус. Или она уже спит?
– Нет, она терпеливо ждет вас, герр Линдхаут.
Линдхаут растроганно посмотрел на Марию Пеннингер:
– Я бы не знал, что делать, если бы не получил в Берлине ваш адрес.
– Если бы вы не получили мой адрес, то был бы какой-нибудь другой. Существует такое сообщество, которое, как невидимая сеть, раскинулось по всей Европе, – сообщество людей, которые хотят помочь в это скотское время.
Он молча кивнул головой. Помедлив, он сказал:
– Которые рискуют своей жизнью… и часто теряют ее, ужасно часто, я знаю.
– Да, и что же? – фрау Пеннингер улыбнулась. – Разве из-за этого сеть разрушилась? Была порвана? Уничтожена? Нет! Она здесь, как была здесь с самого начала и как будет здесь до конца.
– Вы правы, – ответил он неуверенно. – Каждый раз на место несчастного, которого они арестовывают, заступает преемник. Сеть продолжает существовать, эта сеть помощи, которая, по всей видимости, действительно никогда не может быть уничтожена, потому что она питается из неиссякаемого и неразрушимого источника.
– Зачем так высокопарно, герр Линдхаут? Эту сеть невозможно разрушить потому, что она соткана людьми, которые ненавидят нацистов, – как вы, как мой муж и как я ненавидим это отродье, вот и все. – Бок о бок они шли по спускающемуся коридору.
– Как дела у вашего мужа? – спросил Линдхаут.
– После обеда я получила письмо, которое доставил мне один товарищ. Он жив.
– Бог мой…
– Что значит «бог мой»? Это главное, герр Линдхаут, – жить, пережить этих преступников. Перед этим я слушала Лондон. Последние известия замечательны. Все рушится. Русские и американцы гонят перед собой немецкие армии. Мой муж должен был в течение всего времени прокладывать дороги и строить мосты для наступления этого пачкуна[14]14
Презрительное прозвище Гитлера, занимавшегося в юности живописью. – Прим. пер.
[Закрыть] – об этом вам рассказывали в Берлине, не так ли? – Линдхаут кивнул. – И он пишет, что все еще строит их, – но где он строит их сейчас? В Польше! Уже почти в Восточной Померании! И все в большей спешке он должен ремонтировать и ремонтировать их, чтобы немецкие танки и тяжелая артиллерия не проваливались, когда вынуждены отступать вместе с разбитыми дивизиями. Послушайте меня, герр Линдхаут: скоро будет конец, уже скоро, скоро.
– Будем надеяться, – сказал он. – Голландия была самой первой, и много лет мне пришлось прятать Труус. Много лет, да, и все время я должен был находить для нее новые убежища…
– Здесь она в безопасности, герр Линдхаут! Никто не подозревает, что она здесь. Как раз сейчас этим негодяям мой муж нужен как хлеб насущный! Поэтому они в мою квартиру никого и не подселяют! Поэтому они меня не беспокоят – никто из этой рвани не отважится даже заглянуть сюда. Наш общий друг в Берлине – умный человек. – Она открыла дверь и впустила Линдхаута в большую комнату. Шторы светомаскировки были опущены, и горел свет. Фрау Пеннингер пошла к обклеенной обоями стене. – Действительно, герр Линдхаут, – сказала она, – вы можете быть спокойны. Малышке здесь хорошо. Она меня уже признала! Коричневые должны сначала трижды убить меня, прежде чем войдут сюда. – С этими словами она ощупью провела рукой по стене и открыла обклеенную обоями дверь, о наличии которой в этом месте невозможно было догадаться. За дверью находилась кладовая с маленьким, занавешенным темным материалом слуховым окном.
– Адриан! – крикнул радостный детский голос.
– Да, Труус, да, – сказал он. – Наконец-то я пришел. – И он вошел в каморку, в то время как фрау Пеннингер удалилась. В комнатке стояли кровать и стул. Кровать была очень маленькая. На ней сидела веснушчатая десятилетняя девочка с длинными белокурыми волосами, голубыми глазами и высоким лбом. Она была в ночной рубашке из набивной ткани в мелкий пестрый цветочек. Линдхаут увидел на кровати раскрытую книгу – «Алиса в стране чудес». Он нагнулся к маленькой девочке, снова почувствовав рукоятку пистолета, и обнял ребенка. – Вот он я. Видишь, я сдержал слово, Труус. Только уже поздно, к сожалению.
Маленькая девочка страстно прижалась к нему и покрыла его лицо множеством влажных поцелуев.
– Ничего, я к этому уже давно привыкла. Адриан, дорогой, дорогой Адриан!
Он тоже целовал ее. Потом огляделся:
– Тесновато здесь, а?
– В Берлине было не просторней, Адриан, – сказала девочка. – И к тому же там не прекращались эти ужасные воздушные налеты, когда я должна была оставаться наверху, чтобы в подвале не спрашивали, кто я. Ты думаешь, здесь тоже будут воздушные налеты?
Сердце отозвалось болью, когда он нежно гладил ее.
– До сих пор еще не было ни одного, Труус. А если какие и будут, то, как сказала мне фрау Пеннингер, когда мы сегодня утром приехали сюда, в этот подвал ты можешь спокойно спускаться вместе с ней. Если кто-то спросит, она скажет, что ты ее племянница. Видишь, насколько здесь лучше, чем в Берлине? Там у нас не было тети. Там у нас вообще никого не было. Там я не мог разрешить тебе спускаться вниз, когда выли сирены.
– Но там ты оставался со мной наверху, хотя это и было запрещено.
– Только ночью, Труус. Днем я был далеко от тебя, я должен был работать, и тебе приходилось оставаться одной в убежище. Это было страшно.
– Да уж, прекрасно это не было, – озабоченно сказала девочка. Маленькое личико просветлело: – Но меня часто навещал Клаудио, и мы вместе играли.
– Его родители были посвящены в нашу тайну, Труус. Им мы могли доверять. И Клаудио тоже.
– Он самый лучший мальчик в мире! Он плакал, когда мы уезжали. Ты думаешь, я его увижу?
– Наверняка. Когда окончится война, Труус. – Линдхаут придал своему лицу серьезное выражение. Он знал, что Труус будет страдать из-за потери своего берлинского товарища по играм, с которым она была так счастлива.
Труус, внимательно следившая за ним, радостно воскликнула:
– Значит, когда война окончится, да?
– Да, Труус.
– Тогда мне совсем не грустно. Здесь так хорошо, Адриан! Тетя Мария очень милая! Она целый день играла со мной, мы вместе ели, а после обеда пили кофе с тортом. Она сама его приготовила! Специально для меня, подумай только, Адриан!
– Ты всегда должна быть послушной, Труус!
– Обязательно, Адриан! Тетя Мария сказала мне, что, когда стемнеет, я могу выйти из этой комнатки, поесть с ней, послушать радио и все такое! И такая замечательная кровать! А через маленькое окошко я смотрю на небо! Посмотри Адриан, как много звезд. – Труус погасила свет и сняла со слухового окна светомаскировочную занавеску.
– Да, так много звезд, – сказал он, снова повесил занавеску и стал гладить и ласкать ребенка. «Не бойся, Труус, – думал он, – мы так долго продержались, мы продержимся и до конца, ты и я, we shall overcome, мы оба переживем это и доживем до конца этого адского времени. Важнее, чтобы выжила ты, если даже должен остаться кто-то один из нас. Боже милосердный, если должен остаться только один из нас, – безмолвно молился он, снова зажигая свет, – то пусть это будет Труус. Ей только десять лет. Она найдет свое место в новом, лучшем мире».
Он заметил, что у девочки от усталости слипаются глаза.
– Бог мой, уже двенадцатый час, – сказал он. – А сейчас ты должна спать, Труус. После всех трудностей! Подумай только, прошлой ночью мы сидели в поезде. Ты почти не спала. Будь славной девочкой.
Она улыбнулась:
– Ты знаешь, я читала. Это великолепная книга, самая замечательная из всех! Я сейчас там, где Алиса встретила сумасшедшего шляпника. Ты знаешь это место? – Он кивнул. – Разве это не прекрасно? – Труус засмеялась. – Шляпник говорит Алисе: ты сумасшедшая. А она спрашивает: почему? И шляпник говорит: потому что здесь все сумасшедшие. Я сумасшедший, белый кролик сумасшедший, все здесь сумасшедшие. А Алиса говорит: я – нет! Я не сумасшедшая! И тогда шляпник говорит: ты тоже сумасшедшая, иначе ты бы не была здесь! – Труус снова засмеялась, а потом откинулась на подушку. Он положил книжку на стул и сказал:
– С завтрашнего дня у меня опять будет больше времени для тебя, Труус. Как в Берлине. Только первый день был таким напряженным.
– Да, могу себе представить.
– Ну, спи спокойно, моя любовь.
– Нет, – забормотала она, протестуя, – нет! Сначала еще «Символ»! Ты же знаешь! Каждый вечер ты читаешь мне один стих оттуда! Пожалуйста, Адриан!
Он погасил свет и в темноте – только из комнаты сквозь щель проникал свет, – поглаживая ее волосы, начал читать наизусть. Это была строфа из стихотворения «Символ» Иоганна Вольфганга Гете.
В этом стихотворении из цикла «Ложа» – одном из масонских стихотворений Гете – было шесть стихов. Каждому, кто был не в курсе дела, должно было казаться необычным, что десятилетняя девочка так любила это стихотворение и просила прочитать один стих перед сном вместо того, чтобы молиться. Конечно, тому была своя причина, поскольку не бывает ничего, что происходило бы в нашем мире случайно или беспричинно.
– И что ты хочешь сегодня услышать, Труус? – спросил он.
– Стих о добре, Адриан, сегодня о добре!
Он склонил голову и стал тихо читать у постели маленькой девочки:
Но мнится оттуда —
То духов ли зовы,
То мастера ль слово:
Творите, покуда
Не сбудется благо…
Он замолчал и сидел неподвижно, слушая глубокое, ровное дыхание. Ребенок заснул очень быстро. Линдхаут наклонился над Труус и осторожно поцеловал ее в лоб. Затем еще раз поднял занавеску светомаскировки и взглянул через слуховое окно вверх, на темное ночное небо, которое сплошь было усеяно бесконечно многими, бесконечно далеко удаленными, бесконечно безучастными звездами.
Часть II
И долу могилы
1
«Братья и сестры!
Есть вечное, лежащее вне человеческой воли, Богом гарантированное право, недвусмысленное разделение добра и зла, разрешенного и неразрешенного.
Отдельный человек не может и не должен полностью растворяться в государстве, или в народе, или в расе. Кем бы он ни был, у него своя бессмертная душа, своя вечная судьба.
Он есть и остается ответственным за себя и за каждое из своих деяний.
Бог дал ему свободу, и эта свобода должна оставаться с ним.
Никакая сила на земле не может вынудить его к высказываниям или действиям, которые были бы против его совести, против правды…»
Человек, сидевший неподвижно за современным, заваленным книгами, рукописями и докладами, письменным столом в эти предвечерние часы 23 февраля 1979 года, лауреат Нобелевской премии по медицине за 1978 год, профессор доктор Адриан Линдхаут, испуганно вскочил. Электрические часы на книжной полке в обставленном светлой мебелью кабинете, где он ответил на три телефонные звонка, последовавшие один за другим, показывали 16 часов 51 минуту.
Всего шесть минут прошло с того момента, когда он открыл запертый ящик своего письменного стола, взял из него пистолет системы «вальтер», калибра 7.65, и дослал патрон в ствол.
Всего шесть минут он вспоминал о прошлом, смотря и не видя влюбленную пару на литографии Шагала. Мысленным взором он прошел сквозь картину, сквозь стены дома, и блуждал в бесконечном песчаном море времени, лежавшем позади.
Всего шесть минут с момента, когда он положил заряженный пистолет на рукопись – рукопись речи, с которой он намеревался выступить на английском языке завтра, 24 февраля 1979 года, в Стокгольме, перед Шведской Академией наук. Оружие, из которого он затем точно в 17 часов 37 минут произвел тот смертельный выстрел, закрывало лишь малую часть заголовка этой речи: «Лечение зависимости от морфия антагонистически действующими субстанциями».
Тридцать пять лет прошло с того времени, о котором он как раз думал, о котором он как раз вспоминал, – половина человеческой жизни, если эта человеческая жизнь длинна…
«Есть вечное, лежащее вне человеческой воли, Богом гарантированное право, недвусмысленное разделение добра и зла, разрешенного и неразрешенного…»
Прежде чем очнуться от своих мыслей, он думал о листовке с циркулярным письмом епископа Берлина графа Прейзинга, которое тот составил и распространил еще в 1942 году.
На своем пути домой от Труус в ее убежище в квартире доброй Марии Пеннингер, он наступил на такую листовку, не обратив на нее внимания. Затем на вторую. Третью листовку – а на тротуаре между Химическим институтом и переулком Берггассе их было рассеяно не меньше сотни – он поднял и прочел в свете пламени своей зажигалки, потому что было очень темно, а уличного освещения не было.
Листовка Сопротивления!
Подобные листовки Линдхаут находил на улицах и в Берлине, а помимо них – огромное количество других: после воздушных налетов их сбрасывали американские и британские бомбардировщики.
Но эти листовки доставили сюда в Вену не бомбардировщики. Их разбрасывали люди, чтобы другие, прочитав, второпях опять избавлялись от них. Их собирали и с бюрократическим пылом «обрабатывали» в гостинице «Метрополь» на Морцинплац.
Конфискованная гостиница «Метрополь» с 1938 года была штабом гестапо в Вене. Да, здесь лежали толстые папки, полные таких листовок, с точным указанием времени и места их обнаружения. В этом же здании на восковые пластинки записывались все передачи «Оскара Вильгельма два».
Подобрав ночью 1944 года на Верингерштрассе листовку, Линдхаут испытал новый прилив мужества, но в феврале 1979 года воспоминание об этой ночи повергло его в грусть.
1944 год тогда, 1979 год сегодня.
Тридцать пять лет. Они пронеслись как дуновение ветра.
Ему пришла в голову цитата из Библии: «Человек, рожденный женщиной, живет короткое время и полон беспокойства; он подрастает подобно цветку, он бежит подобно тени, он умирает, и ветер больше не знает места его…»
Так мало времени, – думал Линдхаут. – Так мало времени. Как близко мне еще все это, и как далеко это на самом деле, и как долго я еще буду жить? Приходит лето, приходит зима, и снова наступает весна, – это то же самое солнце, которое светит нам сегодня, как и во все дни. Только иногда, и то лишь на секунды, мы, кажется, понимаем, что мы из того же вещества, что и сны и что наше маленькое бытие ничем не окружено, кроме глубокого сна.
Как коротко время человеческое! Как быстро оно проходит! Когда человек перешагивает пятидесятилетний порог, оно начинает бешено мчаться, это время; человек так много пережил, а думает, что не пережил совсем ничего. И он знает, что время истекает в песочных часах и конец приближается, приближается, все быстрее. И тогда он спрашивает: и это все? Что остается? Воспоминания о многих людях, которые умерли или погибли, которые оказались несостоятельными или сделали головокружительную карьеру, которые пропали без вести, опустились, кто знает, где, как и почему. Я, я еще здесь – ненадолго.
Время, – думал Линдхаут, – эта зловещая, непонятная вещь, называемая временем. Великий американский поэт Карл Сэндберг написал однажды стихотворение о траве. Я люблю это стихотворение… «Нагромождай трупы у Ватерлоо, и нагромождай их у Ипра и Вердена, – ведь я трава, я справлюсь. Три года, десять лет – и чужаки спрашивают проводника: как называется место? Где мы, собственно?»
Трава времени…
Сейчас я сижу здесь и жду капеллана Хаберланда. Я не знаю, жив ли вообще Хаберланд, или кто-то другой воспользовался его именем, чтобы проникнуть сюда. Этого я не знаю.
Роман Хаберланд…
Когда я встретил его, после той первой ночи, которую я провел в Вене в 1944 году и когда нашел листовки, то подумал: не он ли разбросал их? Может быть, это был он?
Конечно, это был Роман Хаберланд. Они, он и члены его братства, постоянно разбрасывали листовки в вестибюлях домов и на пустынных ночных улицах Вены. В конце войны он легкомысленно, просто с опасностью для жизни, привык почти постоянно носить с собой такие листовки – как и Линдхаут – свой пистолет.
2
Уже на следующий день Филине Демут извинилась перед Линдхаутом за свое поведение: причиной были переутомление и раздражительность, заявила она, запинаясь. Разумеется, это было настоящее безобразие, и пусть он простит ей этот отвратительный прием. Ей так стыдно. Чего доброго, он еще подумает, что она сумасшедшая!
Линдхаут, который именно так и думал, поспешил заверить ее, что подобная мысль даже не приходила ему в голову – все люди в нынешнее время переутомлены и раздражительны. Фройляйн Демут сразу же успокоилась, она даже почувствовала себя счастливой: ведь она же обещала его преподобию Хаберланду, что извинится. Сочтя это удобным случаем, они любезным и предупредительным образом заодно договорились и о пользовании кухней, ванной комнатой и туалетом. Линдхаут был само обаяние, а фройляйн Демут беспрерывно хихикала в ответ на его комплименты. Подвергшийся бичеванию Христос был помещен на хранение в кладовую. На следующей встрече в Объединении святой Катарины фройляйн Демут могла сообщить Хаберланду, что все в полном порядке.
– Вот видите, – сказал капеллан, мысли которого были далеко-далеко отсюда…
В течение последующих недель Линдхаут был полностью занят тем, что возобновил свою работу в Химическом институте, восстанавливая погибшие в Берлине записи серий испытаний, чтобы как можно быстрее приступить к совершенствованию своего открытия. По меньшей мере, два раза в день он навещал маленькую Труус у фрау Марии Пеннингер. Он часто приносил ребенку подарки. Труус была очень спокойной и довольной, и фрау Пеннингер была счастлива с ней.
– Она такая славная, смышленая и терпеливая девочка, – сказала она как-то. – Ее просто нельзя не любить.
– Да, – сказал Линдхаут, – действительно нельзя.
У него не было проблем с посещениями ребенка – для этого он использовал обеденный перерыв и вечерние часы.
Труус дочитала «Алису в стране чудес», и Линдхауту удалось приобрести в букинистическом очередной том – «Сквозь зеркало».
Теперь сирены завывали чаще, почти всегда около одиннадцати утра; бомбы продолжали падать на промышленные установки в предместьях, разрушая при этом, конечно, и жилые дома. Но все это происходило еще очень далеко от центра города. Немцы потеряли Румынию с ее нефтепромыслами, и поэтому производство бензина и дизельного топлива приобрело в Австрии чрезвычайное значение. Соединения 15-го Американского воздушного флота часто бомбили расположенные вокруг Вены нефтеперерабатывающие заводы – только днем и никогда ночью. Для большинства гражданского населения города с двумя с половиной миллионами жителей 10 сентября 1944 года стал – по крайней мере, по их мнению – днем первой настоящей «воздушной бомбардировки», так как несколько соединений американских «летающих крепостей» бомбили и внутренние районы города.
Бомбами было разрушено много шикарных зданий в районе Йозефштадт и на прилегающих магистралях Первого района. Совершенно особую реакцию вызвало разрушение дворца Харрах и некоторых других памятников культуры и искусства. В отличие от немецких городов, Вена до сих пор в значительной степени оставалась нетронутой, и обыватели тешили себя надеждой, что справедливые и великодушные союзники и далее будут щадить Вену как столицу изнасилованной Гитлером страны. Бурное ликование австрийцев при вступлении немецких войск в 1938 году было так же забыто, как и то «чувство радости освобождения», которое вырвалось наружу во всей стране, и в особенности в Вене. Немецкие солдаты не ожидали такого сумасшедшего радостного рева при проезде фюрера по кольцевой Рингштрассе и во время его речи с балкона дворца Хофбург[15]15
Резиденция Габсбургов в XVI–XIX вв. – Прим. пер.
[Закрыть] на огромной Хельденплац, когда сотни тысяч людей, вскинув правую руку, многие со слезами счастья на глазах, кричали до хрипоты: «Один народ, один рейх, один фюрер!»
Теперь война была проиграна – это осенью 1944 года понимал каждый австриец, и среди буржуазии и мещанства больше уже не было ликования, не было ничего, кроме жалости к самим себе и ругательств с оглядкой в адрес «пифке»,[16]16
Прозвище немцев в Австрии. – Прим. пер.
[Закрыть] которые напали на бедную, беззащитную страну. У людей, тем временем добившихся высокого положения (и таких было немало), вместе с тем рос и страх перед будущим, и поэтому они проявляли особую свирепость.
К ним относился и маленький, скрюченный портье Франц Пангерль, который, будучи ответственным за квартал и гражданскую воздушную оборону, стал жестоко всех терроризировать. Он бегал повсюду в своей помойно-коричневой форме и в шлеме противовоздушной обороны, с красной повязкой со свастикой на левом рукаве.
Впрочем, люди реагировали совершенно по-разному. Боялись все – это была естественная реакция. Но говорил и думал об этом каждый по-своему.
Когда мигал или гаснул свет, когда почва дрожала от близких разрывов, Филине Демут, ищущая защиты у Бога, молилась в бомбоубежище дома в переулке Берггассе. Она молилась с закрытыми глазами и сложенными руками – тихо и мягко:
– Господь пастырь мой, и не буду ни в чем испытывать нужды. На зеленом лугу Он дает мне пристанище, Он ведет меня к местам отдыха, богатым водой. Он дарит мне усладу. Он ведет меня по истинному пути во славу имени Своего. И если я бреду по мрачной долине, то не испытываю страха перед бедой. Ведь Ты со мной, посох Твой и опора Твоя, – они мое утешение…
Линдхаут, в свою очередь, уже настолько привык к воздушным бомбардировкам в Роттердаме и Берлине, что часто совсем не спускался в бомбоубежище института, а оставался в лаборатории со своими животными – так же, как и работающий рядом химик Толлек, который не хотел прерывать текущую серию испытаний.
Маленькая Труус на руках Марии Пеннингер в подвале дома в Больцмангассе, 13, вела себя так же, как Линдхаут. Во время налетов она часто даже читала книжку, пока горел электрический свет. В Роттердаме и Берлине было гораздо страшнее (и действительно, до конца войны воздушные налеты на Вену были не сравнимы с налетами на такие города, как Дюссельдорф, Кельн, Гамбург, Берлин, Мюнхен или Франкфурт).
Фрау Пеннингер кусала до крови губы, чтобы громко не выкрикнуть то, что она испытывала, когда кругом рвались бомбы: «Больше! Больше! Больше! Еще! Еще! Чтобы быстрее окончилась эта проклятая война нацистов!»
И наконец, священник Хаберланд, который ночами часто ездил по предместьям на грузовике с брезентовым верхом, говорил в микрофон радиопередатчика «Оскар Вильгельм два»: «Если сейчас в Вене завывают сирены, – думайте о Варшаве! Если бомбы громят ваши заводы, – думайте о Роттердаме! Если вы внезапно потеряете все имущество, – думайте о Ковентри! Если вы вдруг станете вдовами и сиротами, – думайте о Белграде! Если ваша страна погрузится в кровь и слезы, – скажите: за это мы благодарим нашего фюрера!»








