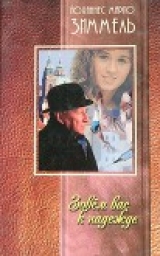
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц)
35
В течение следующих недель большую часть своего времени Линдхаут проводил в Химическом институте. Инъекциями морфия, который он получал от врача Джорджии Брэдли из американских запасов, он прививал мышам зависимость от наркотика. Он должен был убедиться, что его теория была верна и антагонисты, блокируя рецепторы для морфия, таким образом временно снимали его действие. Поэтому одним животным он вводил только АЛ 203, а другим – АЛ 207. Мыши подходили для таких исследований гораздо больше, чем кролики.
Линдхаут был очень занят. Профессор Альбрехт все еще сидел где-то в альпийской долине на западе Австрии, и Линдхаут продолжал руководить институтом. Приходилось решать разнообразные проблемы. Джорджия Брэдли часто посещала Линдхаута. Она помогала в работе и привозила то, что ему требовалось. Вскоре он почувствовал, что его все больше и больше притягивает эта серьезная молодая и симпатичная женщина в больших очках. Фрау Пеннингер заботилась о Труус и занималась домашним хозяйством в переулке Берггассе. Школы еще не открылись. Ежедневно фрау Пеннингер ходила с маленькой девочкой на пункт раздачи питания для детей Вены. Такие пункты во множестве были развернуты во многих местах города, и на Лихтенштайнштрассе тоже. Сотни детей ежедневно получали здесь молочный суп, который им наливали в принесенные с собой емкости, белый хлеб, и иногда – кусок шоколада. Взрослые жили по жалким нормам выдачи продовольствия, которое они по-прежнему получали по карточкам. Рабочие, занятые на тяжелой работе, художники, артисты и ученые были на привилегированном положении; поэтому Линдхаут мог отдавать половину своего пайка фрау Пеннингер.
Обычно Труус около полудня обедала в лаборатории Линдхаута, потому что от Лихтенштайнштрассе до Химического института было всего несколько сот метров, если пройти через район Штрудхофштиге. Фрау Пеннингер и Линдхаут в таких случаях молча наблюдали, как маленькая худая девочка хлебает свой суп…
Однажды около полудня появилась Джорджия Брэдли. Она знала о «раздаче питания» и на сей раз привезла большое количество чудесных, давно забытых вещей. Она заботливо разложила перед Труус на лабораторном столе какао, шоколад, сгущенное молоко, ветчину, арахисовое масло, мармелад, другие сласти, жевательную резинку, консервированные овощи, белый хлеб.
И тут произошло вот что.
Труус, поглощавшая свой суп, отодвинула жестяную миску и враждебно посмотрела на Джорджию.
– В чем дело? – спросила та.
– Мне это не нравится, – сказала Труус. – И ты мне не нравишься! Зачем ты здесь?
– Но Труус, – испуганно сказала фрау Пеннингер, – дама желает тебе только добра, она знает, что дети сейчас получают так мало еды, она любит тебя…
Труус вскрикнула и сбросила миску на пол. Суп брызнул во все стороны.
– Любит?! – завопила Труус. – Меня?! Меня она не любит! Она любит Адриана, и поэтому я ее терпеть не могу! – Она с ненавистью посмотрела на Джорджию и затопала маленькими ножками. – Что ты здесь делаешь? Уходи отсюда! Адриан мой отец!
– Я же не отбираю его у тебя, Труус, – сказала Джорджия, смущенная, как и остальные взрослые. – Я хотела сделать тебе подарок! И еще много подарков! Потому что я люблю тебя, правда!
– А я тебя – нет! – закричала Труус. – И мне не надо подарков от тебя! Оставь Адриана в покое! – От волнения ее голос прервался. – Адриан и я – мы всегда вместе!
– Я знаю это, Труус, – сказала Джорджия. – И я хочу, чтобы все так и оставалось.
– Ты врешь! Ты не хочешь, чтобы все так оставалось! Ты хочешь быть вместе с ним!
Джорджия сильно покраснела и стала нервно поправлять очки.
Онемевший Линдхаут стоял рядом. Фрау Пеннингер взяла Труус за руку и сказала:
– Ты вела себя просто отвратительно, Труус! Сейчас же извинись перед дамой!
– Нет!
– Ты извинишься!
– Никогда! Никогда! Никогда! – кричала Труус.
– Труус! – резким голосом произнес Линдхаут.
– А тебе… тебе я тоже больше не нужна! – Труус с плачем выбежала из лаборатории.
– Извините… – запинаясь, сказал Линдхаут. – Что это с ней случилось? Какая муха ее укусила?
– Ах, – сказала фрау Пеннингер, – девочка просто ревнует… – И она заторопилась, чтобы пойти разыскать Труус.
Линдхаут схватил какую-то тряпку и взглянул на Джорджию.
– Дети очень хорошо все чувствуют… – сказал он.
– Да, – в карих глазах Джорджии засверкали искорки. – Исключительно хорошо, Адриан. – Она взяла у него тряпку. Когда их руки при этом соприкоснулись, его словно ударило током.
36
– «До скончания времен…» – пел Перри Комо в микрофон, стоя перед оркестром. «Рейнбоу-клаб» был переполнен.
В этот вечер 1 сентября 1945 года американские солдаты со своими «фройляйн» танцевали на освещаемой снизу большой квадратной площадке, как и старшие американские офицеры со своими венскими подругами. Все они были приглашены Перри Комо, одной из крупнейших звезд американского шоу-бизнеса того времени.
– «…пока звезды на голубом…»
Мягко и нежно пел Перри Комо, мягко, нежно и мелодично звучала музыка. В те дни американских звезд можно было слышать по радио, видеть на сцене или в кинофильмах повсюду в мире, где были размещены американские войска. Они играли, танцевали и пели, эти мастера своего дела. В «Рейнбоу-клаб», большом заведении на Лерхенфельдерштрассе, были виски, ром и кока-кола, сигареты, шампанское, хорошая еда и большая стоянка для автомобилей на огромном, очищенном от руин пространстве.
Джорджия, приехавшая сюда вместе с Линдхаутом, собиралась припарковать здесь свой джип. В то время как она пыталась это сделать, к ней подбежал какой-то человек и с ревом обрушился на нее:
– No, no, no, this только для офицеров! Прочь отсюда, get away, you!
Он был в синей американской форме и пластмассовом шлеме с черными буквами «CG». Это означало «Civilian Guard» – что-то вроде «Гражданский охранник».
– Герр Пангерль! – Линдхаут растерянно моргал глазами.
Кривобокий маленький человек, заметив его, испугался, но сразу же дружелюбно ухмыльнулся:
– Езус, господин Линдхаут! Да, вот это радость! Мое почтение, господин доктор, целую ручку, сударыня.
– Что вы здесь делаете? – спросил Линдхаут.
– Ну… я гражданский охранник, господин доктор. Вот уже месяц. Замечательная работа! Американцев не сравнить с русскими, нет! Самым большим разочарованием в моей жизни было, когда я понял – господин доктор может мне поверить, – что у русских нет никакой демократии. Поэтому меня там больше ничего не держало! Я демократ! Мне нужна свобода! За что же я тогда боролся с тридцать восьмого? О боже, я только сейчас заметил, что госпожа майор! Тысячу извинений, госпожа майор, я сразу не мог этого разглядеть. Конечно, вы можете здесь парковаться, подождите, я помогу вам… направо… еще раз направо, да-да, так хорошо, а сейчас сразу налево – великолепно! – Пангерль сиял. – Какая честь для меня, госпожа майор! Не беспокойтесь! Ваш джип я возьму под особую охрану! Вы даже не знаете, как мы, венцы, счастливы, что сейчас здесь американцы, госпожа майор. Вы ведь говорите по-немецки? Я так и подумал! Такая радость! Нет, действительно! Наконец-то порядок и спокойствие царят в нашей Вене, я имею в виду – в западных секторах. Особенно в американском! Раньше была неопределенность – страшное дело, скажу вам, страшное! И когда работали на русских – что за это получали? Ковригу хлеба! Несколько картофелин! И пинок в… извините, госпожа майор! Они сразу же увольняли человека за любую мелочь.
– А у американцев по-другому? – спросила Джорджия.
– По-другому? Разница как между раем и адом, госпожа майор! Как вы думаете, сколько я зарабатываю? А какую хорошую еду я получаю в столовой! – Он шел рядом с Линдхаутом и Джорджией. – Нет, американцы – наши спасители от этих… этих недочеловеков! Я желаю господам чудесного вечера, большое спасибо, госпожа майор, это было совсем необязательно…
37
– «…пока идет весна и будут петь птицы…», – пел Перри Комо. Джорджия и Линдхаут, прижавшись друг к другу, медленно двигались в толпе танцующих. Она была в форме, он – в синем костюме. Глаза Джорджии сияли.
– «…я продолжаю любить тебя…»
Новая работа держала Линдхаута в своей власти как никогда прежде. Однажды Джорджия сказала:
– Я достаточно долго изучала вас, Адриан. Все, что о вас говорят, оказалось правдой.
– А что обо мне говорят?
– О вас говорят, что ваш духовный мир безграничен, так же как и ваше тело не следует никаким твердым правилам. Что вы спите до тех пор, пока вас не разбудят, и бодрствуете, пока вас не пошлют в постель. Вы голодаете, пока вам не дадут поесть, а потом едите, пока вас не остановят!
Они посмеялись. Линдхаут снова стал серьезным:
– Да, приблизительно так. Эта история с антагонистами… У меня такое чувство, что здесь я нащупал только начало очень серьезного дела…
– Тем не менее это не может так продолжаться! Теперь я буду присматривать за вами, – сказала Джорджия.
Этим вечером она подъехала на своем джипе к институту, чтобы подвезти Линдхаута в переулок Берггассе. Она ждала внизу, пока он умоется и переоденется, и сейчас они танцевали в «Рейнбоу-клаб», где пел Перри Комо…
– «…до скончания времен, пока в мае цветут розы, моя любовь будет все сильнее с каждым днем…»
– Вы великолепно танцуете, Адриан!
– Я вообще не умею танцевать! Вы великолепно меня ведете, вот в чем дело!
Он был счастлив.
Оркестр заиграл в полную силу. Громко и страстно зазвучали скрипки.
– Какой замечательный вечер, Адриан!
– Да, Джорджия.
– «…пока не иссякнут источники и не исчезнут все горы…»
– Вы когда-нибудь любили? – спросила Джорджия.
– Да, – ответил он. – Я был женат. Но моя жена погибла. Гестапо… – «Рахиль, – подумал он в толпе веселящихся людей, – Рахиль, как я тебя любил! Но это было так давно. И моя любовь к тебе далека, как за дымовой завесой». – Он услышал голос Джорджии:
– Я тоже была замужем. Мой муж погиб на Тихом океане. И это тоже было давно, Адриан. Очень давно…
– «…я буду рядом, чтобы заботиться о тебе в горе и радости…»
– У меня больше нет никого на свете, Адриан.
– И у меня никого, Джорджия.
– Нет. У тебя есть Труус.
– О да, Труус… – Он крепче прижал ее к себе.
– «…поэтому возьми мое сердце в сладкий плен…»
– Нам будет трудно поладить с твоей дочерью, Адриан.
– Боюсь, что да.
– Она любит тебя. А меня ненавидит.
– Она ребенок, потом она научится все понимать.
– Надеюсь, Адриан.
– «…и нежно скажи, что я тот, которого ты любишь, и давно…»
– Потому что, знаешь… я тоже люблю тебя. Очень, Адриан.
– И я тебя, Джорджия.
– «…till the end of time…»[27]27
…до скончания времен… (англ.)
[Закрыть] – пел Перри Комо. Оркестр завершил песню. Посетители с воодушевлением захлопали звезде. Кланяясь, он увидел двоих, которые, казалось, ничего не замечали вокруг и, тесно прижавшись друг к другу, целовались.
Около двух часов ночи Джорджия привезла Линдхаута домой в Берггассе.
– Хочешь подняться? – спросил он, смущенный как школьник.
Она покачала головой.
– Почему нет, любимая?
– Все должно происходить медленно и красиво… У нас есть время, Адриан… Сейчас я здесь только из-за тебя… Будем терпеливы, ладно?
Он кивнул.
– Это будет большая любовь – till the end of time, – сказала Джорджия.
– Да, – сказал Линдхаут, – до скончания времен.
Машина тронулась с места. Он долго стоял без движения. «Рахиль, – думал он. – Я действительно тебя любил, ты знаешь это. Но сейчас ты мертва, и сейчас я люблю Джорджию. И я знаю, ты поймешь это и не будешь сердиться на меня. Да, я люблю Джорджию», – думал одинокий мужчина на пустынной улице. Когда дома он заглянул к Труус, та крепко спала.
38
В следующие дни к Линдхауту несколько раз приходил комиссар Гролль.
Вольфганг Гролль, человек с каштановыми волосами, широким лицом и густыми бровями над серыми глазами, смотревшими всегда чрезвычайно живо и с лихорадочным блеском, никогда не приходил без предварительного уведомления. Он задавал Линдхауту все новые вопросы, на которые тот не отвечал или отвечал отрицательно, потому что мог отвечать только так. Конечно, полиция все еще ищет убийцу этого Зигфрида Толлека, сказал Гролль, у которого на лбу от истощения часто выступали капли пота. Нет, пока никаких следов. Если бы Линдхаут мог как-то помочь выйти из трудного положения…
Линдхаут не мог.
И тем не менее Гролль приходил все снова и снова. «Я должен был бы бояться его, – думал Линдхаут, – однако он становится мне все симпатичнее и симпатичнее. Почему? Ведь дело не только в том, что он так интересуется моей работой! А этот странный комиссар криминальной полиции вел себя именно так. Он просил, чтобы ему все объясняли, и казалось, что это его тоже захватывает».
– Как такой человек, как вы, попал в Отдел по расследованию убийств? – спросил его однажды Линдхаут.
– Ах, – ответил Гролль с печальной улыбкой, – это долгая история. Сначала я хотел стать биологом.
– Да что вы!
– Да. Мой отец был печником. У нас было большое предприятие. Я и сегодня могу сложить любую изразцовую печь, какую хотите, – и тяга будет отменной, это я вам обещаю. Действительно могу!
– Почему же тогда вы не…
– Предприятие моего отца лопнуло во время экономического кризиса, и в тридцать первом году я был вынужден прервать учебу. Короче говоря, через некоторое время я приземлился в полиции.
– Господин комиссар, – сказал Линдхаут (этот разговор состоялся 10 сентября 1945 года), – извините, но вы выглядите больным. Во время войны вы…
– Да я был ранен, вы угадали. Практически у меня функционирует только одно легкое. Меня заштопали в госпитале.
– Боюсь, недостаточно хорошо.
– Я тоже так думаю. – Гролль понизил голос. – Иногда. Но прошу вас хранить это в тайне, как и я храню нечто, что касается вас…
– Что вы имеете в виду?
– Потом. Я вам потом скажу об этом. Я расскажу вам все. Вы обещаете никому не говорить о моей болезни?
– Конечно… – Линдхаут неуверенно посмотрел на него.
– Даже если я вам скажу, что иногда харкаю кровью?
– Даже тогда. Но ведь что-то надо делать!
– Скоро что-то и сделается, – сказал Гролль. – Предположительно – большая операция, которая законсервирует простреленное легкое.
– Вы говорите о торакопластике?
Гролль кивнул:
– Да. Но не сразу. Знаете, у меня столько дел – я хочу еще многое увидеть и многому научиться. У меня есть план. Дай бог, чтобы моя жизнь была достаточно долгой и чтобы у меня хватило времени осуществить его.
– Что это за план?
– Я собираю материал для книги. Название у меня уже есть. Я хочу назвать ее «Новый человек в новом космосе». – На бледных щеках странного комиссара криминальной полиции проступили красные чахоточные пятна.
– Вы имеете в виду «Космос» Александра фон Гумбольдта? – Линдхаут был поражен.
– Разумеется! – Гролль откашлялся в носовой платок. – Как я себе представляю, это должна быть понятная для каждого книга, в которой будет рассказано обо всем, что сделали современные науки – астрономия, физика, химия, биология и психология, а, вероятно, скоро будет и психохимия – для понимания происходящего в космосе и в человеке, как и для нового образа человека! – Он снова закашлялся.
– Психохимия… – медленно произнес Линдхаут.
– Поэтому я с таким рвением стремлюсь узнать все о вашей работе, доктор Линдхаут! – Гролль стал тихо цитировать:
Скорбь, радость купно
Тонут в грядущем,
Темно идущим,
Но неотступно
Стремимся дале…
– Это стих из «Символа» Гете, – сказал Линдхаут. – Любимое стихотворение моей… дочери! По вечерам я всегда читаю ей по одному стиху – вместо того чтобы молиться вместе с ней.
– Мое любимое стихотворение Гете – это «Ginkgo biloba» из «Западно-Восточного дивана», – признался Гролль. – Вы его, конечно, знаете. Собственно говоря, это любовное стихотворение, однако оно выражает то, что все время занимало Гете: полярность всего сущего, Вселенной, нашего мира, всей жизни, всех форм существующего.
– Именно полярность, – Линдхаута увлекло воодушевление Гролля, – полярность – не дуализм! Дуализм разделяет, делит на две части: здесь черное, здесь белое, или – или. Полярность, напротив, означает чрезвычайное многообразие чего-то неделимого и, несмотря на все противоположности, в конечном итоге единого. Между полюсами перекинуто единство.
– Так и есть, доктор Линдхаут, – Гролль кивнул и рассеянно стал рассматривать подопытных мышей в клетках. – Гете все время занимался полярностью! Полярность в электричестве, например. Разве она четко не показывает то, что так сильно занимает и меня? Если нет «положительного» и «отрицательного», то нет и напряжения, нет тока! Должны присутствовать оба, плюс и минус, чтобы образовалось целое! Или другой пример: как обстоит дело с желанием быть всегда бесконечно счастливым? Это бессмысленное, невыполнимое требование. «Бесконечно счастливым» можно быть только очень короткое время. Быть «бесконечно счастливым» более длительное время, а тем более всегда, будет означать, что человек никогда не был счастлив! Только через несчастье можно познать счастье: возникают напряжение и перепады, возникает целостность! – Гролль сильно закашлялся. Линдхаут увидел, что у комиссара изо рта вытекла струйка крови, а на лбу выступил пот. Но Гролль улыбался. – Полярность! О чем только не думал Гете! Вдох – выдох. Здоровье – болезнь. Счастье – несчастье…
– Систола – диастола.[28]28
Сокращение сердца – расслабление сердца. Вместе составляют цикл сердечной деятельности. – Прим. пер.
[Закрыть] Отлив – прилив. День – ночь. Добро – зло. Земля – небо, – сказал Линдхаут и посмотрел на него.
Тот продолжал:
– Мужчина – женщина. Суставы разгибать – суставы сгибать. Жизнь – смерть. Мрак – свет. Отрицательное – положительное. Агонист – антагонист…
– Что?! – встрепенулся Линдхаут.
– Да! – Гролль засмеялся. – Поэтому я тут у вас и шатаюсь! Вы не ослышались: агонист – антагонист! Вы экспериментируете с антагонистами, которые вы открыли. Но разве были бы какие-нибудь антагонисты, если бы не было агонистов, верно?
– Верно, – сказал Линдхаут. Он внезапно почувствовал, что восхищен этим больным, слабым человеком. – И здесь они должны присутствовать оба, чтобы в итоге дать единство!
– Вот поэтому мое любимое стихотворение – «Ginkgo biloba» Гете. Дерево гинкго родственно хвойным, однако выглядит как лиственное дерево и осенью сбрасывает свои чудесные золотисто-желтые листья. В Китае и Японии его почитают как святыню. – Гролль откашлялся, затем взял карандаш и стал рисовать в своем блокноте. – Посмотрите, вот его листья. Треугольные или веерообразные, с большими лопастями. Средний разрез самый глубокий, он как бы разделяет лист на две половины. Благодаря этому сей странный вид растения и получил свою характеристику – «biloba» значит «двулопастный».
– Да, я видел такие листья, – сказал Линдхаут.
– Мне дерево гинкго встречалось во всех значимых для меня местах, – объяснил комиссар. – В парке Шёнбрунн – в тот день, когда я принял решение стать естествоиспытателем, в парке Бурггартен, где я познакомился со своей женой Ольгой. В день нашей свадьбы. Когда меня забирали в солдаты. И, наконец, в парке госпиталя, где меня более или менее поставили на ноги. – Комиссар сунул руку в карман пиджака. – Я принес вам два подарка, – сказал он и вытащил свой бумажник. – Много лет я собираю такие листья – серебристо-зеленые летние и медвяно-желтые осенние. Несколько дней назад я опять нашел в Шёнбрунне изумительно красивый лист гинкго… – Он бережно вынул лист из бумажника и положил на лабораторный стол. – …и хотел бы подарить его вам.
– Почему именно мне?
– Потому что мне разрешено участвовать в ваших опытах, потому что лист вписывается и в ваши опыты с агонистами, и с антагонистами в духе Гете, которого мы оба почитаем!
– Большое спасибо, – сказал Линдхаут. Затем он спохватился: – Вы говорили, что у вас для меня два подарка!
– Есть и второй. – Комиссар Гролль еще раз опустил руку в карман пиджака. Когда он ее вытащил, в ней оказался пистолет системы «вальтер» калибра 7.65.
– Что это? – спросил Линдхаут.
– Это ваш пистолет, – сказал Гролль, и, когда Линдхаут ничего не ответил, продолжил: – Я знаю, что это ваш пистолет.
– Откуда?
– Я справился в советской комендатуре, где вы провели последние дни боев за Вену. Один капитан, к которому вы тогда обратились, вспомнил: вы забрались на четвертый этаж одного полуразрушенного дома на улице Шварцшпаниерштрассе. Туда, где когда-то была кухня.
Лицо Линдхаута превратилось в застывшую маску.
– Конечно, – сказал комиссар Гролль, – этот капитан не мог сказать, в каких развалинах на Шварцшпаниерштрассе вы прятались от нацистов после пальбы здесь, в институте. Мои люди обыскали все развалины. Это заняло довольно много времени, но в конечном итоге мы нашли ваш пистолет – в кухне, тщательно завернутый в клеенку и спрятанный среди хлама.
Линдхаут не произнес ни звука. «Все, – подумал он, – все кончено».
– Я попросил наших экспертов по баллистике проверить оружие. Нет ни тени сомнения. Шесть выстрелов в Толлека были сделаны из этого пистолета.
Последовало долгое молчание.
Наконец Гролль осторожно спросил:
– Это ведь ваш пистолет, не так ли?
Линдхаут кивнул.
– На нем есть отпечатки ваших пальцев, – сказал Гролль.
– Откуда вы знаете, что это мои отпечатки?
– Я как-то принес сюда стакан, который вы потом держали в руках. Отпечатки совпадают.
– И что теперь будет? – спросил Линдхаут.
– Ничего.
– Как?!
– Теперь не будет совсем ничего.
– Но почему?
– Потому что мне очень высокой инстанцией – не только мне, но и главному комиссару Хегеру и руководителю Службы безопасности – уже давно, еще до того как мы нашли пистолет, было приказано не арестовывать и не предавать вас суду, а дать возможность без помех продолжать свою работу – и закрыть дело Толлека.
– Что это за высокая инстанция? – спросил Линдхаут, который был вынужден сесть.
– Союзная контрольная комиссия по Австрии, – ответил Гролль. – Наибольшим влиянием в ней, естественно, пользуются американцы и Советы. И обе стороны проявляют самый большой интерес к вашей работе. – Он посмотрел на Линдхаута. – Возьмите свое оружие. А мой лист гинкго вы не возьмете?
– Конечно… – Линдхаут чувствовал такую слабость, что был не в состоянии встать. Комиссар Гролль придвинул ему пистолет и положил рядом странный, разделенный на лопасти лист.
– Моему другу-убийце, доказать преступление которого мне запретили, – сказал комиссар Вольфганг Гролль.








