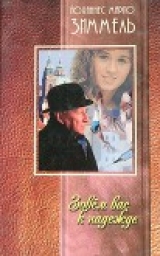
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 52 страниц)
26
Клаудио добрался на своем дребезжащем автомобиле до Груневальда. Прежде чем свернуть на Херташтрассе, он остановился, и они с Труус вышли из машины. Бисмарк-аллее была разделена широкой полосой травы, которая раньше служила дорожкой для верховой езды, на две встречные полосы движения. Прямо на углу Херташтрассе стояли черные ворота. От них широкая дорога вела через парк к огромной вилле времен до 1914 года. Здесь когда-то жила Труус. Дом уже тогда был поделен на несколько квартир…
И вот теперь она стояла здесь и смотрела на парк, на красивую старую виллу и на высокую решетку из кованого железа, которая шла вдоль Бисмаркаллее вниз до моста, через озеро Хубертусзее, поскольку до него и спускались луга парка. Сюда не попало ни одной бомбы. Не изменилось ничего, ни в малейшей степени! У Труус закружилась голова.
– Последний раз я была здесь семь лет назад… – Она покачала головой. – Семь лет назад… потом нам нужно было ехать в Вену, Адриану и мне, – пробормотала она.
В парке цвели каштаны и распустилось много цветов. Напротив, на другой стороне Бисмаркаллее, находилась школа. Сейчас как раз была перемена. Дети резвились на свежем воздухе, кричали и смеялись.
– Все как тогда, Клаудио, точно так же… Там наверху, видишь, я должна была оставаться в мансарде, когда объявляли воздушную тревогу, потому что мне нельзя было спускаться в подвал. Никто не знал, что там была я, – кроме Адриана, тебя, твоего отца и твоей матери. – Она спохватилась: – Прости.
– У нее была хорошая смерть, – сказал он. – Но она умерла слишком рано, слишком рано… – Он коснулся ее плеча. – Пойдем!
Они сели в автомобиль и поехали по Херташтрассе, на которой жил Клаудио. Вскоре Труус стояла перед одноэтажным, построенным в современном стиле домом. За зданием она увидела большой сад.
– Внизу у воды забор. Ты пробирался через него, когда приходил ко мне поиграть, помнишь?
Клаудио кивнул:
– Родители говорили, что слишком опасно идти на угол и звонить в ворота.
– И Адриан тоже так говорил! – Труус посмотрела на него. – Ты проделал дыру в заборе и приходил тайком. Никто никогда тебя не видел. Ах, Клаудио… – Он обнял ее. – Тогда было так страшно – и тем не менее так прекрасно, правда?
– Я думаю, даже в очень страшном всегда найдется и что-то прекрасное, – сказал Клаудио. Он открыл низкие ворота в парк. – Пойдем. Добро пожаловать, Труус, добро пожаловать домой!
27
В последующие недели оба долгими часами бродили по разрушенному Берлину, жители которого сохранили столько оптимизма. Клаудио показывал Труус здания Свободного университета, ратуши в Шёнеберге и много других построек, оказавшихся не разрушенными, – со странной гордостью, как будто все они принадлежали ему! Он отвез ее к озеру Груневальдзее, и они обнявшись бродили по песчаному берегу…
Значительная часть леса в Груневальде была вырублена, некоторые места зияли пнями. Люди мерзли годами, и у них не было ничего, чем бы они могли отапливать дома. Поэтому и были срублены старые деревья. Клаудио с воодушевлением показывал на новые насаждения – нежные маленькие деревца:
– Смотри! Везде снова сажают лес!
– Да, Клаудио! – Труус почувствовала, что в глазах у нее стоят слезы.
Вечерами они часто ездили на Грольманнштрассе. Там в мастерской, до которой можно было добраться только по приставным лестницам, потому что дом был наполовину разрушен, Труус познакомилась с художником Хайни Хаузером. Здесь собирались художники, актеры, декораторы, режиссеры, директора театров, врачи, критики и писатели. У Хайни Хаузера, пожилого, необычайно веселого человека с живыми, веселыми глазами, всегда были самые красивые женские модели, которые здесь же и проживали. В «змеиной норе», как все называли мастерскую с расположенной над ней квартирой, всегда было необычайно весело и вольготно.
Сюда приходили и политики, и ученые, английские, американские и французские офицеры, бывали здесь и Линдлей Фрейзер и Хью Карлтон Грин, которые во время войны вели передачи Би-би-си из Лондона на немецком языке. Гости приносили виски, красное вино, сигареты, консервы, газеты и журналы, книги и пластинки. Ночи напролет велись бурные дебаты. Ах, что это были за разговоры, какая была дружба, какая любовь!..
Труус этого не знала: сейчас, в 1951 году, она испытывала в Берлине то же самое, что ощущал Линдхаут после 1945 года в Вене в течение двух с половиной счастливых лет. Нет, не то же самое! Ни один русский уже не навещал Хайни Хаузера. «Холодная война» уже давно началась.
Труус сразу почувствовала себя своей в этом кругу, как будто была знакома с остальными не один год. С радостью она узнала, что весь Берлин гордится Клаудио. Его любили и восхищались им все, кто с ним работал, – равно как и критика, и публика. Великий Болеслав Барлог пошел на риск и пригласил двадцатиоднолетнего Клаудио на главную роль в «Гамлете» Шекспира – и это была сенсация! Билеты были раскуплены за несколько недель до премьеры. А потом и Труус увидела актера Клаудио Вегнера, друга своего детства, а ныне возлюбленного, услышала, слова Гамлета на сцене: «…я любил, как сорок тысяч братьев любить не могут…» Судорожно сжав руки, она подумала: «И я люблю тебя, Клаудио, только еще сильнее, гораздо сильнее! Теперь я счастлива, наконец счастлива!»
28
После премьеры было большое торжество, а около двух часов ночи Труус с Клаудио поехали к улице Курфюрстендамм.
– Ты хочешь в «змеиную нору»? – спросила она.
– Нет, – ответил он. – Сегодня нет. Сегодня я хочу еще выпить с тобой, только с тобой и с Робертом – больше ни с кем.
– Кто это – Роберт?
– Сейчас ты с ним познакомишься, – сказал Клаудио.
У Роберта Фридманна был вновь открытый бар на Курфюрстендамм. Помещение было выдержано в темно-красных тонах, с маленькими столиками, нишами, танцевальной площадкой и полукруглой стойкой. Здесь было интимное освещение и музицировал один-единственный пианист. Когда Труус вошла, в заведении было еще полно гостей, потому что премьера состоялась в одну из пятниц.
Кто-то узнал Клаудио и громко назвал его имя. Многие сразу же зааплодировали и стали его поздравлять. Он очень смущенно благодарил, и и робко улыбался. Те, кто его поздравлял, были на премьере, так же как и Роберт Фридманн, который, одетый в смокинг, подошел к Клаудио, обнял его и расцеловал в обе щеки.
– Великолепно, мой мальчик, – сказал он, – ты был просто великолепен!
– Ах, да прекрати же, – сказал Клаудио. Он познакомил Роберта с Труус.
– Разве он не был великолепен, дорогая фройляйн? – спросил Роберт и спохватился: – Да что же я болтаю! Пойдемте к стойке! Вы мои гости – и никаких возражений. Что будем пить? Виски! Я получил одну бутылку от культурно-религиозной общины!
– Хорошо, Роберт, – сказал Клаудио.
– Вы очень любезны, – сказала Труус. – Вы так любезны, герр Фридманн.
– Знаю, знаю. Но, пожалуйста, не «герр Фридманн»! Меня зовут Роберт, – ответил он, принимая от платиновой блондинки за стойкой бара бутылку и рюмки.
– За вас обоих, – сказал он, прежде чем они выпили.
Тихо зазвучало фортепьяно…
Роберт Фридманн был коренаст и наполовину лыс. Тяжелые мешки под чувственными глазами, большой искривленный нос – все это в сочетании с постоянно улыбчивым ртом составляло одно из самых благодушных лиц, которое только можно было себе представить. Урожденный берлинец, Роберт с 1933-го по 1946 год вынужден был жить в Лондоне. Дела его там шли очень хорошо, но, как только после войны это стало возможным, он возвратился в Берлин – в Берлин 1946 года: в голод, холод, нищету и развалины.
– …Каждое воскресенье утром, – рассказывал Клаудио о Роберте, – он всегда садится в свой старый «фольксваген» и вместе со своей собакой едет за город на орошаемые поля и час мотается по окрестностям. Потом возвращается в Груневальд – он живет совсем близко от меня – и идет к «Толстому Генриху». Это пивная, где он встречается со своими друзьями – несколькими супружескими парами, одной женщиной и холостяками. Они сидят за большим столом без скатерти, пьют пиво и штайнхегер,[37]37
Сорт можжевеловой водки. – Прим. пер.
[Закрыть] а собака получает свою рубленую котлету.
– Клаудио иногда тоже там бывает, – сказал Роберт, с улыбкой обращаясь к Труус. – Вам обоим обязательно нужно туда прийти! Обещаете?
– Обещаем, – сказал Клаудио. – Знаешь, Труус, когда по воскресеньям Роберт встречается со своими друзьями, они рассказывают ему самые свежие анекдоты, сообщают о последних скандалах и вообще обо всех новостях.
– Это для меня самое прекрасное время из всей недели, – сказал Роберт.
– Да, я понимаю, – сказала Труус.
– Вы умная молодая дама, – сказал Роберт. – Да я вернулся бы только из-за одних этих воскресных часов! В эмиграции я все время мечтал о том, как буду посиживать до обеда в пивной. Для меня нет ничего лучше! Здесь, в Берлине, чувствуешь, что ты на месте, что у тебя есть друзья, что ты не чужой… – Он заметил взгляд Труус и добавил: – Я живу один. Моя жена погибла. Она слишком долго оставалась в Берлине, потому что считала, что никогда не сможет расстаться с этим городом.
– Нацисты? – очень тихо спросила Труус.
Клаудио кивнул.
– Это единственный город, где сегодня еще можно жить, моя прекрасная юная дама, – сказал Роберт Фридманн. Он улыбнулся своей печальной иудейской улыбкой, а мешки под его глазами стали еще темнее.
29
Когда наконец они приехали ночью домой, они легли спать вместе. Уже светало, от легкого ветра ветви больших деревьев скользили по окнам спальной комнаты, а вдали просыпался город.
Руки Труус ерошили волосы Клаудио, дыхание ее стало учащенным.
– Да, – почти задыхаясь, говорила она, – да… да… да…
– Я люблю тебя, Труус!
– И я тебя… и я… сейчас… прямо сейчас! – Тело Труус напряглось. – Сейчас! Ах, Адриан, Адриан…
30
Два дня подряд они не говорили об этом ни слова и были друг с другом подчеркнуто внимательны.
На второй день, когда газеты опубликовали большие критические статьи о премьере «Гамлета», где все без исключения превозносили успех Клаудио, Труус не выдержала. Они сидели в кабинете, на втором этаже. Здесь было большое окно, которое выходило в старый сад с множеством деревьев, цветущих кустарников и цветов.
– Мне ужасно жаль, – сказала Труус.
– Что, дорогая? – спросил Клаудио, сидевший за письменным столом перед горой газет.
Она подошла к нему сзади и положила руки ему на плечи. Была вторая половина дня, сияло солнце, пели птицы, и для майского дня было очень тепло, почти жарко.
– Не надо так… – Труус почувствовала, что ее глаза стали влажными. – Ты же знаешь, что я имею в виду. Пожалуйста, Клаудио!
Он поднял голову.
– Конечно, – сказал он. – Прости. – Он притянул ее к себе на колени. – Я только не хотел говорить об этом… не сейчас…
– Но мы ведь должны поговорить об этом, Клаудио! – По щекам Труус бежали слезы. – И именно сейчас! Так… так дальше не может продолжаться! Я… я люблю тебя, Клаудио! Действительно, на самом деле, пожалуйста, поверь мне!
– Я верю, – сказал он и погладил ее по волосам. – Но, к сожалению, ты любишь и Адриана.
Труус смахнула слезы:
– Ты должен меня понять, Клаудио…
– Я понимаю.
– Да… но неправильно. Я даже не знаю, правильно ли сама это понимаю… – Она прижалась головой к его голове так, что он не видел ее лица, и говорила запинаясь, с трудом: – Адриан… он спас мне жизнь, тогда, в Роттердаме… Он защищал и охранял меня все эти годы… Я выросла рядом с ним… Я всегда могла поговорить с ним… он все понимал… и все прощал… Все, что я знаю, я знаю от него… Тем, кем я стала, я стала благодаря ему… Прости меня, Клаудио, прости… Он не мой отец и не мой любовник, и все же я люблю его как отца и как любовника одновременно…
– Он заменил тебе отца, Труус, – сказал Клаудио. – Между вами должна была возникнуть совершенно необычная связь, по-другому и быть не могло.
– А сейчас? – Труус выпрямилась и посмотрела на Клаудио. – А сейчас? Что мне с этим делать? Эта связь погубит мою жизнь! Ведь я люблю тебя, Клаудио, а Адриан собирается жениться!
– Я совершенно определенно люблю тебя так же сильно, как и ты меня. Для меня никогда не будет другой женщины, на которой бы я женился. Но я хочу сделать тебя счастливой. А пока ты не можешь разобраться в себе, ты будешь несчастной, если сейчас станешь моей женой, Труус.
– Что ты имеешь в виду?
– Только то, что проблемы «Адриан» в наших отношениях не должно быть. Не должно быть вообще никаких проблем, никакой разобщенности, никакого отчаяния или беспомощности, если мы навсегда хотим быть вместе.
– А если эта проблема останется? Если она останется навсегда?
Он покачал головой:
– Каждую проблему можно решить. Только тогда ты будешь все видеть и воспринимать четко. Только тогда ты поймешь, готова ли ты навсегда прийти ко мне. И сможешь ли ты это сделать.
Она вскочила на ноги:
– Это означает, что ты отсылаешь меня?
– Я отсылаю тебя к Адриану, чтобы ты пришла к какому-то соглашению – с ним и с собой…
– Но…
– Сколько это продлится, – сказал Клаудио, – не играет никакой роли. Я же тебе сказал: для меня нет другой женщины – только ты. Я всегда буду ждать тебя.
Они проговорили несколько часов подряд. В конце концов Труус согласилась со всем, что говорил Клаудио. Она уехала на следующий день. Клаудио довез ее до аэропорта Темпельхоф. У заграждения, через которое он уже не мог пройти, они поцеловали друг друга.
– А сейчас иди, – сказал напоследок Клаудио. – И всегда помни: я здесь.
Она молча кивнула и быстро пошла по коридору к лестнице, ведущей к летному полю. Стюардесса, стоявшая перед открытой стеклянной дверью, дала ей посадочный талон. Труус помахала рукой. Клаудио помахал в ответ. Она поспешила вниз по лестнице к самолету, который должен был доставить ее во Франкфурт. По дороге она еще раз посмотрела наверх, на большие окна галереи для провожающих. Там стоял Клаудио!
– Я вернусь! – крикнула Труус.
Он не слышал. Пассажиры, стоявшие рядом с Труус, смотрели на нее с удивлением.
– Я вернусь! Я вернусь! – кричала Труус. И подумала: «А я вернусь?»
31
Летом 1951 года на территории, приобретенной Хаберландом на денежные пожертвования богатых христиан недалеко от маленького города Чандакрона, проживало уже 378 человек, и почти каждую неделю к Хаберланду приходили новые бедняки-индийцы с просьбой принять их и окрестить. Чудесная история об участке земли, на котором все имели достаточно еды, работали и были счастливы, разнеслась быстро.
2 августа 1951 года капеллан – он делал это ежедневно во время обеденного перерыва, – сидя на земле, разговаривал с сидящими вокруг него людьми. Теперь он не только знал каждого из них по имени, но и был осведомлен о его характере, состоянии здоровья и о многом другом. К этому времени Хаберланд более или менее освоил бенгальский диалект членов своей общины. Конечно, он еще не мог говорить на нем свободно, но все понимал и умел выражать свои мысли так, что понимали его. Сидя на влажной жаре в полдень этого дня Хаберланд сказал:
– Вы видите, что к нам приходят все больше людей. Скоро этой земли станет слишком мало. Но не это меня заботит. Мы можем купить новый участок земли – я получил письмо с родины.
Письма Хаберланд всегда отправлял в Чандакроне, и за ответом ему приходилось ходить туда пешком – сюда почта никогда не доставлялась. Он не хотел посылать никого другого, работы и так было слишком много, а дорога была утомительной. Письма и газеты для него хранились на единственном почтамте маленького города, приходили они на адрес: «Капеллан Роман Хаберланд, почтовый ящик 9, Чандакрона, Индия». Лицо Хаберланда, испещренное многочисленными морщинами, загорело, а волосы очень рано стали седеть. Он был здоров и крепок и вместе со всеми работал на полях. Руки его сейчас трудно было узнать – все в шрамах и царапинах, покрасневшие, с сильно выступившими венами, ногти потрескались, хотя он и обрезал их очень коротко.
Старик Сакхи Димнас, с которым Хаберланд беседовал во время своего первого визита в квартал бедноты Маниктолу, ежедневно давал ему уроки бенгальского языка, а в полдень всегда сидел рядом с ним на случай, если Хаберланд подыскивал слова или чего-то не понимал.
– Мы много и хорошо работали, – сказал Хаберланд, – вы знаете об этом лучше меня. Мы посадили овощные культуры, соорудили удочки, изготовили плуги и другие орудия труда, у нас есть ружья для охоты, если нам нужно мясо. Никто из вас не получал денег и не будет их получать, если мы хотим в будущем продавать чай, который мы стали выращивать, а также ценную древесину. Деньги, которые мы получим, пойдут на то, чтобы купить медикаменты, инструменты и машины. Итак, вы видите, что ценятся не деньги, а ваш труд. А теперь мне нужен ваш совет. Эти новые бедняки хотят у нас остаться, потому что слышали, как у нас хорошо. Они тоже хотят стать христианами, причем сразу же. Что вы на это скажете?
Сидящие перед Хаберландом начали тихо переговариваться друг с другом. Наконец Нарканда Фарпинг, молодая и очень красивая девушка-сирота с большими черными глазами и длинными черными волосами, сказала:
– Мои друзья и я думаем, что неправильно сразу же крестить новых гостей. Вы, отец Роман, нас тоже не сразу крестили. Прошло много времени, прежде чем вы сделали это. Сначала мы должны были позаботиться о том, чтобы прокормить самих себя и построить хижину для ночлега. И это было правильно, отец. Иначе бы мы наверняка подумали бы, что Христос лучше остальных богов, в которых верят во всем мире.
Хаберланд, который с самого начала восхищался красотой этой девушки и всегда смущался, разговаривая с ней – особенно, когда она смотрела на него своими горящими глазами, как сейчас, – кивнул и оглянулся на большие поля, где они посадили чай.
– Нарканда права, – сказал Сакхи. – Иначе мы бы подумали, что Христос дает нам есть, одевает и защищает нас от преследователей, воров и убийц, строит нам дома, дает оружие и обеспечивает безопасность. Мы наверняка поверили бы в Христа как в Бога, который сразу же дает все только за то, что в него верят и почитают его. Следовательно, это была бы сделка. Мы же от тебя узнали, что не Христос кормит, одевает и, защищает нас, так как Христос сам был беден и беспомощен, и его убили. Те, кто каждый день приходит сюда, этого не знают. Они думают, что нужно только креститься – и сразу же станешь счастливым. Было бы плохо, если бы они так думали. Ведь мы видели, что воля Христа в том, чтобы человек помогал человеку, а не ожидал, что случится чудо сразу после того, как его окрестят именем Бога.
– Это так, отец, – сказала Нарканда, и снова взгляд ее страстных глаз искал его взгляда. – Подобных чудес не бывает. Если бы они случались, тогда Христос был бы не Богом, а волшебником, а волшебникам не молятся. Они искусные обманщики и артисты, но не боги.
– Стало быть, вы считаете, что все новички, которые приходят, должны сначала долгое время поработать как вы, прежде чем их окрестят?
– Мы считаем так, – сказала Нарканда.
– Я очень рад, – сказал Хаберланд. – Поскольку и я такого же мнения.
– Вот видите, отец Роман, мы думаем так же, как и вы, – сказала Нарканда с улыбкой, глядя на Хаберланда. Он отвернулся – ему трудно было вынести этот взгляд.
32
– Дорогие новобрачные, – сказал служащий ратуши города Лексингтона 15 августа 1951 года, – поскольку я, как положено, поженил вас в соответствии с законами штата Кентукки и федеральными законами Соединенных Штатов Америки, я хотел бы сказать еще несколько слов личного свойства…
Служащий стоял за обтянутым красным сукном столом, рядом с флагом США и под портретом президента Гарри С. Трумэна, в маленьком зале, стены и стулья которого были обиты темно-красной тканью. Перед ним стояли Линдхаут и Джорджия, за ними – свидетель Линдхаута ассистентка Габриэле Хольцнер и свидетель Джорджии профессор Рональд Рамсей. На стульях сидели Труус и уборщица Кэти Гроган. В глубине зала за органом Хэммонда[38]38
Электромеханический орган, созданный американцем Л. Хэммондом в 1935 году. – Прим. пер.
[Закрыть] сидел в ожидании старый человек. – Как я слышал от вашей дочери, дорогой доктор Линдхаут, вы масон. Так вот, я считаю уместным спросить: что такое масонство? Разрешите мне ответить на этот вопрос несколькими цитатами из масонских текстов. Мастер престола, не так ли, доктор Линдхаут, то есть глава масонской ложи, спрашивает перед торжественно собравшимся сообществом: «Брат Первый смотритель, почему мы называем себя масонами?» И Первый смотритель отвечает: «Потому что мы как свободные люди работаем над великим сооружением, достопочтенный мастер». Мастер спрашивает далее: «Над каким сооружением, брат мой?» И Первый смотритель отвечает: «Мы строим храм гуманности». Мастер спрашивает Второго смотрителя: «Брат Второй смотритель, какие кирпичи нам нужны для этого?» И Второй смотритель отвечает: «Кирпичи, которые нам нужны, – это люди!» Мастер спрашивает: «Что необходимо, чтобы прочно связать их друг с другом?» И Второй смотритель отвечает: «Чистая, прекрасная любовь к человеку, братство всех!» Таков текст. – Служащий откашлялся. – Таким образом, символически строится храм человечности. Символом для него является храм Соломона. И строится он людьми как кирпичами – «необработанный камень» повседневного человека в результате труда масона становится совершенным кубом, который легко вставляется в кладку из квадров здания храма, поскольку масоном – так свидетельствует текст – «руководит мудрость, его ведет сила и увенчивает красота»…
Внезапно Линдхаут перестал слышать служащего. Он вдруг подумал: «Такие торжественные слова – в адрес масона, который никогда не был масоном! В адрес человека по имени Адриан Линдхаут, который никогда не был Адрианом Линдхаутом, а был евреем Филипом де Кейзером, да к тому же еще и голландцем, – хотя через некоторое время он, по всей видимости, получит американское гражданство. Еврей из Роттердама – перед протестантским служащим в Лексингтоне. Стоящий рядом с красивой женщиной, с которой познакомился в Вене как с американским военным врачом и родители которой из Геттингена переселились в Соединенные Штаты. За ним стоит тоже красивая, более молодая женщина, которую все считают его дочерью, но которая никогда ею не была, а была дочерью его покойного друга Адриана Линдхаута, имя которого он теперь носит. Только Труус и я знаем правду. Труус… сохранит ли она эту правду в себе? Или она когда-нибудь расскажет, кто я на самом деле? А если она это сделает – будет ли этот брак действителен? Конечно нет. Несмотря на все подлинные фальшивые документы…»
– …захотели не венчания в церкви, а светского бракосочетания, – снова донесся до ушей Линдхаута голос служащего. – И тем не менее, как я полагаю, это бракосочетание религиозное – именно в смысле «религии, в которой все люди приходят к согласию», как это называется в ваших «Древних обязанностях»… – Линдхаут услышал сдавленные рыдания и оглянулся. Это плакала Кэти, миссис Кэтрин Гроган, храбрый сын которой, Гомер, погиб в Корее. Кэти с тех пор очень постарела и стала несколько чудаковатой.
Линдхаут улыбнулся ей, и она улыбнулась ему в ответ. Служащий продолжал говорить:
– …или, следуя определению лондонской Великой ложи – вы видите, я подготовился к этому дню, – масонство рассматривает себя как «самостоятельную систему морали в оболочке из аллегорий, озаряемую символами». Это система, которая учит заниматься благотворительностью, проявлять благожелательность, блюсти чистоту нравов, уважать семейные и дружеские связи, заступаться за слабого, вести слепого, защищать сирот, возвышать унижаемых, поддерживать правительство, распространять добродетель, умножать знания, любить людей и надеяться на счастье… – Служащий сделал небольшую паузу и продолжил: – Поскольку вы оба естествоиспытатели, а вы, дорогой доктор Линдхаут, так почитаете великого Альберта Эйнштейна, позвольте мне закончить эту маленькую речь высказыванием Эйнштейна. Оно звучит так: «Как необычно наше положение в качестве детей Земли! Каждый из нас появляется на свет для кратковременного пребывания в нем. Он не знает для чего, но иногда ему кажется, что он чувствует это. С точки зрения повседневной жизни, без углубленного самоанализа, человек, однако, знает: каждый находится здесь на благо других людей – сначала на благо тех, от улыбки и благополучия которых зависит его собственное счастье, а затем на благо неизвестных, с судьбой которых его связывают узы сочувствия…» Дорогие новобрачные, такого бытия друг для друга и такого счастья я желаю вам от всего сердца. – Служащий поклонился.
В этот момент старый человек заиграл на органе Хэммонда. Линдхаут вздрогнул: он играл «Till the end of time». Вздрогнула и Джорджия.
«В Европе такое было бы невозможно, – подумал Линдхаут, – совершенно невозможно было бы такое в Европе. Но здесь, в Америке…»
Мелодия продолжала звучать – меланхолично, медленно.
Линдхаут взглянул на Джорджию. Ее губы дрожали. Он обнял ее и поцеловал. Затем их поздравили оба свидетеля, и снова были поцелуи и объятия. Поздравила Габриэле Хольцнер, поздравил служащий и, наконец, Кэти, которая снова не смогла сдержать слез. Линдхаут прижал ее к себе и услышал, как она прошептала:
– Последний взнос выплачен, доктор Линдхаут, но мой муж и Гомер мертвы, и я живу в доме совсем одна. Мне так одиноко, когда я не на работе. Хуже всего вечерами.
– Мы будем вечерами часто навещать вас, Кэти.
– Но при вашей занятости…
– Вы ведь тоже очень заняты!
Кэти взглянула на Линдхаута покрасневшими глазами.
– Я глупая старая баба! – сказала она. – На вашей свадьбе – и говорить о доме, о муже и Гомере! Ах, мне так стыдно… иногда… иногда я говорю самые несуразные вещи… Пожалуйста, не обижайтесь…
– Обижаться? – Линдхаут расцеловал толстую женщину в обе щеки. – Я ведь очень хорошо вас понимаю! И все мы счастливы, что теперь вы будете постоянно приходить к нам, – вы ведь будете приходить, Кэти?
– Конечно, доктор!
– Ну и слава богу. А сейчас мы поедем домой и как следует отпразднуем!
Кэти сияющими глазами посмотрела на Линдхаута:
– А я накрою на стол!
– Вы не будете этого делать, Кэти, – сказал Линдхаут. – Сегодня этим занимаюсь я – и никаких возражений!
Кэти рассмеялась, коротко и на одном дыхании.
– Вы накроете на стол?! Ах, доктор… однажды я спросила у своего бедного Гомера, верит ли он, что мир будет лучше после большой войны. Он сказал «да» – и ошибся. Но я не ошибусь, если скажу: теперь, когда вы поженились, мир станет лучше – для меня определенно!
А потом подошла Труус. Она обняла Линдхаута и поцеловала его.
– Счастья, большого счастья, Адриан, – тихо сказала Труус. – Till the end of time!
– Это ты попросила сыграть эту песню? – спросила Джорджия.
Труус обняла и поцеловала ее тоже.
– Да, – сказала она. – Это ваша песня, я знаю. Джорджия, прости мне все зло, что я причинила тебе, и будем друзьями. Ты любишь Адриана, и я люблю его. Ты его жена, я его дочь – а теперь и твоя. Будем держаться вместе, как члены одной семьи, да?
А музыка органа все звучала.
Джорджия смогла только кивнуть. Она выглядела очень бледной. Профессор Рональд Рамсей наблюдал за этой сценой из некоторого удаления. Он стоял неподвижно. Его лицо было серьезным…
– Вот, – сказала Труус, передавая Линдхауту маленький пакет.
– Что это?
– Распакуй! Это принесет вам обоим счастье – навсегда!
Линдхаут снял ленточку, перехватывавшую бумагу, и развернул подарок.
– Ах, Труус! – воскликнул он. – Благодарю тебя, сердце мое!
– И я тоже, – сказала Джорджия.
Подарок, размером не больше пачки сигарет и очень плоский, представлял собой золотой футляр. Слева, под целлулоидом, он увидел фотографию «Розовых влюбленных» Шагала – той литографии, которую подарила ему Джорджия шесть лет назад в Вене. На другой стороне очень мелко были выгравированы угломер и циркуль, а под ними, тоже очень мелко, такие слова:
Путь к посвященью
Равен земному,
Порыв к иному
Равен стремленью
Мужей земнородных.








