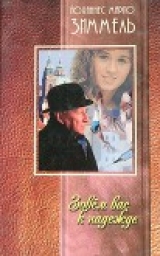
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 52 страниц)
30
– Я восхищаюсь вами, профессор, – сказал Бернард Брэнксом. Его жизнерадостное лицо, его глаза цвета стали за толстыми линзами очков старались источать воодушевление. Член палаты представителей, ныне посредник между службой по наркотикам, американским Бюро по наркотикам, UNFDAC (специальный фонд по борьбе со злоупотреблением наркотиками) и вновь основанным DEA (управление по противодействию наркотикам), сидел на табурете в лаборатории института в Лексингтоне. Он регулярно получал информацию от Линдхаута и Колланжа о продвижении в поисках нужного антагониста, и минимум раз в месяц навещал их. Сначала Линдхаут отказывался принимать его, но главный инспектор Лонжи по телефону настоял на том, чтобы он внешне не проявлял по отношению к Брэнксому никакой враждебности.
– Что же делать, профессор, – сказал Лонжи. – Мы с вами знаем, что он отъявленная свинья. А доказать? Доказать мы ни черта не можем. Нас обоих действительно вышвырнут, если мы еще раз выдвинем обвинения против Брэнксома! Мы должны изменить тактику в этом неприятном положении. Давайте же действовать сообща! Ведите себя так, словно считаете Брэнксома суперамериканцем! Спокойно рассказывайте ему, как далеко вы продвинулись – все равно ведь он об этом узнает: вспомните свою ассистентку Габриэле. Теперь, наоборот, мы должны попробовать вытянуть из этой собаки все, что можно. И мы сможем это сделать, если только все ловко обставим…
Линдхаут согласился с этой логикой. Он дал указание и Колланжу во всех отношениях идти Брэнксому навстречу. Брэнксом, в свою очередь, делал все, что мог, чтобы защищать, поощрять и финансировать научно-исследовательский центр в Лексингтоне. Конечно, хватило бы и помощи со стороны «Саны». Но со средствами, которые Линдхаут теперь, в течение 1974 года, дополнительно получал от Брэнксома, он и его сотрудники могли позволять себе любые траты. На все возражения у Брэнксома постоянно был один и тот же ответ: «Дорогой профессор, по телевидению я торжественно обещал помогать вам и всегда поддерживать вас, насколько это в моих силах. Вы что же, хотите выставить меня человеком, который не держит своего слова?»
Линдхаут и Колланж наблюдали, как устанавливается оборудование для обеспечения безопасности института и всех в нем работающих. Они даже почти привыкли к визитам Брэнксома и разговаривали с ним по-деловому и предупредительно. Когда Линдхаут вдруг чувствовал, что больше не выдержит, он заставлял себя вспомнить слова Лонжи: «Это наш единственный, ничтожный шанс изобличить эту свинью, потому что только так, в атмосфере кажущегося доверия, он может случайно проговориться…»
Снова ожидали визита Брэнксома. Его проинформировали о сложившейся на данный момент ситуации в ходе исследований. Сейчас Линдхаут с Колланжем, а также биохимики и врачи по всему миру проводили испытания нового антагониста, который действовал в течение четырех с половиной недель, но в семидесяти процентах случаев вызывал зависимость. Идея Линдхаута – исключить из этого антагониста факторы, отвечавшие за возникновение зависимости, и увеличить длительность его действия – пока не увенчалась успехом.
Несмотря на это, Брэнксом только что сказал:
– Я восхищаюсь вами, профессор. – И добавил: – Самое главное – не сдаваться! – Он встал, прошелся от клетки к клетке, внимательно рассматривая тех обезьян, которые только что нажали на маленькую клавишу, чтобы получить новую порцию антагониста АЛ 3432 – того самого, который действовал четыре с половиной недели, но, к сожалению, вызывал зависимость.
Брэнксом обернулся и посмотрел на Линдхаута и Колланжа:
– У меня нет хороших новостей для вас, друзья мои. – Он сжал кончики пальцев и хрустнул костяшками. – Мы установили, что с концом «французской схемы» поступление героина в Штаты ненадолго сократилось, не так ли? Но вскоре героин появился снова! Сегодня его контрабандой ввозится больше, чем во времена «французской схемы»! Но теперь мы уже знаем, откуда поступает эта гадость.
– Откуда? – спросил Колланж. Ему легче, чем Линдхауту, давалось обращение к Брэнксому.
– Из Мексики! – Костяшки пальцев хрустнули снова. – Есть новый канал, как выяснили люди из DEA, – «мексиканская схема». Там тоже на огромных плантациях выращивается мак. Свыше семидесяти процентов наркотика поступает оттуда! – Сенатор Брэнксом стал мелкими шагами мерить помещение.
Линдхаут следил за ним отсутствующим взглядом. «Здесь работала Джорджия, – подумал он. – Джорджия – столько лет вместе со мной. Кусты вокруг ее могилы стали такими высокими».
– Свиньи, – сказал Брэнксом, торопливо вышагивая взад-вперед. – Эти глупые, трусливые, эгоистичные свиньи!
– Кто? – спросил Колланж. – О ком вы говорите?
– Обо всех тех медлительных задницах, которые участвовали в основании UNFDAC и пообещали собрать основной фонд в сто миллионов долларов. Знаете, сколько у них сейчас? Чуть больше семнадцати с половиной миллионов! После двух с половиной лет! И четырнадцать из них дали мы, американцы! Посмотрите на немцев, этих детей экономического чуда! Мы вскормили их после войны, мы, идиоты! А сейчас? А сейчас немецкие ведомства вполне открыто заявляют, что считают проблему наркотиков исключительно американской. – Снова хруст костяшек. – Они еще спохватятся! Они еще все спохватятся – не только немцы, но и французы, англичане, итальянцы, все это отродье! А мы? Мы остались такими же идиотами как в сорок пятом году! Мы посылаем этим типам наших специалистов из DEA, мы посылаем их по всему миру, чтобы чужие отделы по борьбе с наркотиками осваивали это ноу-хау!
Брэнксом прислонился к большому столу посредине лаборатории.
Этот стол…
Линдхаут поспешил сесть, сердце его забилось как сумасшедшее. На этом столе они с Джорджией в последний раз любили друг друга в ту ночь подозрений и недоверия. На этом столе… А теперь к нему прислонился этот непобедимый мерзавец…
– Что с вами, профессор?
– Ничего, – ответил Линдхаут. – Голова закружилась… просто неожиданно закружилась голова…
– Боже, вы не должны так надрываться! В вашем возрасте люди особенно уязвимы… во всем… – Брэнксом поспешно подошел к нему. – Вам что-нибудь нужно? Позвать врача? Доктор Колланж, не стойте просто так, сделайте что-нибудь!
«Хемингуэй, – подумал Линдхаут, – Хемингуэй…»
– Не волнуйтесь, – сказал он. – Уже все в порядке.
Брэнксом внимательно разглядывал его:
– Вы уверены?
– Совершенно уверен, – сказал Линдхаут. – И уберите руки, я вполне могу встать самостоятельно.
Брэнксом отступил назад.
«С каким удовольствием ты бы смотрел, как я подыхаю, – подумал Линдхаут. – Но я тебе его не доставлю, нет, не надейся… Ах, Хемингуэй!» Он спросил:
– А что предпринимается против «мексиканской схемы»?
Брэнксом вновь оживился:
– UNFDAC, Бюро по наркотикам, DEA и, конечно, моя служба по наркотикам не сдаются: мы засыпаем правительство все новыми ходатайствами, требованиями и просьбами.
– Какого рода? – спросил Колланж.
– Мексиканское правительство не замешано в этом преступлении. Между нашими правительствами вполне дружеские отношения. Но по сравнению с нами, и не только с нами, Мексика – бедная страна. Мы осаждаем наше правительство просьбами дать правительству Мексики денег, много денег – десять, пятнадцать миллионов плюс самолеты, техников и химиков, чтобы под нашим руководством прочесать все провинции на северо-западе для обнаружения маковых плантаций. Тогда бы с самолетов можно было распылить средства для уничтожения этих плантаций и покончить с маковыми культурами! – Брэнксом вздохнул. – Но пока дело до этого не дошло. Пока нет ни денег, ни самолетов. Но они будут – и скоро! И тогда с их помощью «мексиканская схема» будет уничтожена, как была уничтожена «французская схема». А когда появится третья «схема»… – Хрустнули костяшки. – Как сказал мне мой друг Дэвид Эрнст, американский координатор по проблемам распространения наркотиков в мире, один из элементарных уроков, который мы усвоили, – это тот факт, что как только мы добиваемся успеха в одном регионе мира, проблема снова тут же в другом… – Он снова стал бегать по помещению. – Как дела у Труус, профессор? Что она делает в Берлине? Она здорова? Чувствует себя нормально?
– Вполне нормально, да, – с усилием сказал Линдхаут. – Она начала читать лекции. Я часто говорю с ней по телефону.
– Мои самые теплые приветы! Пожалуйста, передайте ей мои самые теплые приветы и пожелания, профессор. Вы не забудете сделать это, нет?
– Нет, – сказал Линдхаут, – не забуду.
Голос Брэнксома внезапно стал очень тихим:
– Какое счастье, что с Труус тогда ничего не случилось. Вы очень любите свою дочь, я знаю…
Линдхаут почти незаметно кивнул.
– Моя… дочь… в Париже… Ей не повезло, – сказал Брэнксом, снял очки и провел рукой по глазам. – Да проклянет Бог их на веки вечные, этих псов, на совести которых ее смерть. Мы должны бороться дальше, профессор, мы никогда не должны отказываться от борьбы, никогда… – Он опустился на табурет и закрыл лицо руками.
Через несколько часов он вылетел назад в Вашингтон.
Вечером того же дня Линдхаут сидел в гостиной дома на Тироуз-драйв и смотрел в ночной сад. Горел только один торшер, и Линдхаут видел свое отражение в окне. Старая Кэти теперь жила вместе с ним в его доме – она сама попросила об этом. Ей стало неуютно в собственном доме, на который она, ее муж и ее сын Гомер столько работали. Продав его, она перебралась к Линдхауту в качестве экономки. Днем приходила еще одна молодая женщина, которая ей помогала, потому что Кэти с годами стала совсем слабой и чудаковатой. Она как раз вошла в комнату, чтобы сказать Линдхауту, что отправляется спать, как зазвонил телефон. Прежде чем Линдхаут успел подняться, Кэти взяла трубку.
– Да, – сказала она, – да, добрый вечер… – Полуобернувшись, Линдхаут слышал, как дряхлая Кэти с некоторым смущением говорит в трубку: – Дома ли он? Да, он дома. Пожалуйста, кто говорит?… Главный инспектор Лонжи из Нью-Йорка… – Линдхаут поднялся. – Одну минуту, главный инспектор, профессор уже идет, уже идет… – Кэти передала Линдхауту трубку. Он погладил ее по волосам:
– Спасибо и доброго сна.
– Вам тоже, профессор, вам тоже… – Старая Кэти, шаркая, удалилась.
– Лонжи? Что случилось? – спросил Линдхаут.
Раздался голос руководителя Бюро по наркотикам:
– Я только что разговаривал по телефону с Лассалем.
– С Лассалем?
– С главным инспектором из Отдела по борьбе с наркотиками в Марселе.
– А, да-да. И что ему от вас нужно?
– Ничего. Это мне было кое-что нужно от него, – сказал Лонжи. – Уже давно. У него ушло много времени, пока он докопался до правды. Ему чинили бесконечные препятствия в Париже. Но он все-таки добился своего. Он сказал, что ему глубоко безразлично, прослушивается ли наш разговор людьми из SAC или кем-нибудь еще. Нам тоже глубоко безразлично, прослушивается ли наш разговор этой свиньей Брэнксомом или кем-нибудь еще!
– Прекратите, Лонжи, – сказал Линдхаут. – Что выяснил Лассаль?
– Брэнксом всем плачется, что у него была дочь, которая умерла в Париже от наркотиков, так?
– Да. И что же?
– И поэтому он как одержимый борется против наркотиков, все время говорит он, верно?
– Да, боже мой, дальше!
– У него действительно была дочь. Это Лассаль выяснил.
– Ну хорошо. Итак, у него была дочь.
– Подождите, профессор, подождите. Это была внебрачная дочь, ее звали Моник. Брэнксом никогда не был женат.
– Это не играет никакой роли…
– Конечно нет. Но кое-что другое играет роль.
– Что же? Лонжи, не тяните!
– То, что Моник умерла не от наркотиков.
– А от чего?
– От туберкулеза! В больнице Сан-Луи в Париже! Она никогда не ладила с отцом. Она отреклась от него и оставила себе фамилию матери… Это одна из причин, почему так трудно было разыскать ее в архивах. Пошла на панель – как и покойная мамаша. Ну вот, и там подхватила туберкулез – работа в холодные ночи… А в конце – профузное кровотечение… И это было уже очень давно…
– Когда?
– В сорок пятом году, – сказал Лонжи. – Забавно, а?
– О, – сказал Линдхаут, – действительно очень забавно.
31
«Да, именно так я сказал тогда», – подумал стареющий человек в тихой, большой квартире в переулке Берггассе IX общинного района Вены. Сейчас он сидел в своем старом кресле-качалке, куда часто садился, чтобы поразмышлять о какой-нибудь серьезной проблеме в своей работе. Кресло-качалку он нашел в «Доротеуме» – большом ломбарде города, когда вернулся в Вену. Это была любовь с первого взгляда…
17 часов 23 минуты. Календарь на письменном столе показывал 23 февраля 1979 года.
Пока никого.
Все еще ждать. Все еще вспоминать, вызывая в памяти всю жизнь, которая почти подходит к концу, – эта такая удивительно короткая жизнь. Линдхаут держал в руке стакан с виски, но уже давно не пил. В своем слегка подвыпившем состоянии он чувствовал себя комфортно, и его мысли блуждали по дому воспоминаний с многими тысячами дверей.
«Я сказал: „О, действительно очень забавно“, – подумал он сейчас. Конечно, я не имел в виду, что нахожу забавным, как печально закончила свою жизнь внебрачная дочь Брэнксома. Я сказал это, имея в виду цинизм Брэнксома. Моник не была виновата в том, что ее отец был преступником или, во всяком случае, стал им – особо опасным преступником, вполне логично получившим высшую награду своего отечества. Моник, без сомнения, была бедной и несчастной девушкой.
Что значит „бедной“? – подумал он. – Кто не бедный в этой юдоли плача? И все же… и все же, по-видимому, нет ни одного из тех миллиардов на нашей планете, этой молекуле Вселенной, кто хотя бы на короткое время хоть раз в жизни не испытал счастья, счастья в какой угодно форме, – даже самый бедный и никчемный среди людей. У меня было так много счастья, – думал Линдхаут, тихо раскачиваясь взад-вперед. – У Джорджии счастья было меньше, и все же… Кэти, Габриэле, фройляйн Демут, в квартире которой я сижу… совершенно очевидно, что и они были когда-то счастливы в жизни. – Длинный ряд имен потянулся в памяти Линдхаута, столько людей, столько судеб, столько страданий и смерти – но при этом, конечно, и счастья, о, непременно и счастья.
Подлую уловку измыслила жизнь, – думал он, – выдать каждому порцию счастья. Жизнь несправедлива. Взять хотя бы Труус. В тот вечер, я помню точно, в тот вечер, когда позвонил Лонжи и рассказал о дочери Брэнксома Моник, я еще подумал: Труус счастлива, наконец-то счастлива. Ведь она мне все время писала и говорила об этом по телефону. У меня до сих пор сохранились письма, фотографии, я сам был тогда в Берлине и видел Труус и Клаудио…»
Линдхаут рывком поднялся. Его слегка шатало. «Оп-ля, – подумал он, – а я и не заметил, что уже прилично навеселе. Я должен следить за собой, как все бедные пьянчуги, которые боятся что-нибудь не натворить или чтобы с ними не приключилось ничего худого».
Максимально выпрямившись, он осторожно подошел к старому, покрашенному в зеленый цвет ящику, который стоял у письменного стола. Белыми печатными буквами на нем было написано:
«ГОМЕР ГРОГАН,
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО
Дивизия „Солнечный свет“,
армия Соединенных Штатов
Серийный номер 906 543 214»
Ящик доставил Кэти в Лексингтон один из товарищей Гомера. Когда-то в этом ящике Гомер Гроган, славный сын Кэти, таскал свои пожитки по всему миру: из Америки в Англию, оттуда в час «Д» ящик попал во Францию, затем в Германию, из Германии в Корею, а в Корее бедный Гомер Гроган погиб. «Министерство обороны с сожалением вынуждено сообщить…»
Гомер… Был ли Гомер тоже счастлив в своей необыкновенно короткой жизни? Несомненно, думал Линдхаут, покряхтывая опускаясь на колени перед ящиком. Наверняка была какая-нибудь «фройляйн» в Берлине или «герл» где-нибудь еще, или друг, или книга… Столько вещей могут сделать человека счастливым – на такое короткое время…
Линдхаут открыл замки старого ящика. Раньше, кроме одежды и обуви, там лежали различные вещи – наверное, именно с ними было связано счастье Гомера, подумал Линдхаут. Кэти забрала все, что было в ящике, а сам ящик взять не захотела. Она отдала его мне, когда я попросил ее об этом.
Он поднял крышку. Сейчас ящик был набит самыми странными вещами: сотни писем, телеграммы, записки, маленькая кукла, локон волос, динасовый[74]74
Динас – скала в Уэльсе, Англия. – Прим. пер.
[Закрыть] камень, причудливой формы корневище дерева, подобранное на каком-то побережье, измытое морем и поблекшее, пуговицы, бумажные цветы, высохшая оливковая ветка, газетные вырезки, маленькие, примитивно раскрашенные прозрачные изображения на стекле, галька, почетные грамоты, иконы, очки без стекол, резиновая лента, альбом с высушенными и наклеенными на бумагу растениями, игральные кости в кожаном стаканчике, советская звездочка с солдатской пилотки, американский герб с офицерской фуражки, крошечные красные словари, камешки, жестяная посуда, давно пожелтевшие билеты – тысяча вещей, с которыми были связаны тысячи историй…
Все это Линдхаут все годы возил с собой по свету, а теперь этот ящик стоял здесь, у письменного стола, и он долго не открывал его.
Он порылся в горах писем и фотографий, нашел то, что искал, и, вернувшись к своему креслу-качалке, опустился в него и посмотрел на фото.
Улыбающиеся Труус и Клаудио Вегнер стояли перед его домом на Херташтрассе в Берлине. Это был красивый дом, окруженный старыми деревьями. Рука Труус лежала на бедре Клаудио – высокого, стройного, с тонким лицом, с горящими глазами и черными, очень густыми, коротко подстриженными волосами. На нем были застиранные льняные штаны, широкая хлопчатобумажная рубашка навыпуск и сандалии. Так же небрежно была одета и Труус: снимок был сделан в жаркий день – все краски фотографии кричали о том, что в этот день счастья было очень жарко.
Были и другие фотографии, их было много: Клаудио и Труус в зоопарке, перед развалинами церкви поминовения, перед университетом, перед Театром имени Шиллера, Труус у камина в доме Клаудио, спящая Труус, такая умиротворенная, Клаудио в гримерной, Клаудио на сцене – в роли Тассо, Телля, Ричарда III, Клавиго, Мэки Мессера, Лильома…
Фотографии упали на пол, но Линдхаут не обратил на это внимания. Сейчас он держал в руке письма от Труус, читая некоторые фрагменты:
…все так внимательны ко мне… моя первая лекция… большой успех… студенты топали ногами и стучали по столам…
…К. собирается стать известным во всем мире… уже показывал свои фильмы во Франции, Италии и Англии… получил предложения от американцев! С театрами то же самое… заграничные гастроли, ангажементы на многие крупнейшие сцены в Европе… телевидение… радио… Он может принять далеко не все…
…мне очень грустно… этот маленький бар на Курфюрстендамм… они сделали из него отвратительную дискотеку… Мне сказали, что Роберт Фридманн продал свое дело и уехал… Сегодня Клаудио сказал мне правду: Роберт Фридманн умер одиннадцать лет назад! Вообще, он не хотел мне этого говорить… но я все время спрашивала… ведь это был бар, где мы так часто сидели с ним тогда, в 1951 году, ты помнишь, Адриан, я тебе так много рассказывала о Роберте Фридманне. Нацисты убили его жену, а он все время говорил мне, что Берлин – единственный город в мире, где еще можно жить…
…так сильно изменился этот город! Новые проспекты, городские автобаны, стало трудно ориентироваться… несмотря на то, что все новое, современное, красивое, ты ощущаешь нечто смертельно печальное… все время волнения… облавы… церковь поминовения хиппи окончательно загадили… там теперь торгуют наркотиками, как и на станции «Зоопарк»… здесь началось с гашиша, теперь они переключились на героин… на героин, Адриан! Что это, почему Берлин стал центром торговли наркотиками?..
…сидит у моста Халензеебрюке молодой, совершенно опустившийся человек, пьяный, или накачанный наркотиком, или то и другое вместе. Я вижу его постоянно, у него гитара, на которой он бренчит и поет одну и ту же песню – «Ol' Man River», и все время: «I'm sick of living and afraid of dying» – «Жизнь мне осточертела, и я боюсь смерти…» Я несколько раз пыталась заговорить с ним, но он не отвечает… бедняга, бедные люди, бедный город, бедный мир…
…в университете я познакомилась с очень интересным человеком… приват-доцент, синолог, его зовут Кристиан Ванлоо. Я часто беседую с ним… Он много путешествовал по свету, так захватывающе интересно слушать его… он живет недалеко, но часто бывает в разъездах… Тебе нужно познакомиться с этим Кристианом Ванлоо, он тебя тоже заинтересует…
…через две недели у Клаудио премьера, он должен очень много работать, учит текст, я прослушиваю его, репетиции длятся ужасно долго…
…мы так сильно любим друг друга, Адриан – тебе я могу рассказать все: мы хотим остаться вместе. Ты должен приехать сюда, как только сможешь, мне так много нужно рассказать и показать тебе…
Я приехал в Берлин, – вспомнил Линдхаут. – На одну неделю, в начале июля семьдесят четвертого. И было столько всего, о чем надо было рассказать и что показать, – не хватало времени на сон. Ах, как я опять был там счастлив, в этом городе-острове! Меня тронуло, что берлинцы так связаны со своим городом, так срослись с ним… Клаудио… ах, как гордилась им Труус – и по праву! Интересный человек этот Клаудио – я все время вспоминал о том, каким веселым мальчиком он был тогда, в войну…
Когда у Труус начинали слипаться глаза и она в конце концов шла спать, мы сидели вдвоем – этот доцент Ванлоо как раз уехал и я так и не познакомился с ним, – итак, мы часами сидели вдвоем, и за это время я узнал Клаудио Вегнера так, как не знал его никто. Очень серьезный, очень скептический, невероятно образованный – и все время говорит о смерти, снова и снова о смерти!
Я еще помню его слова: «Смерть – это единственное, что нельзя пережить. Поэтому не нужно грустить о времени, в котором тебя уже не будет. Ведь не грустим же мы о времени, в котором нас не было до рождения и которое совершенно определенно было бесконечно долгим, тогда как время после смерти вообще еще только должно начаться, возникнуть, расти, становиться бесконечным…» Странно слышать это от сорокатрехлетнего человека, который собрался завоевать мир, очень странно!








