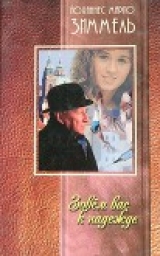
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 52 страниц)
5
Наконец он замолчал. Долгое время было тихо. На стене в тени висела литография Шагала.
– Я не думаю, что Джорджия тебя обманывает, Адриан, – сказала Труус. – Я не говорю, что знаю это. Поскольку ты и сам не знаешь наверняка. Да и откуда я могла бы это знать, если вижу вас так мало. Но я думаю, что ты ошибаешься. Ты несчастен. А я говорю тебе: не будь несчастным, так как того, что делает тебя несчастным, либо вообще не существует, либо никогда не будет существовать, либо еще не существует. Я хочу как философ попробовать отобрать у тебя твой страх и твое несчастье. Есть, как ты знаешь, кое-что, что мучает нас больше, чем должно было бы мучить. Есть другое, что нас начинает мучить раньше срока. И есть многое, что нас вообще не должно было бы мучить.
– Но ты должна была заметить, Труус, что Джорджия даже внешне уже несколько месяцев как изменилась. Она уже столько не смеется – если вообще еще смеется. Она мало говорит, и в большинстве случаев – только когда ее спрашивают. Она больше не интересуется тем, что я делаю и чем всегда больше всего интересовалась сама. Она часами сидит здесь, совсем ничего не делает и совсем ни на что не реагирует.
– Я же говорю, что вижу вас слишком мало, чтобы…
– Ты нас видишь каждые выходные, Труус! Ты видишь Джорджию! Ведь верно, что она тогда часто бывает с совершенно отсутствующим видом, не реагирует или не разговаривает, если вообще не уходит в свою комнату?
Труус медлила.
– Это так?
– Да, – озадаченно сказала Труус.
– Но это еще не все! Мы… мы ни разу за последние месяцы не спали вместе! – Труус пораженно смотрела на Линдхаута. – Я знаю, я не должен говорить об этом с тобой… – Он провел рукой по лбу. – Но ты ведь единственный человек, с которым я могу говорить, Труус! Я ведь знаю тебя с рождения! Ты не моя дочь, но я тебе абсолютно доверяю…
– Ладно, – сказала Труус. – Ты не причиняешь мне никакого душевного дискомфорта, когда так говоришь со мной. Напротив, я очень счастлива, что ты мне так доверяешь, Адриан. Итак, ваши сексуальные отношения нарушены…
– Не по моей вине!
– Кто знает? Женщины – сложные существа. Возможно, ты что-то сделал, что вызвало у Джорджии какое-то торможение…
– Я – определенно нет! – Адриан совсем забыл, что разговаривает о Джорджии с красивой молодой женщиной, которая не была его дочерью, как с психиатром. – Раньше она всегда проявляла активность… Мы всегда очень часто спали вместе, всегда… Все было в порядке… А сейчас у нее якобы постоянные головные боли… она устала… не в настроении… не машина…
– Что?
– Она не машина! Так она сказала! «Извини, Адриан, но я не машина, которую ты можешь включать и использовать, когда это тебе удобно!» – Труус напряженно смотрела на него. Он повторил, что сказала Джорджия: «…я действительно не в настроении… Работа в клинике ужасно изматывает… Мне жаль, но к вечеру у меня просто нет сил… и уж тем более для этого!» – Некоторое время Линдхаут молчал. Потом с горечью сказал: – И так далее, и так далее.
– Ты действительно так плохо знаешь женщин? – Труус удивленно подняла брови. – Все действительно может быть так, как она говорит, – и даже больше! У женщин бывают периоды, когда одна мысль о том, чтобы спать с мужчиной, кажется им просто отвратительной…
– Отвратительно спать со мной?
– Этого я не говорила! Отвратительно вообще. Причин этому может быть много – стресс, расстройства внутренней секреции, возраст… – Труус вздрогнула. – Джорджия, конечно, еще не так стара, чтобы климакс… хотя иногда и он начинается преждевременно.
– Все это вздор – с климаксом, – сказал Линдхаут. – Ты не знаешь Джорджию так, как я… Во-первых, она действительно еще молода… А во-вторых, она всегда была очень… страстной… Если бы что-то было не так с ее гормонами – она, в конце концов, врач, – с ее наклонностями она была бы первой, кто знал бы, как себе помочь… – «Великий боже, – подумал Линдхаут, – что я говорю?» Он почувствовал, что ему стало жарко.
– Послушай, – сказала Труус, – ты и она – вы оба чрезвычайно чувствительные люди. Мне не нужно ничего рассказывать тебе о психике чрезвычайно чувствительных людей. Правда в следующем: ты страшно расстроен тем, что только что случилось с этой АЛ 1051. Ты раздражен, опечален, видишь все в самых черных красках и, поскольку не хочешь себе в этом признаться, ищешь другое объяснение своему состоянию. И ты уже нашел его: Джорджия тебя обманывает!
– Это неправда, я могу очень хорошо различать…
– Нет, – сказала Труус, – именно этого ты не можешь. Я знаю тебя дольше, чем Джорджия. Я знаю, насколько ты раним, насколько ты склонен к пессимизму, к тому, чтобы рассматривать все вещи с их худшей стороны…
«Кто это, кто тут говорит? Это Труус. Труус, которую я оберегал, когда она была маленьким ребенком, Труус, которая всегда хотела праздновать „шведское Рождество“, которая больше всего любила читать „Винни-Пуха“ и тогда, в Вене, спросила у фрау Пеннингер: „А милосердный Бог, собственно, протестант или евангелист?“ Это Труус, которая так по-деловому говорит: „Ты человек, Адриан, которого всегда мучает либо настоящее, либо будущее“! – думал он. – Это говорит Труус. Труус, которую я еще вижу перед собой, вижу, как она с горящими глазами восхищается рождественской пирамидой с позолоченными жестяными ангелами и колокольчиками. Это говорит Труус? Жизнь… Как быстро она прошла!»
– …я знаю, ты думаешь: даже если сейчас все в порядке, это не имеет никакого значения, но «это» придет… «это»… не важно, что: война, катастрофа, то, что Джорджия тебя обманывает… тебе просто необходимы проблемы! Ты дошел до того, что думаешь: «это» уже произошло! А это совершенно безосновательно! – Труус наморщила лоб. – Я не знаю, как так случается, что безосновательное тебя – не только тебя, а всех людей твоего сорта – ошеломляет и делает несчастным больше, чем небезосновательное. Предположительно это так: истинное можно измерить и оценить по его значимости. Ты – извини, дорогой Адриан – за эти многие годы, в течение которых ты работал над своими антагонистами, стал другим, не таким, как прежде. Ты, утрированно говоря, счастлив только тогда, когда ты несчастлив! Если в наличии нет того, из-за чего ты можешь быть несчастлив, тогда ты себе выискиваешь это. Ты несчастен из-за безуспешности своей работы, которая держит тебя в плену, от которой ты никогда не откажешься, потому что не можешь. Потому что ты одержимый! Тут все ясно. Сейчас ты ищешь дело – не сознательно, бессознательно, конечно, – которое не имеет ничего общего с твоей работой, потому что ты любишь эту работу, потому что она – твоя жизнь. Так вот, ты ищешь дело, из-за которого ты по праву можешь быть несчастным. Ты хочешь быть несчастным! A tout prix![39]39
Во что бы то ни стало (фр.). – Прим. пер.
[Закрыть] Тебя раздражает, что профессиональные неудачи угнетают тебя. Ты должен иметь перед самим собой другое обоснование. Пожалуйста: Джорджия! Она обманывает тебя! Она любит другого! Она спит с другим – и поэтому больше не спит с тобой! Ты убеждаешь себя в этом! Правды в этом нет никакой! Но тебе нужен этот страх, это несчастье!
Он посмотрел на нее, словно никогда еще не видел. В голове у него все смешалось. Он слышал, как Труус продолжала:
– Если ты боишься всего, чего только можно бояться, тогда ты, в конечном итоге, дойдешь до такого состояния, что скажешь: моя жизнь не имеет никакого смысла!
Удивленно уставившись на нее, он ответил:
– Если ты права со своим анализом моего характера – что мне тогда делать?
– Взять себя в руки, Адриан! Быть разумным! Иначе ты пропадешь! – Труус села на спинку дивана и прижалась к нему. – Послушай, из всего того, перед чем мы испытываем страх, нет ничего настолько очевидного, что не могло бы стать еще более очевидным, иными словами: того, перед чем мы испытываем страх, не существует вовсе! Даже когда ты думаешь, что у тебя есть доказательства для оправдания своего страха – сейчас ты прямо-таки жаждешь того, чтобы к твоим трудностям на работе прибавилась еще и неверная Джорджия, – даже тогда надеждой отгоняй от себя этот якобы оправданный страх.
– Хорошо, госпожа доктор, – сказал он. И снова почувствовал сладкий аромат ее тела.
– Не смейся надо мной, Адриан. Это «издержки профессии» заставляют меня так говорить. Проверяй все предельно точно, надежду и страх, всякий раз, как только что-то становится сомнительным, как сейчас, например, по крайней мере, в твоих мыслях. Даже если ты считаешь, что у тебя больше оснований для страха, вынуждай себя – да, вынуждай себя верить в добро! Установлено, что большинство людей – и ты тоже, Адриан, да! – всю свою жизнь опасаются того худого, чего нет и чего даже не следует ожидать. Поскольку никто не сопротивляется самому себе – посмотри на себя, – раз уж он начал чего-то бояться, он никогда не объясняет свой страх истинным положением вещей…
Линдхаут опустил голову:
– Возможно, ты и права. Я раздраженная развалина…
– Уже поздно. Поезжай в клинику и смени Джорджию. И верь мне! Никто не знает тебя так, как я!
Он встал. Труус тоже поднялась, и их тела опять соприкоснулись.
Он почувствовал, что испугался.
– Спасибо, – сказал он. – Ты мне очень помогла, Труус. Бог мой, какая ты взрослая! – Он поцеловал ее в лоб. – Еще раз спасибо!
– Прекрати, – сказала она. – Со мной ты всегда можешь все обсуждать, ты же знаешь это. Мы ведь так долго вместе. Ты найдешь нужный антагонист, поверь мне! – Она поцеловала его в щеку. – Если тебя что-то гнетет, всегда приходи ко мне.
– Да, Труус, – сказал Линдхаут.
Когда пятью минутами позже он сел в автомобиль и медленно выехал на Тироуз-драйв, Труус стояла у окна и со странной улыбкой смотрела ему вслед. Но он этого не знал.
6
Улицы были пустынны. Пахло жасмином. «Что за чудесная девушка Труус, – думал Линдхаут. – Какая умная, какая любящая и заботливая. Совершенно определенно Джорджия меня не обманывает!»
Он свернул на улицу Хэрродзберг с полосой для более быстрого движения транспорта, опустил боковое стекло автомобиля и почувствовал на лице сильный поток ночного ветра. На Стейт-стрит полоса закончилась. Подъезжая к институту, он снизил скорость. Некоторые окна были освещены, но коридоры были пусты. Шаги Линдхаута гулко звучали в тишине. Он подошел к помещению с обезьянами. К его удивлению, свет там не горел.
– Джорджия! – крикнул он.
Никакого ответа.
– Джорджия! Джорджия… где ты?
«Что случилось, – сразу подумал он, крайне обеспокоенный. – Неужели я был прав? Джорджия ушла, потому что посчитала, что до полуночи я не приеду? Чего доброго, она…»
В соседнем помещении вспыхнул свет. Он посмотрел на раскрытую дверь. Там стояла совершенно обнаженная Джорджия. Линдхаут молча уставился на нее. В свете, падающем с противоположной стороны, он не мог рассмотреть ее лицо. Она медленно подошла к нему, откинулась на спину на большой стол лаборатории и протянула к нему руки.
– Иди ко мне. – Ее голос звучал возбужденно.
Они любили другу друга на столе с таким неистовством, что Линдхаут слышал, как тяжелым молотом стучит в висках кровь. Они одновременно достигли высшей точки. Джорджия кричала. Голова ее металась по столу. Линдхаут видел ее прекрасное тело, чувствовал, как ее руки подтягивали его к себе. Зубы Джорджии впились в его губы. Он почувствовал кровь, теплую и сладковатую. Они любили друг друга больше часа. Наконец Джорджия соскользнула со стола.
– Спасибо, Адриан, – сказала она.
– Спасибо – за что?
– За то, что ты так сильно меня любишь, все еще как в первый раз.
– И ты меня, – сказал он, словно находясь в трансе.
– Я – больше, – сказала Джорджия, – я люблю тебя больше, гораздо больше, чем тогда… за все. – Босая, она пошла в соседнее помещение. – Мы всегда будем любить друг друга, – обернувшись, сказала она. – Till the end of time!
Он слышал, как в расположенной рядом ванной комнате шумит вода. В тяжелой оцепенелости он прислонился к стене. «Еще несколько часов назад я был уверен, что Джорджия обманывает меня, – подумал он. – А теперь…»
Животные в клетках спали, царила полная тишина. На улице, в ветвях деревьев, шумел ветер. «Труус была права, – подумал Линдхаут. – Я буду работать дальше… до самой смерти, и до самой нашей смерти мы будем любить друг друга, Джорджия и я…»
Он вздрогнул от неожиданности, когда вспыхнул электрический свет. Перед ним стояла полностью одетая Джорджия. Она подошла к нему с какой-то бумагой в руке и поправила очки.
– Что это? – спросил Линдхаут.
– Таблица. Две трети обезьян, нажав на клавиши, снова сделали себе инъекции, – сказала Джорджия. – Здесь стоит точное время по каждому животному… Мне так жаль.
– Почему? – Он засмеялся. – Может быть, АЛ 1052 не будет вызывать зависимости и будет действовать семьдесят два часа как антагонист! – Он обнял ее. – Поезжай домой, – сказал он. – Поздно. Береги себя.
– А ты – себя, Адриан, – сказала Джорджия. – Если с тобой что-нибудь случится раньше, я наложу на себя руки.
– Что это за… – начал было он, но она уже ушла. Он просмотрел цифры в таблице, и, не одеваясь, стал бродить от клетки к клетке. Он слышал, как внизу на стоянке захлопнулась дверца автомобиля. «Джорджия», – подумал он. Но мотор не запускали. Все было погружено в полную тишину. Он удивился. Может, она решила отдохнуть несколько минут? Когда через десять минут он так и не услышал шума мотора, Линдхаут забеспокоился. Он торопливо оделся и побежал вниз по лестнице к выходу. В свете фонаря он увидел автомобиль Джорджии. Ее голова лежала на рулевом колесе, которое она обхватила обеими руками.
Он испугался. С ней что-нибудь случилось? Потом он успокоился. «Она спит», – подумал он. Линдхаут тихо подошел к автомобилю, чтобы позвать Джорджию, но вдруг увидел, что тело ее резко и непрерывно сотрясается. Что это? Джорджия плакала. Она плакала очень сильно, он слышал ее всхлипывания. Она, которая совсем недавно задыхалась от страсти в его объятиях, теперь сидела здесь и отчаянно плакала.
Линдхаут окаменел.
Он хотел открыть дверцу и спросить Джорджию, что ее так потрясло, но не решился. Он стоял рядом и слушал, как она плачет. Она рыдала навзрыд, как если бы только что узнала о смерти самого любимого человека на свете.
Почему Джорджия плакала? Почему?
Она слегка повернула голову. Быстро отступив назад, он сел на скамейку под старым деревом за автомобилем и стал ждать. В этот момент в нем снова ожили подозрение, страх, отчаяние. Что сказала Труус? Что он ничего не понимает в женщинах или что-то в этом роде? А может, он прав в своем недоверии? Нет, нет, нет? Они обе – против него? У них есть какая-то тайна?
Полчаса спустя заработал мотор, загорелись фары и Джорджия быстро выехала со стоянки на улицу.
Совершенно обессиленный, он сидел на скамейке. В голове вертелась одна-единственная мысль: что все это значит?
Ночь была теплая. Линдхаут просидел на скамейке целый час. Потом он поднялся и, шатаясь как подвыпивший, пошел назад в институт. Он присел на угол стола, болтая ногами, и стал судорожно размышлять: «Что мне делать? Что я могу сделать? Что я должен сделать?»
Только когда забрезжил рассвет, он наконец пришел к единственно возможному решению. Теперь он знал, что ему делать, что он должен был делать. Это отвратительно, но другого пути не было. Линдхаут встал, полистал телефонную книгу, нашел то, что искал, записал название, адрес и номер телефона одного частного сыскного бюро.
7
– Боже, Тебе присуще всегда являть жалость и сострадание; поэтому смиренно взываем к Тебе о душе рабы Твоей, которую Ты ныне призвал из мира сего… – молился капеллан Хаберланд, стоя перед открытой могилой, окруженной множеством людей. Это происходило 25 августа 1954 года в новом «Божьем государстве», которое Хаберланд создал вместе с беднейшими из бедных в одной области недалеко от города Чандакроны. Первоначально выкупленная у индийского государства область тем временем во много раз увеличилась благодаря покупке новых земель. А число 221 – столько человек последовали за Хаберландом в сентябре 1950 года – оказалось незначительным по сравнению с 3814 бедняками, которые теперь осели на этих землях. Все поля давали урожай всевозможных овощей и фруктов, но прежде всего чая. Его многочисленные, тщательно ухоженные кусты достигли почти полутораметровой высоты. Посадку произвели сразу же после образования «Божьего государства». Теперь урожай можно было собирать круглый год. С промежутком в восемь-десять дней снимались почки и два-три листа вокруг почек.
Урожай покупала одна английская компания с резиденцией в Калькутте. Другая компания покупала ценные породы деревьев, которые рубили в лесу. Дела у людей, которые нашли здесь новый дом, шли хорошо. Они были счастливы и, работая, смеялись и пели…
Хаберланд говорил над открытой могилой маленького кладбища на краю поселка, где уже были похоронены одиннадцать человек, среди них и старый Сакхи Димнас, который первым заговорил с Хаберландом и служил ему переводчиком, когда тот перебрался в Маниктолу. У Сакхи был счастливый конец.
В тот день он вышел на поля, где уже пробились первые нежные побеги, превратившиеся теперь в такие крупные чайные кусты.
– Это самый чудесный день в моей жизни, – сказал он тогда Хаберланду. На следующую ночь он умер во сне. Обнаружили его утром. Уже мертвый, он улыбался. «Сердечная недостаточность», – констатировал врач из Чандакроны, который теперь регулярно приезжал сюда.
Сейчас этот врач стоял рядом с Хаберландом.
– …не выдавай рабу Твою Нарканду Фарпинг в руки врага, не предавай ее вечному забвению, дозволь святым ангелам поспешить ей навстречу и препроводить ее к вратам рая…
День выдался особенно жарким. Пот крупными каплями выступил у Хаберланда на лбу, и он почувствовал себя совсем скверно. «Это ложная молитва и ложные похороны для самоубийцы, – думал он, вначале подавленно, а потом упрямо. – Она никакая не самоубийца, она умерла из-за любви! – Продолжая говорить, он вспоминал красивую черноволосую девушку с горящими черными глазами, которая с самого начала почитала его как Бога. – Нет, – думал он, – не как Бога, а как мужчину…»
– Она уповала на Тебя и верила в Тебя; потому да не испытает она мук ада, но насладится вечным блаженством; через Господа нашего…
«Действительно ли она верила в Бога? – думал Хаберланд, превозмогая головную боль. – Или все это было только ради меня? Или она верила только в меня, в Хаберланда? Как она проводила все это долгое время, – размышлял капеллан, молясь и читая вслух отрывки из Первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. – Она всегда была поблизости от меня. Она оказывала мне любые услуги – без просьбы, без обращения. И всегда с отчаянием смотрела на меня своими пылающими глазами. Как она могла пережить все эти годы?»
– …не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды…
«Она не „умершая“, – думал Хаберланд, – и все это знают. Но кто еще скорбит о Нарканде, кто? Как часто я говорил с ней? Как можно меньше. Куда бы я ни ходил, и когда я читал в хижине, и когда бывал в поле – Нарканда всегда была поблизости. Она несомненно страдала, но молчала о своей любви ко мне. До вчерашнего дня, до этого четверга в августе пятьдесят пятого…»
…Когда она, не постучав, вошла в его хижину, было уже темно, и Хаберланд при свете керосиновой лампы писал письма в Европу.
– Что случилось, Нарканда? – спросил он.
– Я люблю вас, отец, – ответила она.
– Ты же знаешь – я священник.
– Знаю. И все-таки – что мне делать?
– Ты должна уйти и больше не приходить в мою хижину. Ты никогда не должна говорить мне, что любишь меня.
– Тогда мне придется умереть, – сказала Нарканда.
8
Хаберланд взглянул на красивую девушку – по ее лицу бежали слезы. Он отложил ручку в сторону и сказал:
– Сядь. Я расскажу тебе кое-что, что ты должна знать…
Съежившись, она села на его низкую постель.
– Ты знаешь, я прибыл сюда издалека, – сказал Хаберланд. – Когда я был еще очень молод, лет семнадцати или чуть старше, я ходил в школу в Вене. Это город в Австрии, фотографии которого я вам всем показывал и о котором я много рассказывал. Однажды мне повстречалась женщина, которая была очень на тебя похожа, Нарканда. – Его голос прервался. Он откашлялся. – Такая же красивая… с такими же глазами, с такими же волосами и с такой же улыбкой. Эта женщина сделала из меня мужчину.
– Но вы только что сказали, что вы священник…
– Тогда еще я не был священником. Я даже еще не знал, что буду им. Она была замужем, эта женщина, но уже подала на развод, понимаешь? – Нарканда кивнула. Снаружи, в маленьком высохшем болоте квакали лягушки.
Хаберланд подпер голову рукой, продолжая говорить. Воспоминания о том времени снова нахлынули на него, уводя от реальности. Он все глубже и глубже погружался в прошлое…
Ее звали Эллен. Она была старше его – всего на несколько лет. Поскольку решение о разводе еще не было вынесено, они должны были встречаться тайно – на квартирах его школьных друзей, ее подруг, на вилле в Хитцинге, когда ее муж был в отъезде, или далеко за городом, на открытом воздухе, на опушке Венского леса.
У него, сына крестьянина из-под Зальцбурга, не было собственной комнаты. Он жил в общежитии рядом со школой. Поэтому зимой им было особенно трудно, и поэтому они так страстно ждали каждого нового лета. С такой же страстью они любили друг друга: никто из них не любил другого больше, никто из них не любил другого меньше. Но Эллен была старше, и жизненного опыта у нее было больше. Хаберланд постоянно говорил о женитьбе. Эллен согласно кивала головой и целовала его, но сама никогда об этом не говорила. И однажды, примерно через полгода после того, как было вынесено решение о разводе, он, придя в квартиру одного своего друга, Эллен там не нашел.
– Она была здесь, – удрученно сказал его друг, – но сразу же ушла.
– Куда?
– Этого я не знаю, – ответил его друг. – Она оставила письмо для тебя. Вот оно. Мне нужно идти. Если ты тоже уйдешь, запри, пожалуйста, квартиру и отдай привратнику ключ. Мои родители придут поздно.
Оставшись один, Хаберланд разорвал конверт и прочел письмо Эллен…
Мой возлюбленный, у меня не хватает мужества сказать тебе то, что я должна сказать. Поэтому я пишу. Время с тобой было прекрасным, самым прекрасным в моей жизни, поверь мне. Я уже разведена, да – но как бы мы жили вместе? Где? И на что? У тебя еще нет никакой профессии. У тебя так мало денег. Ты еще такой молодой. Мне стыдно за себя. Я труслива. Я боюсь, что наша любовь умрет в холоде, бедности и ссорах. Пожалуйста, попытайся меня понять. Мы не должны больше видеться. Только так мы можем надеяться, что наша любовь сохранится – в воспоминаниях.
Искать меня бессмысленно. К тому времени, когда ты будешь читать эти строки, я уже покину город, а еще через несколько часов буду уже не в Австрии. Один школьный товарищ предложил мне, раз уж я разведена, приехать к нему. Я знаю, о чем ты сейчас подумал. Это не так. Этот школьный товарищ стал крупным торговцем мехами. В его магазинах есть администраторы. Он предложил мне занять эту должность. Пожалуйста, если сможешь, постарайся не ненавидеть меня, а любить по-прежнему, как и я всегда буду любить тебя. Обнимаю тебя. Эллен.
Прочитав письмо, Хаберланд вышел из квартиры своего друга, тщательно запер входную дверь, сдал ключ привратнику и направился в одно мрачное старое заведение в центральной части города. Там он напился до безумия – в первый и последний раз в своей жизни. Когда он не смог расплатиться, владелец заведения позвал полицию. Руководство школы возместило убытки и в рассрочку вычло эту сумму из карманных денег Хаберланда – правда, сначала припугнув, что его вообще исключат из школы.
Все экзамены на аттестат зрелости он сдал на «отлично». Но что будет дальше, ему было абсолютно все равно. Последующие месяцы он жил как робот, потеряв всякую чувствительность. А потом наступил тот зимний вечер, когда вместе с другими он разгребал лопатой горы снега перед Западным вокзалом: снег шел без перерыва много дней подряд. Город утопал в снежных завалах. Хаберланд занимался этим, чтобы заработать немного денег. Он разгребал снег на Гумпендорферштрассе, на Поясе, на Марияхильферштрассе – оплата была мизерной, и по вечерам у него ныли все кости. Но именно в тот день, именно в то время и именно в том месте Хаберланд разгребал снег перед входом в зал Западного вокзала.
Просигналило такси.
Он обернулся. Автомобиль собирался остановиться на том месте, которое он только что расчистил от снега. Хаберланд отошел в сторону. Шофер открыл дверь. Торопливо подбежали носильщики, чтобы взять вещи из багажника. Из автомобиля вышла женщина. Это была Эллен. Лопата выпала у Хаберланда из рук.
– Ах, Роман, любовь моя, – сказала Эллен с улыбкой, нисколько не удивившись.
Он смотрел на нее. Она очень изменилась. Ее лицо было накрашено по-другому, ее волосы были уложены по-другому, на голове у нее была маленькая норковая шапка, а сама она была одета в норковое пальто и сапожки.
– Что с тобой? Ты не рад видеть меня? – спросила Эллен.
Хаберланд не произнес ни звука.
Эллен повернулась: носильщики что-то спросили ее.
– Спальный вагон в Париж, – сказала она. – Купе тридцать два. Идите вперед.
Носильщики исчезли. Эллен заплатила шоферу такси, и машина уехала.
А снег все падал, и лопаты скоблили булыжную мостовую, и вокруг слышались ругательства и смех. Загруженные снегом грузовики отъезжали, другие, пустые, подъезжали. На Хаберланда и Эллен никто не обращал внимания.
Она обняла его и поцеловала в губы. Напрасно ее язык пытался проникнуть в его рот. Губы его были плотно сжаты. Она посмотрела на него удивленно и даже весело, отступила на шаг и спросила, как у него дела.
– Спасибо, хорошо, – сказал Хаберланд.
– Ты должен простить меня, – сказала она.
Снег ложился им на плечи.
– За что?
– За то, что я ушла.
– Забудем, – сказал он, – тебя не за что прощать. Ты поступила совершенно правильно. Посмотри на меня. У меня все еще практически нет денег, и я все еще не знаю, что мне делать.
– Где ты живешь?
– В общежитии. Но только до весны. Потом я должен буду уйти.
– На что ты живешь?
– Да так, перебиваюсь, – сказал он, заставив себя улыбнуться. – Ты же видишь. Еще я даю уроки латыни, греческого, математики и физики… А как ты?
– Ах…
– Я вижу, у тебя дела идут хорошо. Я рад. Никогда бы не подумал, что администратор в меховом магазине так много получает!
Она опять подошла вплотную к нему.
– Я больше не администратор. Я должна сказать тебе правду, Роман. Потому что и я не могу забыть то время, когда мы были вместе. Это продолжалось так недолго…
– Да, – сказал он, – действительно недолго…
– У моего школьного товарища больна жена. Я не знала этого, когда он позвал меня. Она не может… Я имею в виду, она не имеет возможности быть ему женой. Мой друг порядочный человек.
– В этом я убежден.
– Ему нужна женщина. Это ведь естественно, правда? – сказала Эллен.
Хаберланд кивнул.
– Ну а я его подруга. Он сказал мне, что никогда не подаст на развод. Очень порядочно с его стороны, ты не находишь?
– Очень порядочно, – сказал Хаберланд и подумал: «Когда же наконец она прекратит эту болтовню?»
– И поэтому он меня балует, понимаешь? Он покупает мне одежду и драгоценности, дает мне возможность путешествовать куда захочу…
– Это прекрасно, – сказал Хаберланд. Он поднял лопату, которая выскользнула у него из рук, и оперся на черенок. – А сейчас ты, стало быть, едешь в Париж.
– Да, он купил мне там роскошную квартиру… на Елисейских полях… Не грусти и не обижайся, Роман… Если бы ты тогда не был таким бедным…
Он перебил ее:
– И ты останешься в Париже?
– Только на праздники. Он постарается выкроить время для меня. Потом я поеду заниматься зимним спортом в горы, в Шамони…
– Куда?
– В Шамони, у Монблана. Я уже один раз там была. А потом, подумай только, он подарил мне на день рождения поездку в Америку! Я могу там оставаться сколько захочу. У него там друзья, и их семьи позаботятся обо мне… А после Америки…
Зазвучали голоса из громкоговорителей внутри вокзала.
– Ты должна идти, – сказал Хаберланд. – Твой поезд…
– Да, я должна идти… – Внезапно она снова обняла и поцеловала его. – Прощай, Роман… Разве то время не было чудесным?
А снег все падал на них обоих.
– Тебе действительно пора, Эллен.
– Да, пора. Береги себя. И не забывай.
– Что?
– Нашу любовь.
– О да, – сказал он. – Конечно.
– Никогда не было и не будет большей любви, никогда. Моя жизнь сейчас? Да, сейчас это приятно – а потом? Роман, я любила только тебя, и всегда буду любить только тебя.
– Разумеется, – сказал он. – А теперь иди.
Он смотрел, как она поспешно удалялась, так ни разу и не обернувшись. Он стоял долго. Старший рабочий бригады закричал на него:
– Что случилось? Ты впал в зимнюю спячку? За что тебе деньги платят? Пошел! Вперед!
Два часа, оставшиеся до конца смены, Хаберланд работал как сумасшедший. Потом он получил свое ничтожное вознаграждение и сквозь ночь и снег пешком проделал путь от Западного вокзала до общежития в Хитцинге. Только одна мысль была у него в голове: «Так, должно быть, все выглядит, когда человек мертв. Так, должно…»








