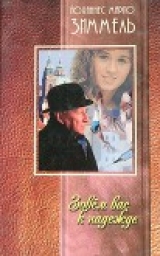
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 52 страниц)
23
Чарльз Дамби споткнулся, потерял равновесие и упал. Он вскрикнул от боли, так как, падая, оцарапал себе лицо и руки. Измученный работой, пятидесятипятилетний Дамби выглядел на все семьдесят. На нем были полотняные штаны, сандалии и старая, изношенная рубашка. 19 августа 1971 года в 6 часов 03 минуты еще стояла приятная прохлада и было абсолютно тихо.
Дамби всю жизнь проработал на ферме «Пеннбрук-фарм». Для него не составляло труда рано вставать: он засыпал сразу и спал крепко, и вообще был человеком очень простого нрава. Владельцы «Пеннбрук-фарм», добродушные люди, предоставили ему небольшой домик рядом с основным зданием, где он мог вести совершенно независимый образ жизни. Чарльз Дамби был честным человеком, добросовестным и богобоязненным. По воскресеньям он пел в церковном хоре. У него был необыкновенно красивый голос – и ни одного живого родственника на свете.
Реки в штате Кентукки текут самыми своеобразными, извилистыми линиями. Они то и дело меняют направление, образуя петли, дуги, а во многих местах текут почти в обратном направлении. Так ведут себя Кентуки, река Элкхорн Грик, Стонер Грик, большие реки и маленькие ручьи, впадающие в них. Очень занятно наблюдать все это с воздуха.
Совсем у истока Стонер Грик, рядом с дорогой Стоуни-роуд, юго-западнее городка, в ностальгическом приливе названного выходцами из Франции Парижем, и неподалеку от еще меньшего городка Аустерлица лежала ферма «Пеннбрук-фарм» с ее строениями и амбарами, хлевами и полями. Чарльз Дамби шел вдоль берега ручья, когда внезапно обо что-то споткнулся и упал. Севернее находился провинциальный город Винчестер, откуда трехполосная автострада вела в Лексингтон, сердце Пырейной области.
– Ну и ну, – пробормотал Чарльз Дамби, поднялся и стер рукой кровь с лица. – Вот идиот…
Предмет, о который он споткнулся, был человеком. Казалось, он спал.
Человек шевельнулся. Это была молодая женщина, выглядевшая, однако, очень старой. На ней был грязный пуловер, еще более грязная юбка и туфли, у которых один каблук почти оторвался. «Бедная бродяжка, – подумал Дамби. – Что же мне с ней…»
Женщина открыла сильно покрасневшие глаза, лицо ее было белее полотна. Когда она увидела Дамби, она завыла как измученная собака. Дамби вздрогнул. Она каталась по твердой земле, сжавшись в комок и дрожа всем телом. «Ведь совсем не холодно», – подумал Дамби, когда склонился над ней. Он услышал, как у нее стучат зубы, – этого звука Дамби не выносил.
– На помощь! – неожиданно закричала женщина и вцепилась в Дамби. – На помощь! На помощь! На помощь!
Дамби попытался вырваться, но женщина держала его мертвой хваткой.
Дамби испугался, когда почувствовал, что ее пальцы сомкнулись у него на шее.
– На помощь! – теперь закричал и он. – На помощь! На помощь!
Он услышал, как возбужденно закудахтали куры, заржали лошади и захрюкали свиньи. Под тяжестью женщины, повисшей на нем не разжимая рук, он рухнул на землю. Невероятным усилием он освободился от ее цепких пальцев и откатился в сторону. Последнее, что он увидел, прежде чем потерять сознание, было высокое светлое небо.
24
Спустя тридцать одну минуту Дамби, моргая, тупо смотрел, как взлетал полицейский вертолет – с этой сумасшедшей на борту! У него и у многих других людей, оказавшихся в этой пустынной местности, перехватило дыхание, их обдало грязью и пылью.
В вертолете врач ввел дико отбивавшейся Труус сильное успокоительное. Ее тело расслабилось, она стала глубоко дышать. Внизу под собой врач видел людей, цепочкой двигавшихся к истоку Стонер Грик. Внезапно появилась еще дюжина вертолетов, осматривавших местность на бреющем полете.
Спасательный вертолет долетел до автострады восточнее Винчестера и приземлился. На обочине стояла «скорая помощь». Лопасти вертолета еще вращались, когда мимо, наклонившись, промчались люди, выгрузили носилки с Труус и понесли их к машине «скорой помощи». Там сидел другой врач. Он посмотрел на Труус с большим сочувствием. Изо рта у нее текла слюна, она спала.
– Истощение нервной системы, причем полное, – сказал первый врач.
– О боже, бедняжка, – сказал второй. Потом повернулся к шоферу: – Давай, Джой! Быстро! Мы должны доставить ее в Лексингтон!
– Свиньи проклятые, – сказал шофер, включая мотор. Через пару секунд «скорая помощь», включив сирену, неслась по автостраде в сторону Лексингтона.
25
В Наркологической больнице Американской службы здравоохранения, как сейчас называлась прежняя Наркологическая клиника, вокруг обессилевшей Труус хлопотали профессор Рамсей и его главный врач Хиллари. В первое время она была очень чувствительна к шуму, много плакала, кричала, отбивалась руками, затем снова погружалась в сон, а во сне говорила путаными фразами.
Небритый и истощенный, Линдхаут сидел у ее кровати и наблюдал за происходящим. Сейчас ему нельзя спать! Он не должен оставлять Труус одну – единственного человека, который был ему еще дорог на этом свете! Линдхаут, не раздумывая, принимал всевозможные стимулирующие средства и ел, не разбирая, все, что ему подавали.
Много людей приходили в палату, где лежала Труус, – в том числе и высокий полицейский чин. Он сказал Линдхауту:
– Мы нашли место, где прятали вашу дочь.
– Где?
– В верхнем течении Стонер Грик, у дороги Спиэр Милл-роуд. Жилое судно, спрятанное в камышах. Это и была ее тюрьма: мы обнаружили проигрыватель, камеру поляроида и каркас кровати – все, что вы видели на фотографиях.
– Разумеется, больше там никого не было, – сказал Линдхаут.
– Конечно нет. Наши люди уже так близко подобрались к убежищу, что похитители – ведь передача уже прошла, и Брэнксом был самым лучшим образом реабилитирован – отпустили вашу дочь, а сами сбежали. Следов этих типов мы пока не обнаружили. Ваша дочь, по-видимому, долго бежала по дороге Спиэр Милл-роуд, пока в изнеможении не рухнула.
Линдхаут кивнул.
– Мы действительно сделали все, что могли, профессор. Я не спал две ночи подряд.
– Спасибо, – сказал Линдхаут, – спасибо вам всем. Пожалуйста, передайте это остальным. Я всегда буду вам благодарен…
Офицер полиции смущенно поклонился и вышел из палаты. В дверях он столкнулся с Колланжем, который как раз собирался войти.
– Так продолжаться не может, господин профессор, – сказал Колланж. – Вам нужно прилечь!
– Нет, – ответил Линдхаут, глядя на Труус, которая вдруг начала плакать во сне.
Непрерывно в клинику поступали цветы – самые большие и дорогие букеты были от Брэнксома. Он и звонил постоянно, чтобы осведомиться о состоянии Труус. Когда он в конце концов сказал, что собирается прилететь на своем самолете, чтобы, как он выразился, в эти тяжелые часы быть рядом с Линдхаутом, у того сдали нервы и он начал бушевать.
– Адриан! – крикнул профессор Рамсей, стоявший рядом с Линдхаутом.
– Эта проклятая свинья еще имеет наглость заявить, что хочет прибыть сюда!
– Я это улажу.
Рамсей прошел в свой кабинет, снял телефонную трубку и сказал:
– Чрезвычайно любезно с вашей стороны, мистер Брэнксом, что вы собираетесь прилететь сюда, но после всего, что произошло, у профессора Линдхаута нервы измотаны вконец. Пожалуйста, откажитесь от вашего визита при всех обстоятельствах – я как врач не могу вам его разрешить.
– Понимаю, профессор Рамсей, понимаю… – Голос звучал раболепно. – Конечно, если дело обстоит так… то, разумеется, я не приеду. Передайте привет профессору Линдхауту. В мыслях я с ним и с его дочерью. Скажите ему, что я молюсь…
– Что вы делаете?
– Я молюсь, чтобы Труус быстро поправилась…
Рамсей повесил трубку и вернулся к Линдхауту:
– Он просил передать, что в мыслях он с тобой и с Труус и что он молится за нее.
– Подлец, – сказал Линдхаут.
26
В течение долгих часов, которые он провел вместе с Колланжем у постели Труус, Линдхаут вновь и вновь говорил о Брэнксоме. Они оба были убеждены в том, что Брэнксом никоим образом не был жертвой интриги, а действительно является боссом «французской схемы».
– С ума сойти! – сказал Линдхаут. – Вот уж действительно – не было бы счастья, да несчастье помогло! У этого преступника, виновного во всех несчастьях, которые случились и еще случатся, – самая высшая награда, которую Америка присуждает гражданским лицам! Неограниченные средства для его службы по наркотикам! Герой нации! – Линдхаут содрогнулся.
– Бисмаркаллее… – Они оба услышали голос Труус и увидели, как по ее лицу скользнула улыбка. – Клаудио… ты приедешь навестить меня… это прекрасно…
Колланж вопросительно посмотрел на Линдхаута.
– Берлин, – сказал тот, – она бредит о Берлине… Мы жили там, когда она была еще совсем маленькой… а ее лучшего друга звали Клаудио Вегнер… Мы жили в Груневальде…
– О!
– Она никогда не забывала о Клаудио, – сказал Линдхаут. – Он стал известным актером. Много лет назад Труус навестила его в Берлине… Они до сих пор переписываются… Клаудио всего на четыре года старше Труус. Он живет на Херташтрассе, за углом…
– Осторожно! – воскликнула Труус. – Никто не должен знать…
– Она сейчас в Берлине, – сказал Линдхаут. Он встал и сделал несколько шагов взад-вперед. У него ныли все кости. – Эти фотографии не были сфабрикованы, это не был отличный монтаж, как предполагал главный инспектор Лассаль… Это были настоящие снимки! Я знаю человека, передавшего их мне, с конца войны! У него работают первоклассные специалисты. Кроме того, он друг одного моего старого друга. Мы все познакомились при освобождении Вены.
– Я ведь видел доктора Красоткина, – сказал Колланж. – В Базеле. Он же приходил в «Три Короля».
– Ах да, – сказал Линдхаут. – При нынешней политической обстановке в мире советскому послу, естественно, не оставалось ничего иного, как приказать представителю заявлять: без комментариев!
– Через дыру в заборе – ты хитер, Клаудио! – сказала Труус.
Колланж вздрогнул, потому что Линдхаут внезапно закричал:
– Теперь мы должны жить с этой заразой! Брэнксом останется боссом «французской схемы». Он будет материально поддерживать нашу работу и заботиться о нашей безопасности, как никогда прежде!
– Его схватят, его возьмут…
– Брэнксома? Как, Жан-Клод, как? Вы знаете содержание телефонных звонков со всей Америки во время передачи! Девяносто один процент зрителей убеждены в том, что это провокация Советов! Девяносто один процент! Единственное, что мог заявить советский посол: без комментариев! Советам бы никогда не поверили! И нам тоже… А если мы дальше будем копаться в этом деле – это конец! Нас обоих либо убьют, либо вышлют. Вы ведь швейцарец, а мне они могут запретить работать. Ловко он это проделал, собака! Все рассчитано до минуты – все! Начиная со стрельбы там, в Базеле. Нет, значительно раньше. С тех пор, как он стал интересоваться моими антагонистами, много-много лет назад. Тогда он разыграл перед нами покушение на свою жизнь… Его самолет взорвался тогда на «пырейном» терминале… а поскольку Брэнксом опоздал, с ним ничего не случилось… Теперь я понимаю… он опоздал с точностью до минуты… Адскую машину установили его люди! Так, чтобы она взорвалась еще перед вылетом. В этом я уверен! Так же, как уверен в том, что его люди стреляли в швейцарских полицейских и в меня в лесу под Базелем. Это они уложили того человека из Марселя и моего телохранителя Чарли, которого именно Брэнксом приставил ко мне. Якобы это были швейцарские снайперы, а на самом деле – убийцы на службе у Брэнксома. «Предатель»… он все время говорил о предателе! Предатель он сам! Он приказал пустить в расход своего человека – Чарли! Этот пес не останавливается ни перед чем, ни перед чем! А мы ничего не можем с ним сделать, ничего!
– Но это же идиотизм! Если кто и должен не допустить того, чтобы был открыт долго действующий антагонист, так это Брэнксом!
– Правильно. Но как босс он должен интересоваться нашей работой. Должен всегда! Возможно, он сразу хотел моей смерти, когда узнал, что я работаю над проблемой антагонистов. Но потом – хитрый мерзавец этот мистер Брэнксом! – он решил, что будет в большей безопасности, если выставит себя этаким непримиримым борцом с наркоманией, создаст свою службу по наркотикам, которая на самом деле работает для «французской схемы», и наконец стал действовать людям на нервы своим фанатизмом. Сейчас он герой Нового Света! Нет, – сказал Линдхаут, – нет, тут ничего не поделаешь.
– А почему же теперь он нас не убивает?
– Потому что это скверно бы выглядело, слишком скверно, Жан-Клод! Теперь вся нация знает о нас, все важные люди знают. Он и не подумает нас убить! Напротив, он надеется, что мы найдем антагонист длительного действия!
– Надеется?
– Да! – Линдхаут снова повысил голос. – Он знает, что поиски антагониста будут продолжаться – живы мы или умрем. У «Саны» есть все результаты исследований – очень ловким ходом с его стороны было втянуть «Сану» в это дело! Кто обвинит этого фармацевтического колосса в том, что он привлекает наркозависимых? Этот человек подумал обо всем. Работа над антагонистами длительного действия продолжалась бы и без нас.
– Но когда он будет найден, этот антагонист, – ведь тогда все должно измениться!
Линдхаут рассмеялся:
– Вы перед этим сказали, что все это идиотизм. Да, это дьявольски гнусно, но это не идиотизм! Когда мы найдем нужный антагонист, Брэнксом разразится криками радости, он будет называть нас гениями и благодетелями человечества!
– Но это же не в его интересах!
– Вовсе нет, Жан-Клод! С тем, что антагонисты существуют, Брэнксом давно смирился. Вы когда-нибудь слышали о герре Койнере?
– Герр Койнер… Кто это?
– Это образ, созданный Бертольтом Брехтом. Брехт написал о нем много историй, совсем коротких. В одной из них этот герр Койнер говорит: «Все может стать лучше – кроме человека». – Что-то бросилось Линдхауту в глаза: – Что это у вас? – Он показал на тонкую золотую цепочку на шее у доктора Колланжа. Покраснев, Колланж достал ее. На ней висела маленькая круглая пластинка из золота, на которой были выгравированы угломер и циркуль.
– Вы… – Линдхаут сглотнул, – вы масон?
– Да, господин профессор.
Линдхаут вытащил из-под выреза своего халата цепочку, на которой висел такой же амулет с теми же символами.
– Вы… тоже? – Колланж не мог говорить.
Линдхаут кивнул. «Нет, – подумал он, – я не масон, им был мой мертвый друг Адриан Линдхаут. Я снял с него эту цепочку – тогда, в обрушившемся подвале, четырнадцатого мая сорокового года, когда был разрушен Роттердам, а мой лучший друг лежал передо мной мертвым. Но об этом никто не должен узнать, никогда!»
– «Символ» Гете, – сказал Колланж.
– Да, – ответил Линдхаут. – Очень вовремя вы об этом вспомнили. – И с горечью он процитировал последнюю строфу этого стихотворения:
Здесь в вечном молчаньи
венки соплетают.
Они увенчают
творящих дерзанье.
Зовем вас к надежде…
– Что… – залепетала Труус, – что, Клаудио… что?
27
– Это совершенно исключено, – сказал капеллан Хаберланд. – Индийское правительство не может этого сделать.
Пятидесятишестилетний монсеньор Симмонс, еще более худой, чем прежде, вздохнул:
– Боюсь, мой дорогой, оно вполне может это сделать.
Этот разговор состоялся 11 ноября 1971 года в рабочем кабинете монсеньора во дворце архиепископа Калькутты. На потолке комнаты вращался большой вентилятор, а Симмонс все время был занят трубкой, табак в которой никак не хотел гореть. С улицы через окна доносился разнородный шум. Все жалюзи были опущены. Хаберланд тоже казался постаревшим, его кожа задубела от солнца, ветра и дождя. Ногти на руках были потрескавшимися, что свидетельствовало о тяжелом физическом труде. Но именно этот труд и сделал капеллана мускулистым и сильным, а его глаза по-прежнему остались молодыми. Он стукнул кулаком по столу.
– Это свинство! – воскликнул он.
– Ведите себя прилично! – Симмонс с раздражением посмотрел на него. – Не забывайте, где вы находитесь! – Он добавил: – Многие годы, проведенные там, в провинции, заставили вас кое о чем забыть.
Хаберланд сжал кулаки.
– Послушайте, монсеньор, – тихо сказал он, – вы попросили меня навестить вас. Вы направили даже телеграмму в Чандакрону, поскольку дело якобы такое важное…
– Оно очень важное, мой дорогой.
– …Я пришел к вам, и вы заявляете, что индийское правительство хотело бы выкупить землю, которую мы у него купили и на которой построили свою общину, а затем восстановили ее. Вы очень хорошо знаете, что она была полностью разрушена ураганом в шестьдесят восьмом году!
– Так и есть, – сказал Симмонс.
– Но почему?
– Потому что вы нарушили договор, – сказал Симмонс, всецело поглощенный своей трубкой. Сзади него на полке стояла коллекция прекрасных трубок – минимум шестьдесят, подумал Хаберланд. Симмонс же продолжал: – Здесь говорится… вот, страница шесть, параграф двадцать четыре, раздел один… Хорошо, что вы принесли с собой договор – его копия лежит передо мной, мы можем сравнить. Так вот, здесь говорится, – Симмонс стал монотонно читать: – «…заключающие данный договор стороны – это вы и индийское правительство – договорились о следующем: если покупатель или кто-либо другой, селящийся на этой земле, будет инициировать и распространять волнения, в какой бы то ни было форме угрожать справедливым интересам соседей, нарушать или не уважать их, или если покупатель или кто-либо другой, селящийся на этой земле, будет осуществлять мероприятия, направленные против законов правительства Индии, то правительство Индии вправе выкупить упомянутый участок земли у покупателя по первоначальной цене приобретения без возможности обжалования этого со стороны покупателя в судебном порядке…» Конец параграфа двадцать четыре, раздел один. – Симмонс посмотрел на Хаберланда.
– Что это значит? – спросил тот в ярости. – Разве мы нарушали законы индийского правительства, разве мы угрожали интересам соседей, инициировали или распространяли волнения?
– Да, к сожалению, – сказал Симмонс.
– Вы в своем уме?
– Ваш тон становится просто невыносимым! Я всего лишь исполнительный орган. Я не требовал возвращения земли. Вы думаете, мне доставляет удовольствие беседовать с вами об этом?
– Да, – сказал Хаберланд.
– Что? – Симмонс встал. – Вы сказали «да»? Как это следует понимать?
– Никак… – Капеллан взял себя в руки. – Конечно, вам это не доставляет никакого удовольствия. – «Еще бы тебе это не доставляло удовольствия, – зло подумал он, – ты ведь меня терпеть не мог с самого начала, с пятидесятого года, с тех пор как я приехал сюда…» – Что мы сделали? – спросил Хаберланд. – Мы мирно работали и счастливо жили, мы продавали плоды нашего труда двум британским фирмам…
– Да, вот именно.
– Что «да, вот именно»?
– Вы продавали чай, древесину и другие предметы двум британским компаниям, – обвиняющим тоном сказал Симмонс.
– Это запрещено?
– Продавать не запрещено…
– Но?
– …но запрещено продавать по демпинговым ценам.
– По каким?
– По демпинговым… дешевле других производителей, оказывая ценовой нажим. Это запрещено. Согласно индийскому закону. А вы делали именно это.
– Это неправда!
– Это правда, и вы знаете это! Вы продавали свои товары значительно дешевле крупных землевладельцев, своих соседей, чьи интересы и права гарантированны. Вы нарушили эти интересы, нанесли им большой ущерб и продолжаете делать это.
Хаберланд тоже встал.
– Монсеньор, – сказал он, – в мире, где очевидно неистребимо царят алчность и подлость, мы продавали плоды нашего очень тяжелого труда по цене, которая не давала никакой прибыли и лишь компенсировала труд наших людей. На этом очень маленьком участке земли понятие «деньги» не знакомо – вы это знаете. Мы обмениваем наши продукты на те, в которых нуждаемся, вот и все.
– К сожалению, это далеко не все, – сказал Симмонс. – Не знаю, что случилось с этой трубкой. Может, забита? Она постоянно выходит из строя. Вы продавали ниже той цены, которая считается установленной.
– Кто установил эту цену?
– Ваши соседи.
– Крупные землевладельцы?
– Да.
– Но мы не крупные землевладельцы! С нами никто не говорил, мы не заключали никаких соглашений…
Симмонс отвернулся, обозленный из-за своей трубки:
– Возьму другую… Конечно, чудовищно, что теперь вы должны возвратить землю государству, мой дорогой, я очень хорошо могу вас понять.
– Неужели?
– Разумеется… Вы дважды обустраивали ее в течение этих лет… более двадцати… А теперь вы должны от всего отказаться. И не из-за циклона или урагана.
– Очевидно, что не из-за стихии! – сказал Хаберланд. – Из-за людей!
– Я не создавал законы этой страны, – сказал Симмонс, занимаясь теперь другой трубкой, которую взял с полки. – Вы, конечно, знаете, что крупные землевладельцы уже несколько лет назад обращались в здешние суды с заявлениями и жалобами, что состоялись процессы в первой и второй инстанции. Теперь решение приняла третья, высшая инстанция – мне жаль, что не в вашу пользу. О, вот видите, а эта тянет как надо!
– А если мы откажемся возвращать землю?
– Вы же так не поступите… Смотрите, вот указание из Рима… Оно для вас обязательно… Земля должна быть снова продана государству. В Риме не желают никаких политических осложнений из-за такой мелочи.
– Мелочь… – Хаберланд было вспылил, но быстро успокоился и спросил: – А при чем здесь политические осложнения?
– Вы это знаете так же хорошо, как и я. Два крупных землевладельца из числа тех, кто подал на вас жалобу, оказывают сильное влияние на конгресс и тем самым на индийское правительство.
– С каких пор, – спросил Хаберланд, – Бог стал политиком?
– Ах, прекратите вы эти разговоры, – сказал Симмонс и снова сел. – Посмотрим фактам в лицо. Верховный суд принял решение – против вас. В Риме желают, чтобы это дело как можно скорее было закончено. Конечно, вам возвратят деньги, которые вы в свое время истратили на приобретение земли. Конечно, люди, живущие в этом районе, могут там дальше жить и работать…
– На кого?
– Ну, на себя, если захотят. Само собой разумеется, что они не должны продавать свои товары по более низким ценам, чем другие. Признайте, что это действительно вызывает негодование. Что бы делали вы, будь вы на месте одного из жалобщиков? Что бы чувствовали вы, если бы кто-то незаконно предлагал тот же товар по более низкой цене, чем ваша?
– Не знаю, – ответил Хаберланд. – Я ведь сказал вам, что в нашей маленькой общине не существует понятия «деньги».
– Вы должны мыслить реально, политически реально!
– Я о политике вообще не думаю!
– Прискорбно, но это ваше дело. Церковь должна думать и действовать политически, вы это знаете!
– Да, и мне жаль.
– Послушайте, – раздраженно сказал Симмонс, – я не хочу говорить с вами о подобных вещах. Мне кажется, ваши взгляды слишком… красные. Они не должны быть такими, дорогой друг, действительно не должны – в нынешнее время международного напряжения! Вы никогда не задумывались, кому на руку подобный образ мыслей?
– И кому же?
– Ну, коммунистам, конечно, – сказал Симмонс. – Не делайте вид, что вы меня не понимаете, – вы умный человек и очень хорошо знаете, что это так! А этого как раз не должно быть.
После этого надолго воцарилась тишина.
Наконец Хаберланд спросил:
– Я должен уехать?
Симмонс кивнул:
– Да. В Риме желают, чтобы вы закончили свои дела здесь и отказались от своей деятельности миссионера – в такой форме. Но сначала вы должны возвратиться в Вену. Бог мой, вы ведь действительно уже не так молоды! Если честно, я вообще не могу вас понять! Вы не представляете, как я рад, что в следующем году могу вернуться в Англию! Радуйтесь же и вы, что вам предлагают спокойную старость. Вы так много сделали и так много испытали. Если кто и заслуживает мира и покоя, то это вы! Вы тут и так надрывались не разгибая спины. В Вене у вас будет – впервые в жизни – время для себя. Вы могли бы предаваться размышлениям, дискутировать, читать проповеди – если, конечно, захотите – и читать. Читать! Я, например, с таким нетерпением жду того момента, когда наконец смогу заняться чтением!
– Но…
– Да?
– Но люди, с которыми я так давно работаю…
– Они ведь все добрые католики, не правда ли? Разве это не замечательно? Вам удалось достичь этого, дорогой друг! Благочестивые, верующие католики…
– Но если я должен уехать… что тогда станет с ними?
– Ах, не беспокойтесь! Что с ними станет? Они будут продолжать работать как прежде, счастливые и довольные… У них ни в чем не будет недостатка. Ваши соседи обязались не прогонять никого из них – ведь это отличные работники…
– Вы думаете… мои друзья действительно смогут продолжать работать?
– Совершенно определенно! – Монсеньор сиял. – Вот, посмотрите, у меня в письменном виде…
– Что?
– Заявление, согласно которому о ваших подопечных позаботятся.
– Это значит, что наша община будет распущена?
– Ну это же естественно! Ваши друзья получат лучшую защиту, какая только есть! – Симмонс серьезно произнес: – Какое великолепное доказательство того, что Бог любит людей.
– Это вы о чем?
– Один из двух господ, о которых я говорил, получит участок земли со всеми людьми и по договоренности с другими крупными землевладельцами будет заботиться о них. И только подумайте – он католик!
– О! – сказал Хаберланд. – Да, теперь я вижу, что Бог любит людей.








