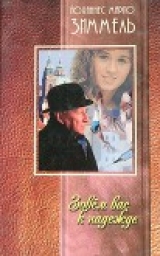
Текст книги "Зовем вас к надежде"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
30
– Если бы врачи, художники, музыканты, скульпторы и ученые всегда хотели бы трудиться только в справедливых государствах и в справедливых условиях, то что бы они вообще когда-нибудь сделали?
Эти слова Бернард Брэнксом произнес 13 марта 1968 года. Он стоял перед молодым биохимиком Жан-Клодом Колланжем и перед Адрианом Линдхаутом в гостиной апартамента последнего. Линдхаут открыл большие окна. Снова вниз и вверх по Рейну плыли буксиры с караванами барж под флагами разных стран.
– Это не мои слова, – сказал Брэнксом, – это сказал прокурор нашего процесса, а прокурор, в свою очередь, процитировал Франсиско Гойю. Это я говорю, чтобы подбодрить вас, профессор, поскольку вы выглядели очень подавленно в эти недели судебного разбирательства. Прокурор процитировал Гойю, потому что этот великий художник вынужден был работать под властью инквизиции. Как Леонардо, Галилей и многие другие. Они страдали от несправедливости государства и церкви, их жизнь была под угрозой – но они создавали свои произведения! – Маленький коренастый человек с толстыми линзами очков метался по комнате взад-вперед и хрустел костяшками пальцев.
Процесс по происшествию в Алльшвильском лесу в предместье Базеля Биннингене 12 ноября 1967 года, унесшему жизни одного швейцарца и одного американца, телохранителя Чарли, в течение недель был сенсацией в стране. Тело Чарли самолетом было отправлено в Америку. Швейцарский полицейский и «химик» Зарглебен были погребены на большом кладбище Вольф, названном так по прилегающей к нему товарной станции Вольф. Свистящие локомотивы и казавшиеся бесконечными составы тяжелогруженых вагонов катили мимо и во время церемонии.
В тот послеполуденный час, когда проходило погребение, падал густой снег. Линдхаут все еще лежал в клинике. Но Бернард Брэнксом, доктор Колланж и Труус, которые присутствовали на похоронах, навестили Линдхаута и рассказали ему, как все прошло.
Процесс начался в январе, когда Линдхаут уже вышел из больницы, и состоялся в Большом зале Дома правосудия. Многие зарубежные газеты направили туда своих репортеров, которые рассказывали всему миру об этом ужасном и беспомощном процессе. Беспомощном – потому что, несмотря на все усилия полиции и прокуратуры, не была доказана хотя бы малая доля вины ни одного-единственного человека. Линдхаут был свидетелем, показания которого связали смерть официантки Ольги Риен, ее сестры и маленького Антона с убийствами в Алльшвильском лесу. Криминальная полиция так и не нашла ни малейших следов того «автомобильного хулигана», который насмерть задавил на «зебре» трех человек. В «хулигана», да к тому же еще и «пьяного», как первоначально писали газеты, давно уже не верил ни один человек.
Насколько безрезультатно прошел процесс, настолько же сильно он взбудоражил международную общественность. Внезапно во всех средствах массовой информации заговорили о торговле наркотиками, в особенности героином, и о «французской схеме». В течение зимы во многих странах возникли «рабочие группы», «консультационные пункты по наркотикам» и специальные подразделения полиции по борьбе с наркотиками. Появились бесчисленные публикации и статистики, и эти статистики были в высшей степени пугающими…
И теперь, быстро расхаживая взад-вперед по гостиной апартамента Линдхаута, Брэнксом с ожесточением говорил:
– Учрежденная государством следственная комиссия подсчитала, что если рост наркозависимости будет продолжаться прежними темпами – а кто знает, не подпрыгнет ли она резко вверх! – то в семидесятом году количество легальных наркоманов, употребляющих героин, только в одном Нью-Йорке составит сто пятьдесят тысяч человек! Сто пятьдесят тысяч человек в одном-единственном городе! И это только известных случаев! В целом же их будет, конечно, намного больше! – Он остановился перед Линдхаутом, который сидел, уставившись глазами в ковер на полу. – Профессор, если вы через два года найдете антагонист с достаточно продолжительным периодом действия, вы только в одном городе сможете спасти десятки тысяч людей! Разве это не удивительно?
Линдхаут кивнул, не поднимая глаз.
– Да, – ответил он. – Удивительно. Но через два года я не найду такой антагонист, который был бы способен спасти эти человеческие жизни!
– Я сказал это не для того, чтобы услышать в ответ подобные слова, профессор, – сказал Брэнксом. – Я сказал это, чтобы показать вам, насколько важна ваша работа, как много от нее зависит и как сильно мы в ней нуждаемся.
– Да-да, – сказал Линдхаут, все еще рассматривая сложный ткацкий узор на ковре, – это я уже понял… – Его голос прервался.
– Бог мой, профессор… – Брэнксом беспомощно повернулся к Колланжу. Молодой, очень стеснительный человек со следами угревой сыпи на лице, с темными волосами, меланхоличными глазами и чувственным ртом, сказал:
– Мы имеем дело с величайшей эпидемией на свете, мистер Брэнксом. Вы знаете предмет. Вы знаете, что все мы в равной степени заинтересованы в том, чтобы найти пригодный антагонист длительного действия. Но это не школьное сочинение, где вы как учитель можете требовать, чтобы оно было написано к завтрашнему дню. – Он смотрел на Брэнксома очень серьезно.
– Я не собирался говорить как учитель… – Брэнксом внезапно растерялся. – Если у вас сложилось такое впечатление – пожалуйста, простите меня, профессор! – Линдхаут только кивнул. – На самом деле мне это совершенно не свойственно! Просто я уже так долго борюсь с этими преступниками – и это война одного человека! Я уже не так молод… Если эти собаки не сегодня-завтра уложат меня, если им это удастся, – кто тогда будет бороться дальше?
– Мы, – сказал доктор Колланж. – Не беспокойтесь, мистер Брэнксом. Мы найдем антагонист, который нам нужен, и преступников, о которых вы говорите, тоже!
– Вы ученый! У вас нет автоматов, нет организаций, которые охотились бы за боссом, вы…
– У нас есть организации, мистер Брэнксом, – сказал Колланж. – Теперь, после этого процесса, они у нас есть! Отделы по борьбе с наркотиками во всем мире теперь будут сотрудничать. Подключился Интерпол…
– А что смогут сделать все эти организации, если в них самих сидят люди, являющиеся агентами наркоторговцев? – холодно спросил Брэнксом. – Ведь после процесса это стало очевидным, и прокурор сказал об этом предельно ясно! Иначе не случилось бы трагедии в Алльшвильском лесу. Откуда люди босса узнали о встрече? Она держалась в абсолютной тайне, и тем не менее босс узнал о ней! И устроил швейцарцам маленькое сражение! А сам не потерял ни одного человека! Мы не нашли ни одного следа! Ничего, ничего, ничего!
– Виновных найдут. Найдут и босса, – сказал Колланж, спокойный как всегда, взглянув на Брэнксома.
– А даже если и так – дай-то бог! Ведь босса можно заменить! Любого человека можно заменить! Единственное, что нам нужно, так это антагонист! Только он может положить конец этому чудовищному преступлению!
– Мне кажется, у меня есть идея, – сказал Колланж, обращаясь к Линдхауту.
Тот посмотрел на него, как будто только-только проснулся:
– Да?
– Ваша заслуга в том, – сказал Колланж, – что вы нашли первый антагонист вещества особого химического класса с более длительным периодом действия, господин профессор. Долгое время у вас не было достаточных средств, лабораторий и сотрудников. Сейчас они у вас есть! И мы увидим, прав ли я в своих рассуждениях…
– В каких рассуждениях? – На лице Линдхаута наконец появился интерес.
– Речь идет о двух разных аспектах проблемы. – Колланж говорил медленно. – Мы знаем, что лечение воздержанием одного зависимого от героина длится восемнадцать месяцев и стоит ни много ни мало сорок тысяч франков – или марок, если хотите. Героинист, не подвергающийся лечению, обходится государству, то есть всем нам – в виде социальной помощи, расходов на лечение или, если он пошел по уголовной стезе, в виде расходов, связанных с отбытием наказания, – в круглую сумму в миллион франков, или марок. Один-единственный героинист – один миллион! Поэтому понятно, что люди во всем мире возмущены тем, что наркоман является для них такой обузой! Очень скоро мы столкнемся с такими требованиями: «Дайте им всем по возможности быстро подохнуть!» Или еще хуже: «Убейте их!» Так мы дойдем до гитлеровского понятия «малоценной жизни». Подобные мысли – будем надеяться! – можно будет предотвратить именно сейчас, после этого процесса в Базеле, потому что многие публицисты и ученые, философы и политики повернулись лицом к проблеме наркотиков.
При этих словах Колланжа Линдхаут вспомнил о том, что он наговорил в Париже во время своей, сейчас ему просто непонятной, вспышки. Ему стало стыдно…
– Ах, дерьмо, – сказал Брэнксом. – Те, другие, с аргументом «малоценной жизни», уже пробудились! Я прихожу в ужас от деятельности этих людей – а люди с такими воззрениями есть везде! Осмелюсь предположить, что их подавляющее большинство! Спросите-ка человека с улицы – не какого-нибудь правоэкстремистского лицемера или фанатика, а простого работягу, у которого свои заботы и которого захлестнула лавина информации о проблеме наркотиков. Что он вам скажет? Скука? Скандал с родителями? Некоммуникабельность поколений? Фрустрация? Отвращение к обществу потребления? Отчуждение? Стресс? Отсутствие целей? Отсутствие образцов для подражания? И прочую ерунду, которой пытаются объяснить, если не замолчать, пристрастие к наркотикам, особенно среди молодежи, – все то, что меня сейчас заставляют читать и слушать? Ни в коем разе! Человек с улицы скажет: ну и что? Фрустрация – не смешите меня! Прекратите молоть вздор! Мой отец периодически ломал мои игрушки – и что, из-за этого я стал паразитом, который живет на деньги других людей, пока не сдохнет? И на мои деньги тоже! У меня жена и дети, я не могу позволить себе того, того и того! Жена тоже должна работать! Мы едва сводим концы с концами. Я хочу, чтобы дети жили лучше! Они должны пойти в университет! Для этого мы с женой и работаем! Для этого! Но не для той грязной свиньи, которая ничего не делает, ничего собой не представляет и ничего не хочет – кроме все новой и новой дозы! – Брэнксом ядовито закончил: – Я боюсь как раз этой встречной волны. Поэтому я считаю: никаких так называемых просветительских кампаний! Антагонист! Нам нужен антагонист!
Колланж кивнул:
– Я же сказал вначале: речь идет о двух аспектах проблемы. Это был первый. Другой, профессор Линдхаут, касается только ученых. Все мы люди, а каждый человек ответствен за своего ближнего – и за самого бедного, самого опустившегося, самого ни к чему не годного, именно за него! Видите ли… я имею в виду… я хочу сказать, что… – Колланж подыскивал слова. – В Лексингтоне вы работали – извините за это сравнение – с шорами на глазах. Вы исследовали сотни субстанций на их антагонистическое действие…
– Да, и что же? – Сейчас Линдхаут был весь внимание.
– И когда вы находили такую субстанцию, она годами подвергалась испытаниям. А это неправильно. – Колланж покраснел и замолчал.
– Продолжайте! – сказал Линдхаут.
– Ну вот… я и подумал… такое, конечно, возможно, если имеешь за спиной «Сану» или другого фармацевтического гиганта: теперь целая армия исследователей будет искать субстанции, действующие как антагонисты. Найдут еще много субстанций. Мы будем их регистрировать. И мы, во всех наших научно-исследовательских центрах и с теми деньгами, которые находятся в нашем распоряжении, очень быстро узнаем, пригоден ли для использования данный антагонист или нет. В Лексингтоне, когда вы были вынуждены рассчитывать только на себя, это было невозможно. Вы тратили на это слишком много времени. Теперь для вас вся эта работа отпадает! Вы сможете наконец заняться тем, чтобы из всех уже открытых антагонистов выявить такой, который действует достаточно длительное время – пять, шесть, восемь недель! С такими интервалами его уже можно вводить находящимся в опасности людям. Тогда они могут потреблять сколько угодно героина – он вообще не будет действовать! Героин дорог и будет тем дороже, чем больше будет зависимых от него. Сегодня в самом чистом виде он стоит от трехсот до тысячи франков за один грамм, а для одной дозы героинисту нужно десять миллиграммов. Поэтому наркоманы совершают любые преступления – вплоть до убийства из-за стофранковой бумажки, чтобы заполучить деньги на наркотик! Когда эти люди поймут, что героин из-за антагониста вообще не действует, у них отпадет нужда в его приобретении. Итак, мы начинаем гигантскую программу по отысканию широкополосного антагониста! «Широкополосный» означает: во-первых, субстанция должна блокировать рецепторы для морфия и героина в мозгу, во-вторых, она не должна вызывать никаких вредных побочных явлений и, в-третьих, должна действовать от пяти до восьми недель!
Брэнксом и Линдхаут смотрели на Колланжа. Он снова покраснел. Линдхаут почувствовал, как его захлестнула волна счастья. «Да, да, Колланж прав. Как хорошо, что я буду работать с этим человеком, – думал он и удивлялся: – Я снова радуюсь предстоящей работе… – И еще он подумал: – Труус… Колланж и Труус… Если бы эти молодые люди теперь…»
Громкий голос Брэнксома прервал его размышления:
– Вот, почитайте! – Брэнксом протянул Линдхауту экземпляр газеты «Нью-Йорк Таймс» и указал на статью в две колонки. Заголовок гласил: «Наркоман, пристрастившийся к героину, найден мертвым! Полиция заявляет: он умер от передозировки».
Линдхаут пробежал статью глазами. В ней говорилось, что на Центральном вокзале Нью-Йорка был обнаружен мертвый семнадцатилетний юноша. При себе у него было адресованное родителям письмо. С разрешения родителей газета перепечатала текст этого письма:
«Дорогая мама, дорогой папа!
Сегодня вечером я покончу с собой, потому что больше не могу устоять перед тем, чтобы не уколоться. Героин полностью разрушил мое здоровье. В течение месяцев я питался несколькими пакетиками попкорна – я их воровал. У меня сгнили все зубы. Я этого даже не заметил, поскольку героин заглушал любую боль. Я никому не могу показать свои руки – настолько они исколоты. Когда я просыпался, мне приходилось глотать таблетки, чтобы выдержать до вечера, пока я не достану очередную дозу. Так шло день за днем. Я воровал, нападал на старых женщин, я делал все, чтобы раздобыть денег на наркотики. Я совершенное ничтожество. Я последнее дерьмо. Пожалуйста, передайте моему брату Джою, чтобы он держался подальше от этой дряни. К чему это приведет, он видит сейчас по мне. Мне вас жалко, но я не могу поступить иначе. Я прошу прощения у всех у вас. Том».
Линдхаут опустил газету.
– Наркотик, – сказал Брэнксом.
В гостиной светило солнце, небо было голубым, по Рейну скользили буксиры с баржами, и пронзительно кричали чайки.
– Думаю, мы уже завтра можем вылететь в Лексингтон, – сказал Линдхаут и встал. Брэнксом с восхищением посмотрел на него.
В этот момент зазвонил телефон. Линдхаут снял трубку.
– Извините за беспокойство, господин профессор, – сказал девичий голос. – В холле вас ждет один господин. Он говорит, что должен срочно переговорить с вами.
– Как его имя?
– Господина зовут доктор Красоткин, – сказала девушка.
31
Бывший майор Красной Армии хирург Илья Григорьевич Красоткин по-прежнему был высок и строен. Его глаза сверкали, волосы были густыми и темными. Войдя в апартаменты, он обнял Линдхаута, и расцеловал его в обе щеки. Линдхаут представил его обоим мужчинам, и те вскоре после этого ушли: у них было достаточно времени, а Красоткин, как он сам сказал, должен был продолжить свое путешествие. Он приехал сюда потому, что к окончанию процесса в Базеле, находился в Лейпциге. Сейчас он направлялся в Женеву, где должен был принять участие в международной конференции хирургов. Конференция начиналась через день, но Красоткин ехал вместе с группой советских врачей, и только в Цюрихе он смог пересесть на другой самолет, чтобы иметь возможность пожать руку своему старому другу.
– А когда конгресс закончится, я собираюсь подняться на Монблан – я уже столько лет мечтаю об этом!
– Ах ты старый альпинист! – улыбнулся Линдхаут.
– У меня уже есть разрешение врачей, и я просто не могу дождаться этого! – сказал Красоткин.
Потом они сидели на солнце у открытых высоких окон, смотрели на реку и долго молчали.
– Как быстро прошли годы, – сказал наконец русский.
Линдхаут кивнул:
– Сколько нам еще осталось…
– Вот это меня и мучит – да, наверное, и тебя, Адриан. – Красоткин смущенно провел рукой по рукаву своего серого пиджака. – Во что мы все верили в сорок пятом году, на что мы все надеялись, какой мир мы собирались строить… – Он бросил взгляд на потолок.
– Здесь нет микрофонов, – сказал Линдхаут, стараясь сохранять беззаботный вид. Он опустил голову, подумав: «Это было пошло с моей стороны». – А ты прав, так прав, Илья Григорьевич! Сорок пятый год… Тогда мы, как Ульрих фон Гуттен,[56]56
Ульрих фон Гуттен (1488–1523) – немецкий писатель-гуманист, идеолог рыцарства. Идейный вождь рыцарского восстания 1522–1523 гг. – Прим. пер.
[Закрыть] восклицали: «О столетие! О наука! Какое наслаждение – жить!» Наслаждение… – Линдхаут посмотрел на реку. – Раскол Берлина! Воздушный мост! Война в Корее! – Красоткин вздохнул. – Уже тогда я предвидел дальнейшее развитие того, что мы сейчас переживаем, это ухудшение изо дня в день. Я еще тогда говорил Джорджии… – Голос Линдхаута прервался. Он откашлялся. – Она умерла, я ведь писал тебе об этом, да?
Красоткин кивнул:
– Я тебе тоже писал, старик. Джорджия была чудесной женщиной. Да, тогда, в сорок пятом… Это такой позор, что мы не способны делать добро, даже осознавая это! Вот сейчас я в Швейцарии. Здесь я хоть могу говорить.
– Скверно, что ты можешь говорить только в Швейцарии, – сказал Линдхаут, – а не у себя на родине.
– А ты можешь это делать в Америке?
Линдхаут помедлил.
– Да, – сказал он наконец, – думаю, что могу. Но что-то другое мне и всем ученым на Западе так же недоступно, как и тебе, и всем твоим друзьям и ученым на Востоке. Мы не можем воспрепятствовать тому, что все открытия, которые мы делаем, государство вырывает у нас из рук. Мы не можем предотвратить того, что мы работаем не на благо мира, а на новую войну, не важно, над чем мы работаем.
– Кое-кто этому сопротивляется, – сказал Красоткин. – Они знают, чем рискуют, – как у нас, так и у вас.
– Многие уходят от нас к вам или приходят от вас к нам – но это слепые идеалисты, которые не видят, что они всего лишь орудие войны для другой стороны.
– Ученые всего мира должны были бы отказаться от дальнейших исследований, – сказал Красоткин.
– Запрети ветру дуть, – сказал Линдхаут, – запрети морским волнам накатываться на берег. Реальная власть сегодня в руках немногих, грубо говоря – в руках США и Советского Союза.
– Через десять лет к ним присоединится и Китай, – сказал Красоткин.
– Илья Григорьевич, друг мой, – сказал Линдхаут, – астрономы Калифорнийского университета в Беркли недавно открыли наиболее удаленные от нас галактики. Это образование из тысяч миллиардов солнц находится от нас на расстоянии более чем восемь миллиардов световых лет. Свет, который доходит до нас оттуда сегодня, отправился в путешествие, когда еще не существовали наше Солнце и наша планетная система! А мы, на нашей крошечной планете Земля, – мы не можем обрести мир. Это просто парадокс!
Красоткин посмотрел вслед летящей чайке.
– В Германии есть один профессор, – продолжал Линдхаут, – его зовут Хорст Леб и работает он в Гисене. Он считает, что вокруг шести процентов всех солнц во Вселенной вращаются планеты, которые могут быть населены живыми существами – как наша Земля. Процентное число, вероятно, кому-нибудь покажется малым, но абсолютное число населенных небесных тел было бы тем не менее чудовищно большим, поскольку, по грубым оценкам, существует сто миллиардов Млечных Путей, в каждом из которых приблизительно пятьдесят миллиардов солнц. А мы, на нашем микробе Земля, не можем обрести мира!
– Да, – сказал с горечью Красоткин, – не можем.
– Попробуй представить, что наш Млечный Путь состоит из более чем миллиарда неподвижных звезд, и некоторые из них в диаметре больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Представь также, что наш Млечный Путь не находится в состоянии покоя, а куда-то несется со скоростью шестьсот километров в секунду… Ты вообще можешь представить что-нибудь подобное?
– Нет, – сказал Красоткин. – Но я не могу себе представить и того, как мы обретем мир на Земле. А это еще более чудовищно, Адриан! Некоторые астрономы рассматривают все галактики и скопления звезд вкупе как закрытую, конечную систему. И тогда с большой вероятностью можно предположить, что наш Млечный Путь является ни чем иным, как одной из бесчисленного множества молекул, из которых, возможно, построено нечто вроде значительно большего организма!
– Знаю, – сказал Линдхаут. – Имея подобные представления о космосе, можно было бы надеяться, что стремление добиться на этом ничтожном микробе Земля условий, достойных человека, и тем самым избежать опасности беспримерного уничтожения, обуздает азарт ответственных за это лиц. Но этого, дорогой Илья Григорьевич, от них вряд ли можно ожидать.
– Так говорил и Сергей Николаевич, – сказал Красоткин.
– Говорил? – встрепенулся Линдхаут. – Соболев?
Теперь Красоткин смотрел на реку.
– Он снова начал употреблять морфий, – помолчав, сказал он. – Видишь ли, Адриан, у нас с этим обстоит очень серьезно. Кто однажды был зависимым и снова попался на этом, принудительно направляется в специализированную клинику. В такую клинику попал и бедный Сергей Николаевич, и ему еще раз пришлось перенести все те мучения, через которые он прошел в Вене, только еще хуже. Когда его выпустили, потому что он был первоклассным хирургом, он в тот же день принял слишком большую дозу – и умер на месте: дыхательный паралич. Его организм выдерживал сверхдозу перед курсом отвыкания, но после курса он уже был не способен справиться с этим. В официальной версии говорилось о внезапной и неожиданной смерти. Но я знаю, что это было запланированным самоубийством. Он написал мне об этом в письме. Когда оно до меня дошло – в Варшаве, – Сергей был уже мертв.
– Когда это… когда он это сделал?
– В пятьдесят шестом, когда наши войска вошли в Венгрию. – Красоткин все еще смотрел на воду. – Странное совпадение, правда?
Линдхаут молчал.
– А Левин жив, – сказал Красоткин. – Все время в разъездах. В странах «третьего мира». Он консультирует при строительстве больниц в тех странах, которым мы оказываем помощь.
– К сожалению, не только медицинскую, – сказал Линдхаут. – Американцы и многие другие нисколько не лучше, Илья Григорьевич, я не хочу никого обидеть. Одни ведут себя так же безответственно, как и другие. В этом мы преуспели. Я тоже однажды хотел лишить себя жизни…
– Ты?! Когда?
– Когда я услышал в Америке, как один из высоких военных чинов говорил о доктрине «Overkill»,[57]57
Многократное уничтожение. – Прим. пер.
[Закрыть] о том, что Соединенные Штаты в состоянии убить каждого человека на Земле не один, а семь раз.
– Мой дорогой, – сказал Красоткин, – мы тоже это можем.
– Спасибо за утешение, Илья, – сказал Линдхаут. – А когда говорят, что только решение проблемы выживания – не массового убиения: ее мы уже решили! – может привести к быстрому и полному примирению между Соединенными Штатами и Советским Союзом, – не преувеличение ли это? Войны стали сегодня чистым безумием. Если бы такое примирение осуществилось, обе державы вполне бы могли побудить все остальные страны отказаться от своего суверенитета настолько, насколько это необходимо для обеспечения военной безопасности во всех странах.
– Думаю, я понимаю, что ты хочешь мне сказать, Адриан, – Красоткин посмотрел на Линдхаута. – Ты говоришь это в зашифрованном виде, хотя здесь, как ты заявляешь, нет микрофонов.
– Мы в Швейцарии.
– Мы в Швейцарии, да. Это счастливая страна. Я знаю, что ты хочешь сказать, и я хотел бы именно здесь попросить тебя кое о чем, Адриан. Я же приехал не только для того, чтобы пожать тебе руку! Видишь ли, сегодня и физики, и химики, и многие другие ученые ощущают давление со стороны своих правительств, их сажают в психиатрические больницы, злонамеренной клеветой доводят до самоубийства, их открытия лишаются своего гуманитарного содержания – у вас, как и у нас. Ты хочешь сказать… что мы должны действовать, как Отто Хан,[58]58
Отто Хан (1879–1968) – немецкий радиохимик. Получил Нобелевскую премию в 1944 г. – Прим. пер.
[Закрыть] как Лизе Майтнер.[59]59
Лизе Майтнер (1878–1968) – австрийский физик. В 1907–1938 гг. работала в Берлине с Отто Ханом. – Прим. пер.
[Закрыть] Мы должны поддерживать постоянную связь так, чтобы наши государства об этом не знали. Мы должны обмениваться опытом, и если мы увидим, что наши исследования угрожают миру, мы должны сохранять их в тайне. Могу тебя заверить, что говорю с тобой от имени нескольких наших самых известных ученых, которые попросят тебя поговорить с американскими исследователями. То, что нам нужно, – это заговор, заговор во имя добра. Ты согласен, что тогда положение в мире станет лучше?
– Нет, – сказал Линдхаут.
– Но почему, Адриан?!
Линдхаут ответил:
– Потому что, хотя мысль о международном заговоре ученых в этот век науки и мне кажется последним спасением, я не верю, что это может осуществиться.
– Почему нет?
– Видишь ли – и в этом я убежден, – в человеке живет потребность ненавидеть, убивать и уничтожать, – сказал Линдхаут. – Наверное, в немногих счастливых регионах Земли, где природа в избытке дает человеку все, в чем он нуждается, еще существуют племена, которым неизвестны принуждение и агрессия. Я верю в это с трудом, но с удовольствием узнал бы об этих счастливцах. Даже Советы надеются, что могут устранить человеческую агрессию, гарантировав удовлетворение всех материальных потребностей и равенство всех членов общества. Я считаю это иллюзией… – Линдхаут посмотрел на Красоткина. – То, что я только что сказал, – цитата. У меня была короткая переписка с Зигмундом Фрейдом, незадолго до его смерти. В тридцать седьмом году я, еще из Роттердама, написал ему письмо в Вену на его домашний адрес: переулок Берггассе, двадцать четыре, – почти напротив того дома, где я приземлился в сорок четвертом у набожной фройляйн Демут. Письмо заканчивалось вопросом: «Существует ли путь, который мог бы освободить людей от проклятия войны?» Ну, а то, что я сказал, было ответом Фрейда, Илья Григорьевич. Человек – это есть где-то в Библии – злой от рождения. У меня нет никакой надежды.
– Но ты всегда останешься моим другом, и помни о том, что Левин и я, как и многие другие советские ученые, останутся твоими друзьями – и друзьями многих американских ученых. Вы всегда будете пользоваться нашей поддержкой, всегда. Несмотря ни на что, я прошу тебя посодействовать тому, чтобы так было и с другой стороны. Это ты можешь мне обещать?
– Я могу только пообещать тебе и твоим друзьям, что попробую сделать это, – сказал Линдхаут. – Я не могу поручиться, что мне это удастся. И даже если все получится – что вряд ли, – это все равно не сможет предотвратить всемирную катастрофу.
– Но, возможно, немного ее отдалит, – сказал Красоткин. – Подумай: сколько миллионов людей смогут прожить немного дольше.
– Да, немного дольше, – сказал Линдхаут. – А сорок пятый год…
– Сорок пятый! – воскликнул Красоткин. – Об этом пора забыть.








