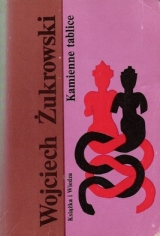
Текст книги "Каменные скрижали"
Автор книги: Войцех Жукровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
Он приподнял обеими руками крышку резного сундука и почтительно цокнул языком при виде горлышек пузатых бутылок.
– Даже «здравствуй» не скажешь, – упрекнул Иштван.
– А ты без китайских церемоний не можешь? «Хэлло» тебя не устраивает? Воля твоя, – Двояновский молитвенно сложил ладони на груди и низко поклонился. – Намаете джи. Слава тебе, о благороднейший из благородных!
Он устроился в кресле, скрестил вытянутые ноги.
– Чокидар скрашивает тебе одиночество, девочек водит? – пытливо зыркнул он из-под прикрытых век, проверяя, угадал ли. – Только что сховал от меня какую-то кралю.
– Нет, это его невеста. Свадьба у них через неделю.
– Вон как… Теперь понятно. У непальских горцев свои обычаи, индусу до свадьбы на девушку даже глянуть не позволили бы, не дай бог, взглядом осквернит. Товар оценивают папа с мамой и сват. Удовлетворяются фотографией. А у нас мигом снялись бы в поход с палаткой и байдаркой. Раскусить друг дружку, сориентироваться. И расходятся почти без сожаления. Мол, еще один опыт из серии.
Сунулся повар и, уверясь, что рюмки наполнены, внес блюдо с горячими перчеными крокетами, блюдо топорщилось от воткнутых зубочисток.
– У вас невесело, – начал Двояновский, закусывая. – Нынче перед парламентом собралась толпа рабочих, требовали прекратить репрессии… Настаивали, чтобы Надь вернулся. Поздно. Кадар им речь толкнул, обещал вернуть сбежавших. Люди верят, что он за этим проследит, но начало у него хлопотное.
Он потянул из рюмки желтоватую сливовицу.
– Что пишут из дому?
– Да ничего такого, – развел руками Тереи, – все в порядке. Живы, жена работает, дети учатся.
– Стало быть, тяжко.
– За каким чертом он их призвал, – взорвался Иштван. – Разве нельзя было так, как у вас?
– Ну, что за ребячество! Во-первых, они у вас и так были, во-вторых, не он призвал, его призвали. Скажу честно, он мне импонирует, смелый мужик, взвалил на себя ответ за судьбу Венгрии. Ведь он чувствует обитую неприязнь к себе, – задумчиво сказал Двояновский, – но у него есть цель, историческая цель, это помогает выдержать стороннее давление. Он понимает, что именно спасено. Он борется за нацию, за будущее, а это очень трудно, когда ты, вдобавок, одинок. Конечно, люди есть… Однако многие присоединились, полагая, что этого требует тактика, подозревают, что им руководит властолюбие, что он еще отыграется за отсидку. Мотивы их трудов несущественны, важны последствия. Главное – заполучить год, два сроку. Потом его начнут уважать.
Двояновский повел взглядом по комнате, словно только сейчас его насторожила тишина.
– Музычку дай. А то мне грустно.
Иштван включил радио. Набирая силу, полилась мелодия из американского фильма о белой эмиграции: «Анастасия». Двояновский ритмично задергал ногой, тоскливая, исполняемая низким хрипловатым женским голосом песенка ему понравилась.
– Стало быть, полагаешь, что Хрущев поторопился с Надем? – спросил Иштван, уменьшив громкость.
– Хотел облегчить дело Кадару, – скривил губы Двояновский. – Расчистил ему место. Пренебрег последствиями. Получил забастовки по всей Венгрии. А что забастовки, они, так или иначе кончатся: чтобы не сдохнуть с голоду, надо работать.
– Не по душе мне такой способ улаживать дела.
– Можно подумать, что кому-то по душе, – иронически усмехнулся Двояновский,– Договоры. Гарантии. Мы же взрослые люди. Договоров придерживаются, пока не меняются условия, в которых они подписаны, ну, и пока сильнейшей стороне удобно их придерживаться. Говоря на языке взрослых людей, пока ей это выгодно. Так поступают все, кроме нас, поляков. Били турок под Веной – своих будущих оккупантов выручили, до самого конца цеплялись за Наполеона, хотя уже все его покинули, и, сделай мы это вовремя, у русского царя, по меньшей мере, пол-Польши можно было выторговать… Верность до гроба. До последнего выстрела. За это нами весь свет восхищается и зовет последними дураками. Поляки, сумасшедшие! Наши-то коммунисты, – зло махнул он рукой, – тоже романтики. – И продолжил как бы про себя: – Вот разве что по земле ходить так-сяк научились.
Он задумчиво приложился к сливовице.
– Не будь они романтики, не было бы этой нынешней, Народной, – закончил, отставляя рюмку.
– И ты такой же, – не сдержал иронии Иштван.
– А как иначе? Уродился в семье с тяжелой наследственностью, – вздохнул Двояновский с деланным смешком. – И временами этим даже горжусь.
– Тебе, наверное, больше по нраву Миндсенти. Кардинал, добровольный затворник в американском посольстве, не покинул Венгрию, – перечислил Тереи.
Двояновский оперся на локоть, взлохматил русые, сильно поредевшие волосы. В голубых глазах засветился дерзкий огонек.
– Не верю я в эти патетические жесты. Ты что, проверяешь меня, на Ай-Кью? Не поймаешь. Миндсенти покинул Венгрию, покинул-покинул, он находится на американской территории, пусть и посреди вашего города. Ничего он не понял из того, что у вас творится, выйдя из тюрьмы. Ему представилось, что возвращается прошлое, он вдруг возомнил себя не духовным пастырем, а политическим вождем, призвал к оружию. А потом улизнул, – Двояновский огляделся в поисках папирос. Иштван пододвинул ему медную индийскую папиросницу. – А «Кошутов» нет? Предпочитаю табачок покрепче… Но у церкви есть опыт, это мудрое учреждение. И дезертирства она не признает.
– Ни от кого нельзя требовать мученичества, – запротестовал Иштван. – Ведь его расстреляли бы. А он старик.
– В том-то и дело… Жизнь завершилась бы достойно. Для своих отцов церковь признает два пути, и первый из них – это неотделимость от своей паствы до конца, до стенки и пули, церковь очень высоко ценит посев крови. Он не бывает напрасен. В конечном счете, так же думают коммунисты. Идея, за которую не стоит гибнуть, это идея, ради которой не стоит жить.
– А второй путь?
– Второй путь гораздо труднее, потому что требует не только рвения и сердца, но и высокого разума. Это дальновидные, умные компромиссы с победителями; потому что, в конце концов, приходится на них идти. И церковь это ценит, причем, скорей всего, ценит выше, чем посев крови. Но для этого надо любить свою паству, любить больше, чем себя.
– Ты католик? – спросил Иштван.
– Как тебе сказать, – смутился Двояновский. – Если честно, то бывший. Отрекайся, не отрекайся, а от этого не избавишься, традиции, привычка, почти магические жесты… Но сохранил надежду, что проблема веры не звук пустой, – выпустил он в потолок табачный дым. – Хорошо бы и впредь сохранить. От этих мыслей открещиваются, на них не хватает времени. Однако голос звучит неотступно, как бы мы ни силились его заглушить.
– Стало быть, только смерть? – тихо сказал Иштван, мигом уловив суть ответа.
– А мы смерти не боимся, мы понимаем, что жизнь – это смертельное заболевание. Но кому хочется помнить об этом всякий день? По чести сказать, не представляю собственной могилы без креста. Да не мучь ты меня… Не затем же в гости-то звал.
– У меня к тебе просьба, поддержка нужна, – начал Иштван, Двояновский от неожиданности застыл на месте, обернувшись к хозяину. – У меня тут есть один художник.
– Индус?
– Ты его знаешь, тем легче говорить. Рам Канвал. Должен был ехать к нам. Но не заставляй повторять, как дураки это называют: дегенеративное искусство и так далее.
– Да уж, что-то поганое в памяти так и мерещится, как заслышу этот ученый термин, – потянулся журналист. – И что дальше?
– Байчи сорвал дело со стипендией для него. У вас с этим посвободней, чем у всех, пригрейте Рама. Жаль человека. Он от безысходности отравиться хотел, но это исключительно между нами. Пораскинь умом. Понимаешь?
Двояновский прикрыл глаза и замолчал.
– Слушай, я уезжаю на время, а это дело сердечное, прошу тебя, – не отступился Иштван. – Попробуй уладить не на польский манер, а то вы вечно расчувствуетесь, наобещаете, а завтра пыл проходит, все вон из памяти.
– Хорошо. Поговорю с нашим советником по культуре, – согласился наконец Двояновский. – За успех не ручаюсь, но на меня можешь рассчитывать.
– О том только и прошу. Спасибо. Помяни мое слово, он вам придется ко двору. И хватит об этом. Пошли ужинать. Что предпочитаешь? Вино, сливовицу?
– Проявим постоянство, – прихватил Двояновский бутылку и, не выпуская из руки рюмку, направился в столовую. – Ну, аромат. Все мне чего-то не хватало, ан, оказывается, я попросту голодный.
И Двояновский дружески подтолкнул Иштвана плечом.
– С лекциями покончено, – спокойно сказала Маргит накануне праздника Дивали.
– Ну и что? – огрызнулся он, словно его в чем-то винили. – Ничего. Я свободна.
Глаза у нее были чисты и доверчивы, и он устыдился своего свирепого наскока.
– Хочешь ехать?
– Хочу быть с тобой, – мирно объяснила она – Теперь у меня для тебя гораздо больше времени. Я думала, ты обрадуешься.
– Хорошо, – он отвернулся, словно его принудили к этому решению. – С гостиницей кончаем, пакуй вещи, чемоданы оставишь у меня. Пора ехать.
– Не лучше ли все взять с собой? – предположила Маргит.
– Думаешь, в Дели не вернемся? – неприязненно глянул он ей в глаза.
– Возможно, так было бы лучше, – тихо сказала она, – но я поступлю, как ты хочешь.
Под его враждебным взглядом она наклонила голову, словно горбясь от непосильного груза, рыжеватые волосы хлынули волной, закрывая лицо. Она не откинула их привычным движением, не воспротивилась этому безвольному ниспаданию.
– Все, за чем мы сюда вернулись бы, можно купить, – сказала она наконец. – Оставим часть багажа. Понимаю, тебе мила иллюзия, что мы уезжаем всего лишь на праздники. Наверное, успокаиваешь самого себя, что срок решений еще не настал?
– А ты думаешь…
– Ничего я не думаю. Я все понимаю. Очень бы хотела помочь тебе. Но ты должен решить сам. Иначе ты меня возненавидишь.
Воцарившуюся тишину нарушали возгласы повара на кухне, звяканье ступки, в которой он толок специи. О запыленные проволочные сетки на окнах скреблись побеги вьющихся растений, колеблемые вечерним ветром.
– Хорошо. Едем завтра, – внезапно сказал он.
Она оживилась, откинула прядь волос за ухо, обрадовано блеснули глаза.
– Завтра. На рассвете, – наконец решившись, безоглядно напирал Иштван. – Бежим на белые пляжи, о которых я мечтал. Пускай вода смоет все мои печали, закопаемся в песочек. Маргит, помоги мне, – склонился он над ней.
Она обняла его, притянула к себе крепко-крепко.
– Но ведь я только этого и хочу.
Он погрузил лицо в ее рассыпавшиеся волосы, в знакомый запах, вдохнул его всей грудью, до головокружения.
– Ты добра ко мне, – поцеловал он ее в шею.
Когда гостиничные мальчики уложили ее чемоданы в автомобиль, уже сгущались сумерки. На балконах, на каменных парапетах террас, ведущих в сад, мерцая, дрожали сотни огоньков. Золотистые язычки лизали тьму. Дома были иллюминированы для торжественной встречи праздника Дивали. На крышах, в окнах, даже на крылечках домов трепетали огни. Перед хижинами бедноты горели фитили в жестянках с маслом. Каждый надеялся приманить богиню счастья в свой дом, указывал ей дорогу, освещал вход. Иштвану стало стыдно. Он собирался купить плошки и глиняные лампадки, но в суматохе предотъездных дел совсем забыл про индийский праздник.
Весь город пропах свечами, танец огоньков, теплое живое пламя, преображал здания, делал их чудесными. Над ветвями деревьев дрожали огромные светящиеся хрустальные звезды, словно небо приспустилось на дома, обрызгало яркими осколками пороги, стены и тропки. Богиня Лакшми, держа в руках лампу, вела счастливую судьбу к ожидающим, молящимся в темноте.
– Интересно, а у нас дома будут огни, я же не дал денег повару, совсем из головы вылетело, – упреждал Иштван возможное огорчение.
Но когда они въехали на травяную лужайку, он с облегчением увидел колеблющийся гребень огоньков на низкой ограде, обычно темный грот косматой от лиан веранды теперь сиял желтыми плошками. Чокидар стоял, расставив ноги, опираясь на свой бамбук, в конце трех рядов огоньков, пригибаемых едва заметным движением воздуха, и эта огнистая трава освещала его снизу, словно кованную из бронзы фигуру. Огромная тень падала на стену, и на ее фоне чокидар казался вестником совершенных.
– Зажег, – облегченно вздохнул Иштван. – Награжу непременно. И в наш дом освещена дорога счастью. Маргит подождала у калитки, пока он завел «остин» в гараж. Повар с торжествующим видом приветствовал их, присел на корточки, палочкой поправил опадающие фитили.
– Не хуже, чем у других, правда, сааб? – повар напрашивался на похвалу.
– Даже лучше, – потрепал его по плечу Тереи. – Свечек ты не пожалел.
– Если Лакшми навестит нас, пусть видит, какие мы щедрые, – умильно ответил повар, незаметно подавая хозяину счет из лавочки за жертвенные светильники.
– Хорошо, вот возьми.
– Это слишком много, сааб, – голова слуги на худой шее вывернулась набок, словно у сороки, тщетно прилаживающейся подхватить и унести в клюве слишком крупную плодовую косточку.
– Бери, бери. За то, что не забыл.
– Ах, сааб, твое счастье – это наше счастье, ты же знаешь. Чокидар женится, потому что у него хорошая работа, вся моя семья благословляет тебя, господин. И семья уборщика. И семья садовника. Господин, ты – как мощное дерево, а мы – как птицы, что свили гнезда в твоих ветвях. Ладонь твоя отверста, ты не считаешь нам рис мерками, как в других домах. Сааб, – ритмично взывал Перейра, словно читал заклинания, воздев руки к листастым фестонам лиан, – да войдет богиня Лакшми в этот дом, да осыплет дарами тебя и госпожу.
Длинные тени падали на стены, пахло, как в храме, горящим маслом и воском. Собравшиеся слуги кланялись хозяевам.
– И мы вам желаем всяческой удачи, – ответил Иштван. – Я оставляю дом под вашу опеку, хозяйствуйте в нем разумно. Завтра я еду на юг.
– Надолго ли, сааб?
– На несколько недель.
Когда он прошел в комнату, оказалось, что Маргит сидит там, сгорбясь и закрыв лицо руками. Он бросился к ней, удивленный, смятенный.
– Что случилось? – отвел он ее руки от мокрых щек.
– Ничего, – ее глаза полным блеском сияли из-под слипшихся ресниц. – Ты в первый раз сказал: «В наш дом».
В изумлении он пригнулся к ней, постепенно до него дошло, нахлынуло сочувствие: как немного ей нужно, всего одно-единственное безотчетно сказанное слово, и на этом возводится целое здание будущего. «Она меня любит, – неотступно звучало в нем самообвинение. – Любит».
– Век бы это слышать, до самого последнего дня, – пролепетала она, прижавшись к нему мокрой пылающей щекой.
Сквозь сетки в окнах роились расплывчатые огоньки на стенах соседних вилл, на душу легла томительная печаль, словно креп распростерло над домовинками сельского кладбища в день, когда ставят свечи, поминая умерших.
– Завтра едем, – отогнал он невеселые мысли. Маргит припала к нему, потерлась щекой, довольно мурлыча, как девчонка, у которой нет слов, чтобы выразить радость и благодарность ври виде нежданного подарка.
Они лежали на белом мелком песке всего на расстоянии вытянутой руки друг от друга, в нескольких метрах от их ног взмученные волны угасали на выглаженном, укатанном краю словно бы огромной чаши, оплетенной венком пряно пахнущей зелени. Океан неспешно вздымался, клонился и рушился, выталкивая воду на берег. На горизонте почти неподвижно маячили паруса лавирующих лодок, желтые и красноватые треугольники, опрокинутые вершинами к сероватой глади. Впрочем, трудно было назвать лодками эти несколько кое-как скрепленных с одного конца бревен, с другого конца раскрытых веером, сквозь который свободно сливалась пенящаяся морская вода. Этих лодок с берега не было видно, у края небосвода медленно рыскали туда-сюда темные против солнца треугольники латаных парусов, похожие на сорвавшиеся, воздушные змеи.
Лежа щекой на песке, Иштван не сводил глаз со строгого профиля Маргит, полускрытого распущенными волосами, зелень ее прищуренных глаз переливалась от счастья. Губы слегка раскрылись в свободном дыхании, едва прикрытые небольшие груди лукаво манили из-под мокрого купальника.
Исчезли, невесть куда канули тесные переулки Старого Дели, слепо напирающие толпы, лавина тел, сквозь которую приходилось протискиваться, чтобы пройти, удушающий смрад сточных канав, мочи, щепы, гниющей плодовой кожуры, благовоний, чад горящего жира в жертвенных светильниках и кухонного пальмового масла, который въедался в волосы, которым неистребимо пропитывалась одежда.
Здесь, на просторном пляже, предоставленные самим себе, покинутые для радости, ненужные всему свету, они были одни, отдыхали; не прислушиваясь даже к стону волн, все рушащихся и рушащихся, все волокущих и волокущих гравий и розовые ракушки. Над ними гулял влажный бриз, умерял полуденный зной. Воздух над песчаным простором, по которому не прошлись ничьи стопы, был весь в зеленых мигающих прожилках, а листья гнутых пальм сонно покачивались, с перебором шевеля кожистой бахромой.
– Не спи, – царапнула Маргит кончиками пальцев его бок, облепленный шелковистым рассыпчатым песком.
– А я и не сплю, я думаю, – отозвался он, потягиваясь. – Не забыла, что послезавтра Рождество?
– Дни считаешь? Запоминаешь, сколько прошло?
– Зачем? Как ни считай, все мало будет. А про Рождество знаю потому, что нынче от дирекции гостиницы письмо пришло, просят заранее выбрать меню праздничного обеда.
– Боятся, что Дэниэл что-нибудь переврет, а зря, он толковый парнишка, – похвалила Маргит слугу, которого им назначили вместе с домиком.
– Полное меню приложено, достаточно подчеркнуть.
– А почему без меня? Надо было посоветоваться.
– Это тебе будет сюрприз.
– Уж наверняка заказал какую-нибудь гадость, как тогда в китайском ресторане. Когда шеф-повар растолковал, из чего это приготовлено, у меня к горлу подкатило.
– А ела да нахваливала. Пока не знала, говорила, что вкусно. Я заказал «дары моря».
– А индюшку с каштанами и финиками?
– Она еще гуляет на воле, от нас требуется только заказать шесть порций. Они тут вникли и высчитали: цыпленок – две порции, утка – четыре, индюшка – двенадцать. Кроме нас, только две старушки-англичанки. Удивительная пустота. Я-то думал, будет нашествие.
– По другим женщинам соскучился? Меня тебе уже мало? Она зачерпнула пригоршню белого песка и следила, как он течет сквозь пальцы.
– Не болтай ерунды.
– Я рада, что ты немного отдохнул, одиночество нам было полезно.
– Безлюдье здесь ненадолго, пока Суэц перекрыт, но к Новому году наедет, на пляже будет не протолкаться.
– Ни в ком не нуждаюсь, – буркнула она. – Мне и так хорошо, – она забавлялась тем, что насыпала песчаный курганчик у него на груди. – Люблю море. От него таким покоем веет.
– Насмерть устал за рулем, а все же в первую ночь заснуть не мог, так волны шумели, – тихо сказал он. – Море шумит на все голоса, то манит, то разговоры говорит, то ворчит. Мне даже почудилось, что в темноте оно выползает на берег, растекается по дюнам, затопляет пляж и норовит взять нас в кольцо. В темноте шум моря кажется сильней.
– Ты вскакивал, я слышала, как ты бродил по веранде. Но мне было глаз не открыть.
– Я смотрел, как оно светится, суша была черная, а волны фосфоресцировали, как будто кишели утонувшими звездами. Я трусил, как мальчишка, что прилив нас смоет вместе с домиком.
– А я моря не боюсь, – гордо выпятила она губу. – Люблю, когда оно меня несет.
– Ты слишком далеко заплываешь. Зовешь тебя, зовешь, а ты делаешь вид, что не слышишь.
– Ты же рядом плывешь, – глянула она ему в темные глаза. – И, кажется, так и плыли бы, плыли без конца. И не уговорить себя повернуть назад. И туда плывется легче, а обратно – намного трудней.
– Я видел карту в управлении порта, здесь в бухте прибрежные течения, ты об этом не забывай… Может унести чёрт-те куда.
– Но ты же меня одну не оставишь, – положила она ему ладонь на грудь. – А с тобой мне нигде не страшно.
– Что за дурацкие мысли, – встряхнулся он. – От них добра не жди.
Море зарокотало громче, накат толстыми языками слизывал гладкий прибрежный песок.
– А по ночам тут неспокойно, – продолжила она, поглощенная игрой с чистым, как сахар, песком. – Позавчера за кем-то гнались и кричали, нынче ночью стрельба была.
– Я у Дэниэла спрашивал, он говорит, полиция контрабандистам засады устраивает… Ты только глянь на эти пустые домики, ничуть не удивлюсь, если там прячут золото или опиум. Тут сразу глубина, катером можно к самому берегу подойти. А эти их лодки-плоты любую мель переползут.
– Фантазер ты, – почтительно сказала она. – Целый роман готов придумать. Стоит кому-то пробежать по берегу или ракетой побаловаться. А может, это маневры?
– Они тут насчет перебежчиков балуются, возят беженцев из Пакистана, мне нынче Дэниэл сказал, ты еще спала.
– Бегут… От себя не убежишь. Свобода внутри нас. Надо упорно и смело самому вырываться из ошейника, который на нас силком напялили, – повернулась она к нему, он почувствовал, как ее облепленная песком ладонь уперлась ему в бедро.
– Никто ничего не напяливал, если не считать принуждением место рождения, язык и судьбу, которую должно делить с другими. Остальные долги мы приняли добровольно; и ты хорошо знаешь, что они часть нас самих.
– Примитивные кровные узы, – набычилась она.
– Нет. Я говорю о глубочайшей общности с миром в том виде, как застаешь его, родившись, какой мы обязаны преображать, изменять.
Издалека доносилась дрожащая трель свистульки. У подножия дюны, среди наклонных кокосовых пальм, темнел торс факира, наигрывающего свою песню. Чудилось, что он без головы, настолько его светлый тюрбан сливался по цвету с песком, натекавшим из-под нависших лохм сожженного солнцем дерна.
– Легче менять мир, чем себя, – грустно пробормотала она. – Мир, мир! А что такое мир, если не игра в песочек? Сам видишь, что после таких игр остается. Имел возможность убедиться.
– А ты? Мне-то какую роль предназначаешь? – приподнялся он на локте, заглянул ей в глаза, кончики завернувшихся ресниц у нее обесцветились на солнце.
– Стань, наконец, самим собой, освободись. Пиши, как хочется. Не считайся ни с кем.
– Даже с тобой?
– Даже со мной, – стояла она на своем. – Пиши о своей Венгрии, но только сбрось ошейник, в котором давишься, отделись от своего времени, от его недолговечных схем. Ты не обязан быть служакой, для которого начальство – священный оракул. Думай о том, что твое, собственное, неповторимое. Что ты хочешь сказать людям? Людям, не одним только венграм.
– Мне начальство не оракул, – усмехнулся он. – Слишком часто оно меняется, а то, что я хотел бы сказать венграм, должно взять за сердце каждого, кто мыслит и чувствует ответственность за общую судьбу.
– Время… Твое, наше, мы ему и так подвластны, хочешь, не хочешь. Не позволяй себя месить, путать в сговоры на год, на два. Ты нафарширован чужими словами, ты вскидываешь руки, и они сами складываются в аплодисменты. И это даже не цирк, потому что принуждение не требует от тебя ловкости рук.
– Перестань, – попросил он. – Не мучь ты меня.
– Я? – притворно удивилась она. – Тебя это задевает только потому, что про себя ты со мной согласен. Издали опять донесся птичий писк нищенской свистульки, заглушаемый гулом наката.
– На что он рассчитывает? – присмотрелся Иштван к фигуре, темнеющей среда узловатых, полуобнаженных пальмовых корневищ. С неба, наводненного мерцающим светом, как петушиные хвосты, свисали неподвижные листья.
– Он вроде меня, – задумчиво сказала Маргит. – Надеется привлечь к себе внимание.
– А почему так далеко уселся?
– Не хочет быть навязчивым.
– Думаешь, у него есть виды на нас?
– Нищий, не такой бессовестный, как я, но наверняка нищий. Мы друг дружку издалека распознаем, – чертила она пальцем дуги на песке и бездумно созерцала, как легкий ветерок-поземка сталкивает в канавки песчинку за песчинкой.
Иштван резко повернулся к ней, обнял, прижал к себе.
– Не говори так, лучше ударь, будет не так больно, – дохнул он ей в целуемые губы. – Все, что у меня есть, твое.
– Кроме тебя самого, – отвела она голову.– Я беднее этого нищего, потому что он не знает, что мог бы иметь, а я знаю, в чем мне отказано, что у меня отобрано.
– Я?
– Ты… Это ты меня не хочешь.
Он пустился целовать ее голубоватые веки, гладил губами брови. На плечах оказался жесткий осадок морской соли. Он рвался нежностью подавить, рассеять ее печаль. Но обращался всего лишь к горячему от солнца телу, от лени позволяющему ласкать себя, как прирученный зверь.
– Прекрати, – попросила она, когда он вылущил из-под купальника ее незагоревшие груди и придавил их жадными губами. – Этот индус.
– Он далеко, – уложил ее Иштван в теплое углубление, в белую колыбель.
Она широко раскинула руки, он, как распятый на ее теле, налег сверху, сжал ее пальцы до боли, доносилась далекая мелодия, птичий грай и глубокий неторопливый стон моря, завершаемый мокрым шорохом смываемого песка, шипением всасывающейся пены.
Они отдыхали, лежа рядком, отяжелевшие, сонные, распластанные светом невидимого во мгле солнца. Их ладони соприкасались, так верилось, что они слиты, соединены милыми телами, и эта вера ходила в крови глубокой покойной радостью.
– В воду пойдешь? – лениво потянулась она.
– Обязательно, – он вскочил, крепко схватил ее за руки, поднял с песка.
Держась за руки, они пустились бегом по утрамбованной, вылизанной дочиста полосе прибоя. Серебристо-голубой океан сиял так, что глазам было больно. Океан зазывно откатился и внезапно подбросил их на высокой волне, та оттолкнула дно в глубину, нарастая, омыла прохладой разогретые тела и передала их следующей. Берег незаметно отступал, словно бы и не по их воле, домики присели на сваях, как на лапках, готовые пуститься в бег, пальмы сошли со своих мест. Казалось, Маргит и Иштван никуда не движутся, подкидываемые одними и теми же водяными холмами, а в неспешное странствие пустился берег, избавленный от их присутствия и пытливого догляда. Иштван почуял легкий напор течения.
Вокруг слышались как бы подначивающая овация мокрых ладоней и алчное причмокивание волн. В нем проснулась осторожность. Зеленая шапочка Маргит высоко подпрыгивала и проваливалась в глубокие овраги. Она плыла спокойно и смело, опередив его на несколько ярдов. Оборачивалась, морщилась, крутая соль щипала глаза. Он понимал, что Маргит увлекает его за собой, искушает, играет с опасностью.
Донеслось басовитое стенание буйка, его било волнами, он то погружался, то выпрыгивал на поверхность со стоном облегчения.
– Маргит! – крикнул Иштван. – Хватит… Пошли назад. Голос увяз в липком шелесте колышущихся вод. Сомнительно было, слышала она его или нет.
Он подплыл к буйку, схватился за шершавое от коросты ржавчины кольцо, волна тащила, силилась оторвать, выкрутить из рук опору. Надо было следить, чтобы не проехаться боком по железу, обросшему острыми ракушками.
– Маргит! – рассердясь не на шутку, крикнул он, она расслышала, изменила положение тела, зависла над бездной, подняла руку в знак, что слышит, и рука сверкнула, как лепесток фольги. Он с облегчением увидел, что она поворачивает обратно.
Пофыркивая, смешно морща нос, она с отвращением уцепилась за косо болтающийся буек, течение дергало их, тела бились друг о друга.
– Накупался?
– Должен же кто-то из нас перестать сходить с ума, – сердито сказал он, поймав облупленный жестяной конус.
– Боягуз, – по-детски восторжествовала она. – А я бы еще плыла и плыла… Вода сама держит, укачивает, как в люльке, – шлепнула она ладонью по набегающей глади волны.
– Зато я помню, сколько нам до берега, – все еще боролся он с буйком, а тот, словно чудесным образом оживший, то так, то сяк примерялся сбросить пловца, как норовистый конь седока.
Посвежевший бриз хлестал по лопаткам, сдувая с них песчинки. Пальмы стали кланяться одна другой, размахивая грузными крыльями, словно играя в полет.
Слыша, как за спиной хрупает плотный мокрый песок под быстрыми шагами Маргит, Иштван сердито покусывал губу: «Совсем с ума сошла, мне же ее не вытащить». Ознобцем пробежало сожаление, ведь могли же вместе… «И она, и я. Остался бы там с ней. И почему-то, когда вода теплым языком лижет ноги, такой финал представить себе легче, чем совместное отплытие в Австралию».
– Ой, как далеко до гостиницы, – донесся удивленный возглас Маргит. – Здорово нас отнесло... Куда ты так разогнался? Мог бы вести, себя с дамой повнимательней.
– Сама виновата. А я голодный, – еще ускорил он шаги, завидя, как взялась опережать его тень Маргит.
– А я счастлива, – размашисто зашагала она рядом с ним, печатая глубокие следы, которые море тут же стирало, утаптывало, словно напоминая: существует только миг, радуйтесь, покуда он ваш.
И было радостно, до сосущей боли радостно, что они вместе, только сам-друг, идут по узкой полосе, которую то море кроет переливчатым серебром, то солнце – зеркальными бликами. Одни, как в первый день творения. Целую вечность брести бы так под непонятный говор волн и собственный отчего-то певучий топот. Он смотрел на поблескивавших крабиков с горошину величиной, стоит протянуть к ним руку, они поджимают лапки и позволяют сбегающей воде унести их прочь, укрыть в замутненной глубине. Он упрямо нагибался, пытаясь подхватить хоть одного, но, даже прихлопнутые ладонью, они в один миг закапывались в песок, а дружественная вода затирала след.
Тогда он взялся подбирать плоские ракушки, похожие на розовые лепестки окаменевших цветов.
– Для Михая? – подала она ему резиновую шапочку.
Он наполнил ее, как шуршащий кошелек, кусочками обызвесткованных губок, обломками коралловых веточек, отшлифованными камешками с мраморным узором, их цвета угасали, стоило им высохнуть, так что приходилось их смачивать, убеждаясь, что подобрал их не случайно, а море внезапным набегом смахивало добычу с наклоненной ладони.
«Кому собираю? – тяжелым осадком набухала мысль о расплате за этот счастливый час. – Нет, не для Михая». Он безотчетно вел сбор для мальчиков, а вернее сказать, вместо них их глазами искал сокровища, раз уж они не с ним, не бредут по зеркальной воде, полной переливчатых огней. Бессмысленный рефлекс. Не слать же им этот мусор. С шипеньем набегала волна, шаркала по мелководью, он отвернулся и прямо в нее, уже размазанную в бегстве назад, набравшуюся драной косматой тины, вытряхнул всю свою добычу, дождался услужливого повторного прибега и сполоснул шапочку, мгновенно засиявшую бирюзой.
– Зачем ты это сделал? – сказала она с искренним сожалением.
Он посмотрел на овал ее лица, очерченный медью слипшихся волос, в глаза, там сияла вся светлая зелень моря, ему стало бесконечно грустно, словно он обманул, а она со всещедрым доверием согласилась на это. И поцеловал ее, чтобы утешить, как целуют ребенка, шепча: «Спи спокойно».
Перед ними блестела широкая дорога на грани воды и белого пляжа, отполированная пластающимся прибоем. Издалека приметили они на ней что-то черное, похожее на корягу, явно выброшенное океаном, словно в стремлении избавиться ото всего, что может осквернить его глубины. Бурый валик высохших водорослей и сопревших щепок с пятнами смолы остро пах. Две вороны долбили клювами огромную, как таз, медузу, выдирая клочья помутневшего желе.




