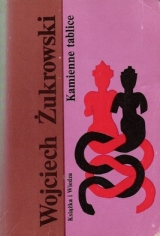
Текст книги "Каменные скрижали"
Автор книги: Войцех Жукровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
– Зачем? Здесь мы все при нем, за ним хороший уход. Лучше его не мучить зря. Больница дорого стоит. И так уже весь дом шумит, что это мы его убили, – мужчина властно взял за плечо съежившуюся у кровати сноху и приказал: – Положи ему в ноги бутылку с горячей водой… Так-то ты за ним смотрела? Это же твой муж.
– Вы, вы его замучили, вы, вы ничего не понимаете, – набросилась та на свекра, замахала у него перед носом скрюченными пальцами, словно выпущенными когтями. – Недавно зашел на барсати торгаш, он все картины купить хотел, по десять рупий за штуку давал.
– Что ж ты не продала? – взволновался брат. – Это же чистое везение.
– Я не дура… Давал по десять – заплатит и по двадцать. Иштван увидел, как веки художника дрогнули, приподнялись, зрачки все так же беспокойно бегали, но на губах была уже не гримаса, а тень улыбки.
– Одни краски дороже стоят, не продавайте, – шепотом попросил Рам.
У открытой двери в квартиру теснилась детвора, в прихожей сидела седая женщина и рассказывала им о случившемся. Пока Иштван и Маргит проталкивались на лестницу, какой-то мальчуган выхватил у девочки с бантами мешочек с шариками, те хлынули по ступенькам – звонко щелкающим каскадом. И детвора с визгом бросилась их подбирать.
– Благодарю вас, – поклонился переводчик, кончики усов у него слиплись от слюны. – Вы вернули ему надежду.
– Не я, не я, а тот торгаш. Мне он уже не верит. Когда они выехали на шоссе, Иштван обратился к Маргит:
– Еще одна жертва Будапешта. Без шуток, если бы не восстание, он стал бы нашим стипендиатом.
Взглянув на часы, он умолк, сосредоточенно приник баранке, до шести оставалось совсем немного.
– Я запаркую машину, а ты беги в кассу за билетами. Мимо индийцев проходи без очереди смело, никто не возразит… Это у них осталось с колониальных времен, иногда мне кажется, им нравится, когда их унижают.
В кино они попали без труда, прошли на балкон в ту минуту, когда гасили свет. Сели на первые попавшиеся свободные места. После цветной рекламной короткометражки демонстрирующей страдающего головной болью толстунчика, которому добрый дух предлагает чудесные пилюли «Аспро», пошла хроника. Они прижались друг к другу. Рука Маргит нашла ладонь Иштвана, погладила, а потом замерла в ласковом пожатии, словно давая знак: не мучь себя, я с тобой, то, что ты увидишь, уже быльем поросло Строительство плотины в Бхакра Нангал, современный город Чандигарх, противосолнечные бетонные решетки на окнах похожи на пустые пчелиные соты или на тонко нарезанный швейцарский сыр, дворец правосудия с объемистыми колоннами, словно ассирийский храм, какие-то волы бредут в жидкой грязи и с медлительностью улиток волокут деревянную борону, на которой стоят дети, чтобы зубья глубже вонзались в разворошенное месиво…
И вдруг Иштван вздрогнул. На экран прянула тройка истребителей, они пикировали, россыпью белых кубиков возник город, прикрытый шубой дыма, толпа – с этой высоты похожая на пролитую жидкость, она растеклась в сады и пальмовые рощи. Иштван набрал полную грудь воздуха. «Это не Будапешт и ни на один из наших городов не похоже». «Налет израильской авиации на Порт-Саид», – раздался голос диктора. Самолеты вели обстрел, и толпа распадалась на отдельные подвижные фигурки, эти фигурки метались зигзагами, а потом замирали, словно притворялись мертвыми на манер насекомых. Но Иштван понимал: это самая доподлинная смерть. На экране она выглядела даже эстетично, люди кувыркались, как кегли, уважительный шумок пробежал по залу, знающему толк в таких сценах по американским батальным фильмам.
Показ Будапешта начался с памятника, стоящего над Дунаем. Бем в шляпе с лихим петушиным пером, толпа, подняв головы, слушает оратора, взобравшегося на каменный цоколь.
Ничего необычного не было в этом кадре, но Маргит почувствовала, как под ее ладонью пальцы Иштвана мертвой хваткой вцепились в подлокотники кресла, у него изменилось дыхание, он вздернул голову, словно метнулся навстречу картинам на экране. Обычные лица, обнаженные головы поющей толпы он встретил глубокой душевной дрожью, потому что это были венгры, его земляки, он ощущал связь с ними, не постижимую для Маргит, единство, которого ей никогда не будет дано. Украдкой она следила за ним, через его отклик воспринимала смысл образов, переменчивых, как гонимые ветром облака.
Наезд камерой на полуоторванную табличку с надписью «Stalin korut», из-под нее видно прежнее название «Andrassy». Объектив переводят на улицу, по которой течет толпа, со зданий свисают длинные полотнища с белой полосой посередине, а в центре этих полос – дыры… Звезду повырывали. Артиллерийская батарея в парке ведет огонь в промежуток между домами, солдаты в мундирах, похожих на русские, с бантиками на пилотках, баюкают на руках длинные снаряды. У тех, кто командует, изо ртов вылетают облачка пара… Звука нет, только музыкальное сопровождение, кадр дергается, видимо, съемку вел с руки случайный свидетель. Толпа на тесной площади, головы задраны, вдруг из окна на пятом этаже вылетает человек, грузно, как мешок муки, ударяется о булыжник, поблескивающий от влаги. Других, одетых в мундиры, выводят из дома, пинками гонят к стене, какой-то молодой мужчина в вязаной шапке с кисточкой размахивается двустволкой и наотмашь бьет по спине упирающегося офицера с такой силой, что отламывается приклад… Взбешенный, он продолжает свое, орудуя стволами, как колом, отломанный приклад с ремнем прыгает по булыжнику. Люди в мундирах, стоящие у стены, тянут руки, что-то объясняют, умоляют. И вдруг судорога искажает их лица, они делаются как дети, корчащиеся от страха в темноте и кричащие: «Мама!» А это уже в них. Они падают тупо, не защищенным рукой лицом ударяются о плиты тротуара, другие, отшатнувшись к стене, оседают, трутся о нее спинами, оставляя черный след, потому что кровь на экране выглядит черной, а мольба о пощаде – черным пятном открытого рта, – черные знамения ночи, которая обвалилась на них.
– Нет, нет, – доносится из зала звенящий от отвращения голос. Иштван оборачивается, словно хочет увидеть, кто крикнул.
Горящие дома, танки, целая танковая колонна, украдкой заснятая из-за шторы, она грузно сворачивает в неизвестность, куда-то за угол, как составная гусеница.
– Я живу недалеко отсюда, – шепчет Иштван в ухо Маргит и тут же устремляет взгляд на интерьер комнаты на экране: острое лицо фанатика, кардинал дает интервью в американском посольстве.
Тут уже есть звук, и после первых венгерских слов вступает диктор и читает перевод. Маргит, довольная, что, наконец, хоть что-то может понять, кивает в такт. И слышит шепот Иштвана:
– Призвал к оружию, а сам сбежал. Он тоже повинен в этой крови.
Пропускной пункт на границе, толпа, волокущая чемоданы и узлы. Льет дождь, холодно, потому что дымится пар изо ртов, кто-то кого-то упрекает, плачет. Солдаты бросают оружие перед офицером погранохраны. Австриец отработанным движением ощупывает бедра беженца, проверяет внутренние карманы шинели, спрашивает на жестком немецком диалекте: «Гранаты есть? Оружие все сдано?»
Женщины в белых чепцах с повязками Красного Креста на рукавах несут с полевой кухни еду для детей. Весь экран заполняет наезд камеры: улыбающееся детское личико со слезами на щеках, снятое поверх солдатского котелка, над которым клубится парок.
Сами набегают слезы, Маргит шмыгает носом. «Он мог там быть, – сжимает она руку Иштвана, – его могли убить, похоронить вон под теми страшными безлистыми деревьями со змеящимися ветвями. Хоть бы удалось ему уйти за границу… Запад спешит, Запад непременно ему поможет». И пламенем вспыхивает в ней радость, ведь он же здесь, в Дели, за границей, очень далеко от Венгрии, он не вернется туда, потому, что она остановит, преградит дорогу.
– Видела, как было?
– Ужасно.
Иштван вздрагивает, Маргит чувствует это и поправляется:
– Грандиозно.
– Тебе нас не понять, – начинает было он и резко умолкает. С экрана машет им рукой девушка, мчащаяся на водных лыжах, оставляющих два пенных следа. – Пойдем, – берет он Маргит под руку, берет резко, почти дергает. – Давай выйдем.
Маргит послушно встает. И тут загорается свет, становятся видны пустые стулья и толпящиеся в боковых проходах опоздавшие зрители, теперь они валом валят в ряды, отыскивая свои места. Направляясь к выходу, Иштван замечает изменившееся бледное лицо Ференца, тот тоже видит Иштвана и провожает взглядом. Иштван отпускает руку Маргит, шепчет:
– Иди быстрее…
Они давно уже сидели в машине, а Иштван все не включал и не включал мотор.
– Что с тобой? – наклонилась к нему наконец недоумевающая Маргит. – Давай я поведу.
– Хорошо, – легко согласился он.
Они поменялись местами, и Маргит подала ему зажженную папиросу.
– Иштван, на чьей стороне ты?
Он затянулся дымом и тихо ответил;
– Когда я говорю с Ференцем, я понимаю, что восставшие правы, и точно так же думаю, когда говорю с послом, а когда говорю с Юдит, с другими, то теряюсь в мыслях, как спасти Венгрию от раскола. Само существование государства… Оно может перестать существовать, нас разделят, мы исчезнем с географических карт. – Такое случалось даже с нациями покрупней.
– Неужели и до этого может дойти? – недоверчиво поморщилась Маргит. – Но ты не ответил… За кого ты сам?
– Не знаю, не знаю, я тебе совершенно искренне говорю. И это-то меня и мучит, доводит до бешенства… Просто я слишком мало знаю о том, что произошло…
Чокидар с бамбуковым шестом приветствовал их по-военному.
Согнувшись в кресле, Иштван долго раскуривал папиросу.
– Печально, что тебе пришлось смотреть на это.
– Нет… Я должен понять. Только сейчас я представляю себе размеры катастрофы.
– Если бы даже ты был в Будапеште, ты все равно видел бы только разрозненные события. Не поддавайся отчаянию, думай о том, что можно спасти, как выбраться из западни. Те, кто ушел за границу, венграми быть не перестали. Они могут сделать для вашего дела больше, чем те, кто остался дома с кляпом во рту.
Он, прищурясь, посмотрел на нее.
– Так кажется, но это иллюзия. На какое-то время мир взволнован трагедией Будапешта, но завтра эти люди надоедят, окажутся обременительными иностранцами. Чтобы прижиться в Канаде, в Бразилии, где беженцам предложено гостеприимство, надо трудиться, стать, как все, кончить возиться со своими язвами. Короче говоря, год за годом изживать свое происхождение, свести его к спрятанным подальше сувенирам, в конце концов, отречься ото всего, во имя чего когда-то вышел в бой.
– Стало быть, ты считаешь, что они должны были остаться? – нахмурилась Маргит. – А ты? Как бы ты поступил? Вернулся бы к этому Кадару, и будь что будет?
– Что мне Кадар? Я вернулся бы на родину. Пойми, вы еще ни разу не были в опасности по-настоящему. Твоя Австралия – это континент, а не просто государство. Только тот, кому душно, понимает, что такое открытое окно. Кадар должен был принять лозунги восстания, потому что перемен требовала вся нация. Если он честно хочет претворить эти лозунги в жизнь, долг каждого – ему помочь. Если он лжет, ему нет спасения. Но это все в будущем, только время покажет.
– Значит, ты предпочел бы выждать здесь, – с полуоткрытым ртом затаила дыхание Маргит.
– Это не от меня зависит. Со мной все обстоит иначе. Маргит, я тебя люблю. Помни об этом.
Маргит скорбно усмехнулась, прикрыла голубоватые века, он только сейчас осознал, насколько она издергана, выбита из колеи, а в нем столько нежности к ней, столько благодарности. Ведь она, пусть по-своему; пусть иначе, но разделяет с ним душевную смуту.
Он встал, присел на подлокотник кресла, она склонилась головой ему на грудь, они обнялись и замерли в молчании доброты друг к другу.
– Скажи, – тихо заговорил он, поглаживая ее рыжие рассыпающиеся волосы, – как у тебя дела в университете? Студенты интересные? Перед лекциями не робеешь?
В начале восьмого он беспокойно закружил по комнате. И вдруг объявил, что у него срочное дело, о котором совсем позабыл, и схватился за ключик от «остина», хотя повар уже накрывал на стол.
– Через полчаса вернусь. Очень прошу, извини меня. Маргит кивнула, мол, понимает и подождет.
– Не поужинаете ли, госпожа, ведь у меня все готово? – хлопотливо спросил повар. – Или подождем, пока вернется сааб?
– Я не голодна, – спокойно ответила Маргит, но, когда наливала себе виски и нажимала кнопку на шумливом сифоне, руки у нее дрожали.
Когда Иштван вернулся в назначенное время, у нее не хватило смелости спросить его о чем-либо. Только когда они уже засыпали, прижавшись друг к другу, и он поглаживал ее колено на своем бедре, прозвучало признание:
– Я обманул тебя, Маргит. Но мне было так стыдно. Я ездил в кино еще раз посмотреть этот журнал. Вошел без билета, дал контролеру рупию. Стоял в темноте и смотрел. Мне все казалось, что, когда мы вместе смотрели, я пропустил какие-то очень важные подробности… В лица вглядывался, вдруг попадется чье-нибудь знакомое.
Маргит слушала, подобравшись, как от озноба. «Все, что там, ему всегда будет ближе, – билась отчаянная мысль. – Он гладит меня безотчетно, как собаку».
Он совсем иначе истолковал ее неподвижность, внезапную безответность.
– Умница ты, Маргит, большая умница… О том, что там произошло, лучше не говорить.
– Нет, – шевельнулась ее голова на подушке. – Мы должны говорить друг с другом. Когда ты молчишь, я не знаю, извлек ли ты из этого какой-нибудь урок. Понял ли, что жертва была напрасна? Меня приводит в ужас мысль, что завтра тебя может увлечь какой-нибудь самоубийственный порыв… Чужой опыт для вас словно не существует. Неужели каждый должен подставить спину и получить свою порцию?
– Это не так, – вскинулся он. – Ты же видишь, я никаких глупостей не делаю.
– Я хочу и прошу, чтобы ты не возвращался туда, – твердо сказала она. – Я хочу тебя спасти Я верю в твой талант. Ты думаешь, тебе там дадут писать то, что ты хочешь? И так, как ты хочешь?
– В данный момент наверняка нет.
– Ну, так наберись же смелости и скажи: «В клетку я не вернусь».
Впервые она говорила так резко. Вид потока беженцев придал ей храбрости, если их так много прорвалось через границу, то почему вот этот, единственный, избранный, все еще колеблется?..
– Так и говорю, – шепнул он, касаясь губами ее виска.:– Так и говорю, и пока никто меня туда не гонит.
– Должна тебе напомнить, что на будущий год я контракта не продлила. С января я свободна.
– И что собираешься делать? – приподнялся он на локте.
– Ждать. Тебя. Буду терпеливо перерезать нити, которые все еще связывают тебя с гиблым делом… Самая крепкая связь сожжена восстанием. Ты сам видел, что те, кто хочет бороться, настоящие патриоты, покинули Венгрию. Они возмутят спокойствие сытых, не позволят свободным нациям спать, станут живым напоминанием. Тебя ждет Австралия, целый континент, ты в силах потрясти ее, пробудить сочувствие к твоей стране.
Иштван слушал, сердце его трепетало, словно сдавленное чужой рукой.
– Ведь я не заставляю тебя решиться сей же час или завтра. Понимаю, тебе это будет тяжко, но ведь я-то с тобой. Не позволю, чтобы тебя уничтожили, ты должен писать, творить… Разве в вашей литературе нет таких поэтов, которые уходили на чужбину и потом возвращались прославленными, их книги передавали из рук в руки, как светочи?
– Разумеется, были такие.
– Вот видишь, вот видишь же, – торжествовала она.
Они лежали в темноте. Проезжающие машины бросали на стены движущиеся пятна света. Вид был такой, словно кто-то старается заглянуть внутрь, подсвечивая фонариком. Иштван сжался от пронзительного чувства отвращения. Не к Индии, а к воспоминаниям о шепоточках, о том, как украдкой на взгляд оценивалось расстояние до непрошеных ушей. Одни приятели предостерегали от других, как камни, метали слова: «агент», «шпик», «доносчик». Из уст в уста передавался анекдот о том, что желающий стать членом союза писателей должен представить две книги и три доноса на коллег. Премии, одобрительные рецензии в печати, шум вокруг одних имен и названий, хоть им и грош цена, и исчезновение других, читатели дивились, а внезапная тишина воцарялась по нажатию кнопки, по явному указанию людей, мало что общего имеющих с культурой. Этого не забыть, и все-таки, когда Маргит требует, чтобы он разделил с ней неприязнь к Венгрии, в нем оживает дух противоречия. Венгрия – родина. О ней, как о матери, нельзя говорить дурно.
– Ты думаешь, я дура, не понимаю, что у вас творилось, – жарко шептала она, жар ее дыхания он чувствовал на шее. – Я хотела лучше понять тебя, я прочла все, что вышло по-английски о странах за железным занавесом…
Признание тронуло его и немножко рассмешило, она, видимо, почувствовала это, потому что так же горячо продолжила:
– И вовсе не смешно. Ты скажешь: «Все пропаганда и клевета», а я помню, что говорил Хрущев, тут и приплетать ничего не надо…
Он привлек ее, обнял, стал баюкать на груди, чтобы успокоить. Дом затопила тишина. Даже большие лопасти вентилятора под потолком застыли на месте, а двигались, бесшумно поворачиваясь и удлиняясь, одни тени от света фар изредка проносящихся мимо автомобилей.
– За Британией тоже числятся тайные темные дела, вся разница лишь в том, что ни один премьер не осмелится сказать о них так в открытую, – с горьким волнением выдавил он, словно обвинял в ответ. – Пусть индийцы расскажут тебе про ткачей, как им пальцы рубили, про убийство семьи последнего Великого Могола, здесь, в Красном форту, майор королевских улан перебил даже малых детей и за это был возведен в пэры Англии. А разжигание свар между арабами, потому что нефть дороже крови? А генерал Темплер, который набирал даяков для борьбы с партизанами в Малайе и расхваливал их за то, что рубят головы пленным?.. Ну, а Суэц, ты же своими глазами видела явное преступление, но кому дело до бедноты, деревушки можно превращать в цель безнаказанно, как на полигоне.
Ее тело у него в руках налилось тяжестью, стало чужим. От этого стало больно, и все-таки это был его долг – защищать мир, в котором живешь, с которым соединяет общность борьбы и творения.
– Если бы я не понимал тебя, любимейший ты мой человек, если бы не был убежден, что твои слова вызваны тревогой за меня и растерянностью, что ты хочешь мне добра и тебе кажется, что ты спасаешь меня, – после того, что я услышал, нам трудно было бы разговаривать…
Он продуманно отмерял слова, держа ее в объятиях, высказать накопившуюся горечь – нелегкое дело.
– Ты ко мне добра, очень добра, но не потому, что у тебя характер покорный, а потому, что действительно думаешь обо мне, об Иштване Тереи, у которого всего одна жизнь. Тебе даже неведомо, имеет ли какую-нибудь ценность то, что я пишу, и все-таки ты веришь в мои способности, а в моем поведении, в моих обращенных к тебе словах и нежных порывах находишь уверенность, что не ошибаешься. Любовь дает тебе силу познания, иногда мне кажется, ты знаешь обо мне больше, чем я сам. Ты предчувствуешь поэта Иштвана Тереи, каким он мог бы стать, если бы соединился с тобой, ты знаешь, как сильна любовь. Ты знаешь свою силу, пылкую готовность преданности… Иногда я по ночам просыпаюсь, потому что мне снишься ты, и я ищу тебя. Горло перехвачено, на губах вкус крови. Я готов кричать, что тебя здесь нет, потому что мной овладевает мысль, что я тебя потерял, что ты отреклась от меня. Маргит, я убежден, что меня никто так не любил, как ты, и никто уже меня так не полюбит, что мне в руки дан неоценимый, неповторимый дар. Если бы тебе сказали! «Чтобы Тереи жил, ты должна умереть», ты ни на миг не поколебалась бы. Ты сказала бы: «Берите меня». А разве может быть большая жертва, чем жизнь? Она понемногу оттаивала, прижималась лицом к его плечу, когда он умолкал, легким прикосновением губ словно просила, чтобы он продолжал говорить на чужом для него языке, она помнила, что этот язык ему чужд, ей не давала покоя мысль, что эти слова по-венгерски звучали бы иначе, наверное, много красивее, и подводили бы ближе к тому, что чаялось постичь, познать, понять до самой глубины.
– Если бы ты просто отдавалась мне, я был бы тебе благодарен, я желал бы тебя, потому что ты для меня прекрасней всех на свете, но это было бы не так много. Это был бы дар, но не такой уж необычайный. Маргит, настоящая любовь – редкостная штука, хотя говорят о ней много и еще больше пишут. Те, кто не испытал ее, готовы поклясться, что ее на свете нет. Ты зрелая умная женщина, у тебя есть профессия, жизненный опыт. Скажи, сколько раз ты любила так, как теперь? Ты сама говорила, что в итоге что-то значат лишь две любви. Одна – давняя… Стенли, любовь самая жаркая, по-девичьи наивная. Неосуществившаяся, не прошедшая испытаний, скорее предчувствие стихии: по шуму поднесённой к уху раковины ты воображала себе океан. Были мужчины в твоей жизни, ты вычеркнула их имена, потому что, как ты сама говоришь, все это лишено было смысла, пока не появился я. Занесенный с другого конца мира, принадлежащий к чужому народу, с трудом выражающий до конца мысль на твоем языке. Ты не знаешь тысяч дел, которые занимают меня, и все-таки, не колеблясь, говоришь: «Это он. Тебя я ждала, одному тебе хочу принадлежать, больше того – хочу помочь тебе стать тем, кем предназначено».
Ее бедро соскользнуло с его колена, она оперла голову на руки, он неясно различал влажный блеск широко открытых глаз.
– Говори, – просила она, – говори.
– В последний вечер в Агре ты сказала, присев ко мне, когда я проснулся, – у тебя на лице я видел бездну доброты и преданности: «Вот бы ты был прокаженный…» Я в ужас пришел, у меня перед глазами возникли обкромсанные, без ладоней и стоп, туловища на колесиках, мычащие попрошайки, которым издали, бросают милостыню. Я рассердился на тебя, крикнул: «Ты что, с ума сошла?» А ты нежно погладила меня и сказала: «Тогда весь свет отрекся бы от тебя. А я не отступилась бы, и вот тогда ты, наконец, уверился бы, что я тебя люблю». Мне это показалось вычурной метафорой, а сегодня я понимаю, что в ней была доля правды, ты способна на это. С глубочайшей, даже болезненной радостью ты могла бы пожертвовать собой сверх всего, что способен выдержать человек, отдать себя расточительно, безрассудно.
– Говори, – шепнула она, когда он умолк.
– Хорошо, Маргит, – положил он руку на ее теплую и дружественную ладонь, – но предупреждаю, тебе будет больно.
– Говори, – выдохнула она, ведя губами по его груди.
– Ты узнала про моих мальчиков и запомнила, что они у меня есть. И купила для Гезы и Шандора разных деревянных зверушек: слонов, буйволов, тигров… Выбирала старательно. Я все помню, и твою дерзкую улыбку, потому что это должна была быть и была неожиданность для меня, ты меня пристыдила, это ты о них подумала, а не я, их отец. Я каждый твой жест помню, помню, как смешно ты морщила нос, проверяя, вправду ли это сандаловое дерево… Коробка игрушек от тебя, но ты – в тени, стало быть – от меня, а тебе радость, что ты дополнила меня, сделала лучше, чем я есть. А теперь ты хочешь, чтобы я уехал с тобой, не колеблясь, отбираешь у детей отца. Маргит, я люблю тебя, но я не хочу из-за тебя терять…
Она дернулась, как рыба, почуявшая вонзившийся крючок.
– Нет, Иштван, нет, – отчаянно крикнула, ударяя кулаками в подушку. – Ведь ты же меня знаешь! Не думай обо мне так дурно. Я одного только хочу, я хочу избавить тебя от судьбы тех, в кино меня трясло, ведь ты мог оказаться одним из расстрелянных, растоптанных или изгнанных, бездомных, которые уходят скитаться с горьким сознанием поражения или недомыслия, с которым довели до разрушения свою любимую столицу. Ты хочешь быть свободным. Художник должен быть свободным, и только в этом я хотела тебе помочь. Я дура, дура. Прости, Иштван. Я никогда не потребовала бы, чтобы ты отрекся от детей. Она ударилась лбом о его ладонь, горячие слезы потекли у него по коже. Он гладил ее затылок, жалея и ее, и себя. И до боли сжал челюсти.
– Но я не хочу, чтобы ты страдала.
– Ты правильно поступил, меня надо бить, когда видишь, что я поступаю бездумно, подло. Я хотела как лучше и только сейчас вижу, что любила недостаточно крепко. Не попомни этого мне. Прошу тебя…
– А я почти как прокаженный, Маргит, по крайней мере, для трети человечества, потому что я оттуда, от красных, ты предпочла бы, чтобы я отрекся от страны, а она там; чтобы я бросил семью, а она там; чтобы я забыл язык, на котором говорят – там… Ты хочешь, чтобы я исцелился через измену. Призадумайся, ведь ты же будешь меня презирать, ты никогда не сможешь мне довериться. Закрадется мысль: «Раз он так многому изменил, как я могу быть уверена, что он и от меня не отречется».
– Не мучь, – простонала она, – я понимаю, что говорила дурно, но в действительности я так не думала.
Он был с ней, она чувствовала его присутствие краешком тела, соприкасавшимся с ним, ее лоб лежал на его раскрытой ладони, и все-таки ей казалось, что он где-то далеко в стороне и слегка презрительно смотрит оттуда, вкушая горечь ошибки.
– Я виноват, Маргит, – сказал он, страдая вместе с ней,– я не должен был тебя любить. Шага не должен был сделать навстречу, не должен был каждым жестом, каждым поцелуем клясться в верности. Я не смог, не сумел отказаться от тебя. И сегодня это мне не под силу. Я так счастлив, что нашел тебя, что для меня есть ты. Не заставляй меня ускорять приход неизбежного часа. Это я должен умолять тебя о снисхождении, потому что, когда говорю: «Останься со мной», я не имею в виду «до последнего часа», часа собственной смерти. А должно быть так… Как последний трус, я стараюсь оттянуть тот недалекий рубеж: через год, через два, – тот порожек, которого мы не переступим вместе. Мне кажется, я хорошо знаю тебя и понимаю тебе цену. Иногда я молюсь? «Господи, сделай ее счастливой», И ведь этим я призываю меч, который ляжет меж нами, это молитва против тебя и против меня самого. Ибо, если я не в силах отринуть, похоронить прошлое, сказать: «Иштван Тереи умер», то умирает отец, умирает венгр, а родится кто-то другой, кому нечего предложить людям, кроме горя и отвращения к самому себе. Ведь тот, кого ты увезла бы отсюда, это был не я, пойми, я сам тоже презирал бы себя… Разве ты можешь быть счастлива с таким человеком?
– Иштван, я не должна была этого говорить, – всхлипнула она.
– Должна была. Мы слишком долго избегали этого разговора. Ты думала: «Пусть решает он, я не хочу, чтобы дело выглядело так, словно я за ним охочусь. Не буду торопить, пусть все произойдет само собой». А я обходил вопросы, которые неминуемо должны были быть поставлены, потому что этого требует честность, мы оба, по собственной доброй воле, поддерживая друг друга, обязаны на них ответить. И ты должна помочь мне в этом, и я – тебе.
– Я думала об этой минуте, мне представлялось, что ты именно это и скажешь, – захлебнулась она рыданием, – Но ведь ничего еще не решено. Все еще может перемениться, – в ее голосе зазвенела бескрайняя надежда. – Ведь не затем же Он мне тебя дал, чтобы побольней истерзать… Я вижу, насколько могу быть счастлива. Я жажду душевного покоя, который нахожу в тебе, и этого я должна быть лишена? В насмешку? Он не может играть нами так жестоко.
Она дышала прерывисто, речь ломалась от дрожи, еще не прошедшей после недавних слез.
Он понимал, что она уже не к нему обращается, она ведет торг за него с Тем, чье существование они оба хоть и признают, но в расчетах стараются обойти, И гладил ее по голове, тяжело, как отсеченная, скатившейся ему на грудь. В этой ласке не было ничего чувственного, была только нежность, только надежда утолить прокатывающееся, словно гонимая ветром гроза, терзающее плоть рыдание.
Они лежали рядом, их дыхание смешивалось, ее чуть ароматные волосы были у него под виском. Над ними громоздилась тьма, она давила так, что трудно было дышать. Ему казалось, что слышен шелест витающих чешуек невидимой сажи, хотя, может быть, это терлись о его грудь ресницы Маргит. Они оба представились вдруг парой только что вылупившихся цыплят, квочка их не приняла, их посадили в горшок, набитый старым пером и пухом, неведомая судьба страшит их, они жмутся друг к дружке, ищут крепости духа каждый в собственном тельце.
Он слышал поспешный хрустик лежащих на столе часов, – металлический кружок издавал еле ощутимый звук, словно челюсти хищного жучка неутомимо перемалывали приливающую тьму. Дыхание Маргит стало ровным, видимо, она закрыла глаза, потому что выжатая веками одинокая запоздалая слезинка прокатилась, щекоча, по ребрам, руки затекли, но он остерегался шевельнуться, чтобы не разбудить ее. Он думал, она уже спит, как вдруг она негромко сказала удивительно трезвым, холодным голосом:
– Кончим этот разговор, Иштван, хватит, мы потерзали друг друга.
– Хорошо.
– Тебе надо поспать. Эти две недели тяжело тебе дались, надо отдохнуть. Спи.
– Не могу…
Она погладила ему лоб, словно стирая неотступные мысли.
– Думай о мальчиках, они тебя любят, хоть, наверное, не понимают этого, не ценят, что у них есть ты… Думай о них. Они живы и нуждаются в тебе.
– Я думаю о тебе.
– На это у тебя будет много времени, – сказала она, – покуда ты – жив. Когда меня с тобой уже не будет. Оба молчали, прислушиваясь к собственному ускоренному сердцебиению, устрашенные ее последними словами, бессонны ночи одиноких, разлученных, когда память кровоточит картинами прошлого и в этой долгой пытке неотвязно маячит вопрос: «Почему? Неужели нельзя было иначе?»
Он поцеловал ее, как ребенка, заботливо укрыл одеялом и, лежа навзничь, стал слушать, как она дышит во тьме, которая собирается в стаи, взлетает и опадает черным крупчатым осадком. Показалось, что жучок в часах ускорил свою работу, неутомимо грызущий, точащий время. Его крохотные челюсти впились Иштвану в самое сердце.
– Тебе надо куда-нибудь отлучиться на время, – пододвинула ему Маргит чашку утреннего кофе.
– Посол то же самое советует. Но сейчас не могу. Не уверен, что там действительно все успокоилось.
– И что ты ответил? Уж если он отпускает, беги отсюда.
– Я сказал, что поеду в Кочин.
– Где это?
– На юге, на самом краю Индии.
– Почему туда?
– Из духа противоречия, чтобы сбить его с толку. Когда я приехал в Индию, шел цветной фильм: море, пальмы, белые пляжи. Хижины, океан и на горизонте паруса, будто воздушные змеи. И я сказал себе: «Обязательно там побываю». Зима – самое время для этого, не так жарко.
– Вот и побываешь.
– Еще не знаю.
– Я освобожусь пятнадцатого декабря, – прикинула Маргит.– Мой контракт кончается, я его не продлила.
– А ты поехала бы?
– Да. Понимаю, что это бессмысленно, но буду тащиться за тобой до последнего.
– Не говори так.
– Кочин, Кочин, – тихо повторила Маргит, – От посольства, поди-ка, достаточно далеко. Так к тебе очень вяжутся из-за меня?




