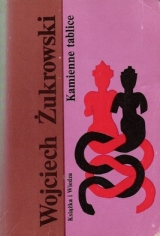
Текст книги "Каменные скрижали"
Автор книги: Войцех Жукровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
«Это же баллада, баллада о смерти», – подумал Иштван и тут же устыдился, что в такую минуту способен помнить об искусстве.
– И первой раздвинула занавес она, одетая в белое сари. Потом выбежала толпа мальчишек и вышли люди, которые его несли. Но я уже знала, что он погиб, потому что она шла впереди носилок.
– Дурга все время видела ее, – пояснила старуха, сняла сковородку с огня и проговорила что-то по-своему, как они поняли, предлагая Дурге поесть… Та отрицательно повела забинтованной рукой, и старуха принялась жевать тяжелое, непропеченное тесто, полив оладьи тростниковой патокой.
– Значит, – и Дурга ее видела, – зачарованно прошептал Михай.
– Кого? – спросила Маргит.
– Сестру свою покойную, – ответила старуха, выворачивая голову набок движением кошки, отгрызающей голову рыбе, и причмокнула, облизывая кончики пальцев и ладонь, куда пролились липкие сладкие капли. – Она пришла за ним.
Упрекая себя за бесчеловечное любопытство, схожее с тем, с каким хирург зондирует рану, Иштван со странным упоением внимал этому двуголосию, идущему под аккомпанемент переменчивого бренчанья швейных машин в соседней комнате, ударов молота во дворе о сталь, поющую треснутым колоколом, стрекота велосипедов внизу, – всех этих звуков, мешавшихся с печальным, молящим, безнадежным клекотом продавцов, сидящих на корточках вдоль поребрика. Он насыщался этим страданием, словно пищей, от которой зачнутся стихи, строфы об индийской вдове. И пришла мысль, что он оказался тут не случайно, что некая высшая сила, ведающая каждый шаг, повелела ему отсечь даже тень сочувствия, но вбирать и запомнить, дабы увековечились судьба погибшего и эта молодая женщина, что вот-вот исчезнет в кишащем муравейнике Индии. От силы неделя, и Дурга, нынче идущая стезей утраты, без следа растворится в шелесте шелковых сари, в гнусавом пении патефонов и лопотании бубна.
– Они положили его, сняли кожаный костюм, начальник тут же свернул костюм и спрятал под мышку. А мне так хотелось, чтобы его сожгли в этом костюме. Он так нравился Кришану, – негромко вспоминала Дурга. – Мотоцикл забрали полицейские, я увидела только, что он погнулся, и у меня от этого заболели кости, как сломанные. А Кришан лежал, повернутый головой ко мне, он смотрел на меня, я стала поправлять ему голову и тогда нащупала, что у него вот тут, – она указала перевязанными пальцами себе на темя, – все совсем мягкое. И тут у него из ноздри выкатились капельки крови, – вспоминала она каждую подробность беды. – А людей вокруг становилось все больше и больше, чьи-то колени толкали меня в спину. Кто стоял рядом, молчали, кто был сзади, те с криком проталкивались вперед. А увидев, что случилось, замолкали, как я.
Бренчали швейные машины, грохотал молот, посвистывали удивленные дрозды. Старуха покончила с едой и теперь, обернувшись к ним, бесцеремонно разглядывала Маргит, ее рыжие волосы и белую пластиковую сумку.
– Не остались ли после Кришана какие-нибудь бумаги? – не отступался Тереи. – Он тебе не говорил, как называется деревня, где произошел несчастный случай с коровой?
– Нет, – Дурга призадумалась, приподнялась. – Там, за фотографией, его бумажник, пусть сааб посмотрит.
Старуха вскочила и принесла потемневший от пота бумажник дугой, сохранивший форму груди, которая уже рассыпалась в пепел. Отделения были битком набиты старыми удостоверениями, был там лотерейный билет, несколько квитанций и какие-то листочки, исписанные змейчатым письмом хинди. Иштван разочарованно отложил их отдельно, на кровать. «Может, так оно и лучше, соблазн не будет мучить, хотя, захоти я только, могу написать губернатору, сообщат. А если предпочту остаться в тени, могу пустить по следу Чандру».
Передернуло от гадливости, «Чего ищешь? Хочешь чувствовать себя в безопасности, запасшись сведениями, или о справедливости печешься? Оставь печься тому, от кого равно не скроются ни малые сии беззащитные, ни сильные мира», – припомнилось ему из Библии.
Сунув руку в карман, он вынул деньги, немного набралось, но было чувство, что должно обозначить хотя бы готовность помочь. Маргит добавила от себя.
– Нет, ни к чему они мне, – стала отказываться Дурга.
– Поблагодари за милосердие, – выговорила ей старуха, спрятала деньги в бумажник и положила бумажник на место, и фотографию, на поблескивающую, как свежий срез на свинце, жестяную крышку сундука.
– Что за бумаги ты искал? – спросила Маргит, когда они спустились во двор.
– Потом… Сначала отвезем домой малыша, – глянул Иштван в пленительной чистоты сияющие большие глаза, какие бывают у ангорских кошек. – Но никому ни слова.
– Не доверяешь – не говори, – кротко усмехнулась Маргит. – Тебе спокойней, а мне и вправду нужды нет знать. Михай, садись ко мне. Пусть господин Тереи побудет один.
Непрерывно сигналя, Иштван втиснул «остин» в поток велосипедистов, не спеша проталкивался к яркокрасным воротам старинных городских укреплений. Но, видно, молчание Иштвана задело Маргит, потому что, скрестив руки на спинке переднего сиденья, она вдруг заговорила:
– Я была чуть постарше, чем Михай, когда у нас на ферме случился пожар. Сгорел не только барак со всем скарбом пастухов, но и кирпичный склад с настриженной шерстью. Огонь обронили бродяги, их нашли тут же, они перепились и спали в кустах. Их приволокли и бросили в пепелище, глубокое, еще раскаленное, живьем их зажарили. У нас народ суровый, а тут люди в бешенство пришли. И не удивляйся, они целый год не разгибались, а заработок-то пропал, весь пай каждого был в сгоревшей шерсти. Я этого не видела, Стенли видел и велел мне поклясться на своем ноже, что я никому не скажу. Я ужасно струсила: он сказал, что, если проговорюсь, он мне язык отрежет. Не мальчишка был, а бес, – в ее голосе звучало уважение. – Отец не знал, а я знала и свое слово сдержала. Тебе первому об этом рассказываю.
– Как это? – вскинулся Иштван. – И никто не видел обгоревших тел? И не было никакого следствия?
– Было. Приехал коронер, но рабочие все как один дали показания, что пожар начался от сарая, где на шерсти спали двое бродяг. Мол, занесли огонь и сами сгорели, их вина, и сами себя наказали, чего тут расследовать?
– Обученьице, крепко тебя там вышколили, – сверкнул глазами Иштван.
Не доезжая до посольства, он высадил мальчика на углу.
– Михай, помни, – многозначительно приложил он палец к губам.
Мальчик понимающе кивнул.
– Я тебя возил мороженым угостить. Мальчик поджал ногу и почесал лодыжку.
– У портных блох полно, – обидчиво пожаловался он. – Дядя Пишта, думаете, нам удастся напасть на след и найти преступников?
– Будь умничкой, – погладила Маргит мальчика по русым волосам.
– Дядя Пишта, а кто, по-вашему, убил Кришана?
– Еще неизвестно, что скажет полиция, они взяли мотоцикл на экспертизу. Но, по-моему, это было не преступление, а несчастный случай. Ну, давай, беги домой.
Мальчик побежал прочь, подпрыгивая, как козленок, от бьющей изнутри энергии И даже не обернулся, когда «остин» тронулся с места.
Вечер расцветил небо во все оттенки малинового, легкий ветерок шевелил упругую перистую листву. Когда машина остановилась перед домом, Иштван услышал мирный плеск струи, льющейся из открытого гидранта, близился сухой сезон, и надо было полить газон.
– Все в порядке, сааб, – доложил чокидар, ударяя в землю бамбуковым шестом, из-под обвисших полей полотняной шляпы сияло добродушием улыбающееся монгольское лицо. – Сааб, я женюсь, – радостно объявил он. – Повар обещал мне помочь.
– Смотри в оба, а то он тебе поможет. Повар, он хитрый, – смеясь, предупредил Тереи.
– Конечно, хитрый. Взялся наготовить всего на свадьбу, но я ему денег в руки не даю, я с ним сам хожу за припасами.
Едва они вошли в дом, Иштван в полумраке холла крепко обнял Маргит и начал целовать.
– Сделай все, чтобы приехать в Дели. Ты мне так нужна.
– Но я того же хочу, – она ласково взъерошила ему коротко стриженные, жесткие, как щетка, волосы.
– Ты представить себе не можешь, что за радость встречать тебя каждый день, слышать твой голос. Ты должна быть рядом.
– Да приди ты в себя хоть чуточку, – в голосе Маргит звучала воркующая нота возбуждения.
– Маргит, мне тревожно, я инстинктивно чувствую, что… Повар! Эй! – окликнул он, завидя, как сквозь приотворившуюся дверь бесшумно всовывается натянется к выключателю черная ладонь, словно отрезанная белой манжетой рубашки. Но прежде чем он успел предупредить Перейру, вспыхнул яркий свет и по потолку порскнули ящерицы в поисках тени от широких лопастей невключенного вентилятора. Иштван отпустил Маргит, чуть усмехнувшись про себя испугу повара.
– Слушаю, сааб.
– Дай поесть, только быстро.
Перейра стоял за порогом, седоватые волосы закрывали ему лоб, взгляд был полон доброжелательного потворства.
– Есть отличная рыба, соус с изюмом, салат… – перечислял он, загибая пальцы, сероватые со стороны ладони.
– Не болтай, а неси на стол! Мигом!
Повар высмотрел в глазах господина искру доброго настроения и не испугался повышенного голоса. И изобразил поспешное послушание поклоном и демонстративным шарканьем спадающих туфель в коридоре.
– Что тебя мучит? – спросила Маргит, направляясь в ванную вымыть руки. – Не можешь сказать?
– Могу, – раздраженно махнул рукой Иштван. – При мальчонке не хотелось.
Он описал несчастный случай с коровой и гибелью индийца-подростка под колесами, рассказал о столкновении с послом. Маргит внимательно слушала, безотчетно продолжая вытирать полотенцем давно уже сухие руки. – Нехорошо, – взгляд у нее стал озабоченным. – Если он усмотрит в тебе угрозу, то придет к мысли сплавить тебя из посольства.
– Да вряд ли. Ведь Кришан-то погиб. Сказать, кто в действительности сидел за рулем, больше некому, зато есть полицейский протокол, а там написано, что автомобиль вел индиец. Дело закрыто, и никто к нему не прикоснется. Кому это надо? Судить его буду не я.
– Иштван, – Маргит кругообразно повела головой в тяжелом шлеме волос. – Я так за тебя волнуюсь. Это ведь не одного тебя касается, а нас обоих.
– Я знаю, – ответил он после долгого молчания.
– Мы должны быть осторожны, мир не за нас. Кто нам поможет? А вот наш проигрыш доставил бы кое-кому большую радость.
– О, да. Но мы не позволим, чтобы нас разлучили, – упрямилась в нем гордыня. – Он меня пальцем тронуть побоится, я слишком много знаю.
– Ты как ребенок, устроил себе выдуманный мирок, блаженствуешь в нем, а мир, в котором мы живем, не такой, он завистлив и жесток. Перестань быть поэтом, – положила она ему ладонь на плечо, – ой, прости, не переставай, оставайся самим собой, но, боюсь, не минут, нас трудные минуты.
Быстрая тревожная дробь пальцев о дверь, повар деликатно дал знать, что стол накрыт.
– Да. И не забывай о Грейс.
– Почему? – остановилась Маргит и, словно постигнув до дна его молчание, угадала правду. – Она тебя любит?
– Нет, – решительно ответил он. – Она не любит мужа, но подчинилась. Просто у нее никого нет.
– У нее будет ребенок, – что-то похожее на ревность прозвучало в голосе Маргит.
Они сели за стол. Иштван налил в стаканы грейпфрутовый сок, бросил в него кубики льда. Повар стоял у дверей, скрестив руки на груди, у него был вид довольного свата. Тереи одними глазами выговорил ему, и повар скрылся на кухне, красноречиво свидетельствуя свое пребывание там грохотом сковороды, которую бросил уборщику – вымыть и вычистить.
– Грейс мне говорила, что ты расплакалась, когда она тебе об этом сказала, – начал, было Иштван.
– Где ей было понять? – криво усмехнулась Маргит. – В те дни слишком много на меня навалилось. Письмо от отца из Мельбурна, мачеха забеременела, он так обрадовался, что мне будто иголкой в сердце. Счастливая Грейс, которая кладет мою руку себе на живот, чтобы я сама убедилась, как ее дитя брыкается там, а я, ну, ты помнишь, что тогда со мной было.
– Понимаю.
– Ничего ты не понимаешь, понять могут только женщины, которые, как я, считали дни. Ни один мужчина не способен понять, что значит прислушиваться к своему телу в таком положении, упрашивать его.
– Но ведь ты, же могла прийти ко мне.
– И ты тут же почувствовал бы себя в западне, в осаде. Я не из тех, что скулят и напрашиваются на сочувствие. Не спорь со мной. Чем ты мог бы мне помочь? Держал бы меня за ручку и смотрел, как я слезы лью? Я могла… да я как будто все могла, даже разорвать контракт могла, бросить больных, домой уехать могла, мне все устроили бы, у меня друзья-врачи. И, в конце концов, родить могла бы. И может, еще и решусь на это. И не смотри на меня так. Я тебя предупрежу, уж ты-то имеешь право знать.
Он осторожно присматривался к ней, суровая, упрямая порода, оценивал смело прочерченные брови, линию подбородка, открытый взгляд. Женщина из тех, что знают, чего хотят, такие становятся рядом со своим мужчиной, когда тот с ружьем в руках заставляет уважать свою собственность, защищает свои права первопоселенца. Нахлынула бесконечная благодарность за то, что именно такая подчиняется ему, за то, что она его избрала. Не рисунок ее губ трогал его своей доступностью, но их переменчивая выразительность, отблеск, кочующий в волосах, когда она вспыльчиво встряхивает ими, чистая доверчивая голубизна глаз, в которую мысленно окунаешься, как в горный поток.
– Почему ты мне тогда не доверилась? – тихим голосом укорил он ее.
– Потому что я, собственно говоря, тебя не знаю. Не знаю, каков ты в часы испытаний. Не знаю, где кончается мое воображение и начинаешься подлинный ты, со своим прошлым, которое, как ни отбрось, как ни осуди на забвение, возвращается и в снах. Есть целые пространства в твоей жизни, очень важные, раз тебя называют поэтом, для меня не представимые, твое творчество, не криви губу, выразимся скромнее: твои стихи… Я к ним ревную, я не могу там быть твоей спутницей, первая услышать, как ты их читаешь. А ты мог бы их писать по-английски, ведь ты говоришь по-английски свободно и правильно.
– Вот именно, что правильно. Конечно, мог бы и по-английски писать, но это всегда будет перевод с венгерского. Я обречен на венгерский, я на нем назвал траву под ногами и звезды над головой, я знаю, это язык малого народа и он стеной стоит между мной и миром, но он мой, я малейшую дрожь в нем чувствую, на нем я могу выразить все, убежден, что в минуту наивысшего соединения я обращаюсь к тебе на нем. Тут я не ошибаюсь.
– Ошибаешься, – насмешливо прищурилась она. – Насколько помню, ты шепчешь мне по-английски… И очень красивые речи.
– Это я безотчетно перевожу, – пристыженный, признался он.
– Переводишь, – призадумалась она, касаясь ладонью губ. – Если этого ни ты, ни я не заметили, клянусь тебе, языковой барьер преодолим, он может исчезнуть. Но ты должен всей душой желать этого, не замыкаться, не таиться от меня. Ах, Иштван, как бы я была счастлива, если бы увидела твои стихи напечатанными, ну, хотя бы в «Индиэн иллюстрейтид уикли».
Ему передалось ее оживление.
– Обещаю, сам попробую перевести, но тебе придется мне помочь, прочесть, посмотреть взыскательным редакторским глазом.
– Ты даже представить себе не можешь, какая это будет для меня счастливая минута, – встала из-за стола сияющая от счастья Маргит. – Шагом ближе к тебе.
Они вернулись в кабинет: удобно устроились в креслах. Свет от лампы падал на каменную голову, шлифованный камень, казалось, сонно улыбался. Иштвану вспомнился Чандра, странный разговор с ним, гримаса гордыни на сухом гладком лице, когда Чандра вручал ему подарок – «надо набраться смелости и сказать: я – бог»… «Интересно, что его ждет. Единственный по-настоящему злой человек из всех, кто здесь мне встречался. Человек, который – словно в насмешку – старается делать людям добро. Он хочет быть злым, когда с иных довольно знания, что они сбились с пути, мечутся, страдают и сожалеют».
Иштван взглянул на Маргит, ее волосы были почти черны в полумраке, темно-золотыми выглядели только одни устало сложенные ладони. «Она-то не испытывает сомнений, она счастлива, хотя сознает, что рискует. Рассчитывает на меня».
– Знаешь, чего здесь не хватает? – окинула она взглядом стену. – Часов. Стоящих на полу часов, которые бормочут и брюзжат. У нас дома в холле стоят такие, в виде женской фигуры в деревянной шляпке, вместо лица – циферблат. Не смейся, сама знаю, верх безвкусицы, хотя и старинная работа, прадедушка умыкнул их с какого-то голландского брига, но только слыша их неторопливое тиканье, наслаждаешься вечерней тишиной. Вот услышишь и сам убедишься.
– Ты в этом уверена?
Она одними ресницами, без слов, сказала «да».
– Как хорошо, – она сцепила пальцы на затылке, ее маленькие груди окунулись в свет, она вслушивалась в стрекот цикад за окном. – Никуда не хочется уходить, никого не хочется видеть. Все вон из головы: и больные, и процедуры, и споры с Конноли, – тишина и покой. Отдыхаю.
– И я о том же думал, слово в слово.
– Через несколько дней перееду в Дели на постоянное житье, надо нам подумать, где я буду обретаться.
– Устраивайся у меня.
– Не дури. У меня должен быть свой угол, пожалуй в отеле «Джанпатх», это удобней всего, не буду связана… Да не обойду я твой дом, не обойду, зря обижаешься. А если надо будет позвать к себе кого-нибудь из Офтальмологического института, или профессор приедет, где ему меня искать? У тебя? А Грейс? Она и так будет в претензии, что я не у нее обосновалась, ведь это она меня в Индию зазвала.
– Предпочел бы… – начал Иштван, сосредоточенно закуривая.
– Я тоже, – перебила Маргит. – Нынче двадцать третье октября, памятный день, с него пойдет отсчет нашей общей жизни. Слетаю на полдня, соберу вещи и вернусь.
– Может, лучше со мной на машине?
– Нет. И так ты слишком много крутился со мной по Агре. Ты думаешь, в Дели о нас ничего не знают? Три часа на машине – это для сплетен не расстояние. А я заранее так рада вечерам, когда мы будем сидеть друг против дружки. Делай, что хочешь, хоть газету читай. Я буду готовиться к лекциям, но, стоит поднять глаза, увижу, что ты здесь. Немного мне нужно для счастья. А впереди будет долгая ночь, и совсем не нужно будет торопиться в постель.
Она потянулась, стройные ноги обнажились выше колен, и в нем пробудилась безграничная нежность.
По двери дробным стуком пробежались чьи-то пальцы.
– Да-да, – откликнулся Иштван.
Никто не вошел, но из-за двери раздался голос повара.
– Телефон, сааб.
Иштван распахнул дверь, в темноте за ней никого не было, и он вопросительно глянул на Маргит: не послышалось ли?
– Нет никакого звонка, – подтвердила Маргит.
– Сааб, – откликнулся повар из глубины коридора. – Телефон звонил долго-долго, я снял трубку… Господин Нагар настаивает, говорит – очень срочное дело.
Одним прыжком Иштван оказался у телефона.
– Алло, говорит Тереи.
И в ответ раздались возбужденные, торопливые фразы:
– Приезжай сию же минуту! Идут такие телеграммы – пальцам горячо! Быстро! Одна нога там – другая здесь!
– В чем дело, в двух словах? – чуя неладное, крикнул Иштван.
– В Будапеште восстание. Все западные агентства передают, никакие не враки, а самое настоящее восстание. Не веришь? Включи радио, сейчас выпуск новостей из Дели, что-нибудь да скажут… Но у меня из первых рук. Ну, что? Что примолк?
– Сию минуту еду.
Иштван стоял, не дыша, как громом пораженный, держа в руке неопущенную трубку. «Началось, Венгрия, столица». В лицо повеяло холодом, словно от смертоносного дыхания еще не ведомых событий. «Мальчики, Илона… Что с ними будет?»
Маргит полулежала в кресле, скрестив длинные ноги, освещенные золотистым светом лампы, лицо ее было в тени.
Иштван подошел к ней, окунул губы в душистые волосы, в сухой рыжеватый кокон.
– Мне срочно надо ехать.
Маргит сжалась в комочек, схватила его руку и прижала к щеке. «Вот точно так же Дурга провожала Кришана», – мелькнула мысль.
– Я подожду, я пока не лягу. Почитаю что-нибудь, – спокойно сказала Маргит.
– Не исключено, что вернусь очень поздно.
Только теперь осознала она, как посуровел его голос, и подняла глаза.
– Дурные новости?
– Восстание в Будапеште. Звонил шеф «Ажанс Франс пресс».
– Я поеду с тобой. Подожду в автомобиле, – вскочила Маргит, но он вернул ее в кресло, повелительно положив руки на плечи.
– Нет. Оставайся здесь.
Вспыхнуло чувство, что он отгородился, указывает предел, до которого ей дозволено быть вместе с ним. Маргит подобралась.
– Я подожду, – упрямо сказала она. – Хоть до утра. Езжай. Он выбежал из комнаты, даже не прикрыв за собой дверь.
Маргит услышала шум мотора, блики фар «остина» прошлись по стене соседней виллы. Когда шум удаляющегося автомобиля затих, Маргит подошла к письменному столу и включила приемник.
Дели вещало на языке хинди, непонятный поток слов, на миг подумалось, что вот точно так же будут невразумительны венгерские радиосообщения. Странствуя по шкале, Маргит угодила на передачу из Калькутты и облегченно вздохнула: «По-английски». – Волнения, сегодня в полдень вспыхнувшие в столице Венгрии, усиливаются. Они начались со студенческих митингов, демонстрации рабочих и преобразились в самосуды, разоружение полиции и захват правительственных зданий. Дошло до перестрелки с советскими гарнизонами, размещенными в соответствий с Варшавским Договором. Сегодня в Будапеште были распространены листовки с текстом выступления Гомулки на митинге в Варшаве. Сегодня Венгрия в центре внимания мировой общественности, – затем диктор перечислил протесты по поводу похищения пяти руководящих деятелей Фронта национального освобождения Алжира, которых выдал французам летчик, посадивший самолет на военном аэродроме. Из Парижа отозваны послы Марокко и Туниса. Король Иордании и Насер выступили с резким заявлением.
Это уже не интересовало Маргит. Она стояла, подавленная, опустив ладони в конус света под лампой, только теперь поняла она всю серьезность услышанного. Она лихорадочно принялась выискивать выпуски последних известий, из приемника понесся смешанный гомон на множестве языков, часто повторялось слово «Будапешт», при звуке которого ей стягивало щеки, словно на морозе.
– Не отдам, – изо всех сил сжала она край письменного стола. – Не отберете.
Стрелка указателя бегала по шкале, извлекались выкрикиваемые по-арабски хрипучие торопливые фразы, носовые, словно кто-то нервно дергал струны, голоса азиатских станций, патетические португальские кадансы из Гоа. Казалось, человечеству свело кишечник тисками страха и в приступах рвоты оно постигает ритм причин и следствий, толкающий к…
Словно скаковой конь перед стартом, Маргит чуяла, как напряглись ее мускулы, она поняла, что наступает час испытания, и вдруг, как озаренная, увидела свой великий и неповторимый шанс. – «Мой он будет, мой!» – закусила она губу. Явилась надежда, что все прошлое Иштвана будет перечеркнуто, некуда и не к кому будет ему возвращаться, он застрянет на этом берегу, один-одинешенек, потерпевший кораблекрушение среди бушующих стихий, подавленный, жуткой свободой, порождаемой полной ограбленностью. Прервутся все связи с этим неведомым, городом-соперником. И тогда она, Маргит, шагнет навстречу и принесет ему вместе с любовью как бы в приданое – австралийский континент, где он будет жить, язык, на котором, он будет творить, деньги и связи, которые избавят его от чувства отчужденности, одолжения, подачки. «Иштван сразу должен сделаться гражданином нашего мира, весомой личностью, он должен почувствовать, что здесь его дом».
Голубоватая нить дыма вилась под абажуром лампы, каменная голова взирала на Маргит широко открытыми бельмами, едва заметно усмехаясь словно бы ничтожеству того, чем стремится обладать человек, чем он владеет и что возводить в цель, достойную завоевания. И Маргит ощутила прилив ненависти к этому обломку изваяния, ей показалось, что это насмешка, что камню ведомо, что ее ждет, и заранее жаль их обоих.
Уж который раз Тереи засел за телефон, чтобы дозвониться до Будапешта в течение тех двух часов в сутки, когда британский кабель обслуживал «ту сторону» Европы.
Ответы звучали любезно и обнадеживающе:
– Сегодня с Будапештом связи нет. Позвоните, пожалуйста, завтра.
Иштван упросил лондонскую телефонистку дознаться, в чем дело, то ли номер не отвечает, – то ли отсутствует вызываемое лицо, то ли серьезно повреждена линия связи. Он даже расслышал невнятный отголосок венгерской речи. Прозвучало это как «говорит военный центр связи», он крикнул, что вызывает сотрудник посольства из Нью-Дели, что это официальный вызов, но ответные слова угасли, перешли в бестолковый шум усилителей, и, наконец, приятный голосок из Лондона сообщил, что Будапешт воспретил любые телефонные соединения с заграничными абонентами.
Сослуживцы тоже пробовали установить связь с министерством. Что ни утро, он видел беспомощно опущенные руки и задыхался от бешенства и отчаяния. Мерещилось наихудшее, в глазах так и стояли обгоревшие стены и слепые окна квартиры, обуглившиеся тела детей, брошенные в братскую могилу, на которой красуется жестяная табличка с надписью белой краской: «Неизвестные жертвы восстания».
На третий день волнений индийская печать стала публиковать фотоснимки. В посольстве газеты вырывали друг у друга из рук. Снимки были жесточе, чем сообщения, на них видны были трупы авошей, висящие на фонарях, мундиры с казненных сорваны, тела ужасна покалечены. Кем были эти люди? Что если в мстительные руки случайно угодили простые, ни в чем не повинные солдаты?
Лица в толпе, застывшие маски ярости и ненависти – Иштван всматривался в фигуры подростков, одетых по-граждански, с оружием в руках стоящих на танке и размахивающих трехцветным флагом с дырой на том месте, где была пятиконечная звезда. С тупым ужасом глядел он на кучку женщин, зажавших рты носовыми платками, то ли чтобы подавить крик боли и отвращения, то ли чтобы не чуять трупного запаха, потому что у их ног в ряд лежали тела, скошенные залпом. Эти женщины пришли в поисках своих близких: отцов, мужей, сыновей, – ушедших штурмовать казармы, захватывать оружие. Ниже – фото схваченного начальника госбезопасности в расстегнутой шинели. Он сидит, уронив на грудь, преждевременно облысевшую голову, бездумно сосредоточенный, словно бы раздраженный слишком долгим ожиданием расстрела. У него за спиной стоит венгерский солдат с повстанческой ленточкой на пилотке и вставляет патронный диск в замок ППШ.
– Смотри, смотри, – чуть ли не в лицо тыкал Ференц иллюстрированный журнал. – Вот как это в действительности выглядит. Были снимки во весь разворот: разбитый взрывом советский бронетранспортер и вытянувшееся у стены полуобгоревшее тело солдата, засыпанное стеклом из выбитых окон.
Иштван смотрел. Знакомая, напряженная поза, когда смерть подала команду, последнее «смирно». Ему жаль было этого молодого солдата, чьи светлые волосы растрепал ветер. Ему ужасно жаль было Будапешт. Воззвание правительства Надя с призывом обуздать анархию звучало как отчаянная мольба. Но как вразумить вооруженную, рассвирепевшую толпу? Слишком много накопилось жгучих обид, слишком долго были заткнуты рты, чтобы теперь они умолкли по собственной воле. Освобожденные из тюрем громко поминали ложные обвинения, показывали шрамы от пыток, поднимали над толпами, кишащими на площадях, пальцы, ногти с которых были вырваны во время следствия. Никто не помнило заслугах вождей, о завоеваниях народа, о рывке цивилизации вперед, помнили о спецраспределителях, о персональных машинах, о доносчиках. Толпа требовала крови, не справедливости, а мести. И мстила лютой смертью, достаточно было крикнуть: «Это авош, продажная шкура!», чтобы человека сбили с ног и растоптали в кровавое месиво, торжествующе сообщали западные агентства.
Сотрудники посольства набивались в кабинет Ференца, вчитывались в корреспонденции и репортажи, озабоченно смотрели друг другу в глаза, немо спрашивали, что дальше.
– Больше всего тревожит австрийская граница, – показывал Ференц рисунок в «Тайм». – Через нее можно забросить агентов и диверсантов.
– Ты мыслишь старыми схемами, – зло и громко возразил, наконец, Тереи. – За каким чертом их забрасывать, когда вся нация слушает «Свободную Европу», потому что у нас не хватает духу говорить правду?
Ференц только глянул исподлобья, мешали рассыпавшиеся кудри, он отбросил их нервным движением головы, как конь, встряхивающий гривой. Оба молчали, давясь невысказанными обвинениями, но взаимное недоверие нарастало.
Юлит встревожено переводила взгляд с одного сердитого лица на другое.
– А посол куда смотрит? – допытывался Иштван. – Видит Бог, пора занять какую-то определенную позицию! Ночью мне журналисты названивали, комментариев требуют, я думал, с ума сойду, они буквально ничего не понимают из того, что у нас творится. Надо созвать пресс-конференцию, объяснить, дать хоть какую-нибудь оценку ситуации.
– А ты, ты разумеешь, что у нас творится? – взорвался Ференц. – Потому что я не взялся бы…
– Ждешь, кто победит?
– Жду официального сообщения из министерства. Мы сотрудники министерства, мне не к лицу игры в ясновидение.
– Мы венгры, – процедил Иштван. – А там идет сражение за нашу независимость.
– За социализм, – подчеркнуто поправил секретарь, – Для меня это одно и то же, но в этот социализм надо поверить, не плодить лозунги для наивных и непосвященных, самому заранее соглашаясь на роль вассала и услужливое лакейство.
Юдит втянула голову в полные плечи и протяжно вздохнула.
– О чем спорите? Все равно мы ни на что не можем повлиять. Придется ждать. Байчи нынче собирался разведать, как обстоят дела, встретиться с советским послом…
Оба вскинули головы.
– Явно тот сказал, что занят. Ференц, кривя рот, нервно потер лоб.
– Вдруг и вправду занят.
Но Юдит еще не досказала, незлобиво глянула мудрыми совиными глазами, словно попросила: «Дайте досказать».
– Тогда Старик позвонил китайцам, – раздельно цедя слова, Юдит подчеркивала важность сообщения, – и китайский посол его сегодня примет, – она глянула на узенькие золотые часики, – через час.
– И что ты думаешь по этому поводу? – потянулся к ней Иштван.
– Может быть, китайцы нас поддержат? – беспомощно огляделась Юдит по сторонам.
– Кончай ты это «нас»! – крикнул секретарь. – Каких «нас»? Есть правительство, от которого мы ждем распоряжений, и есть – взбунтовавшаяся враждебная толпа. Там, где венгры стреляют друг в друга, «нас» не бывает. Надо выбирать, Мы должны быть на чьей-то стороне, а кто на чьей, – указал он ладонью на Иштвана, – сразу видно, И из этого придется сделать выводы. Мы не можем позволить себе анархию даже в такой малой общине. Нельзя забывать, какие силы нам доводится представлять, а работник обязан подчиняться распоряжениям сверху.
– Причем, в особенности, тогда, когда их нет, – передразнил Тереи напыщенный тон секретаря.




