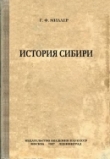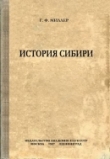Текст книги "Охотники за курганами"
Автор книги: Владимир Дегтярев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Глава 30
Екатерина Алексеевна, Императрица и Самодержица российская, долго смотрела на бумаги, поднесенные ей бароном Бронштейном, первым банкиром в империи, представлявшим в России главные меняльные дома Европы.
Подняла глаза, но сесть полному, в простецкой одеже и при неясных орденах иудею не предложила.
Он стал показываться в людных местах только через полгода после восшествия Екатерины на престол. Но приближаться к ней самой – не приближался. Хотя кредитовал, и кредитовал крупно, самых известных в империи людей. Потом кое в каких семьях возникали скандалы, продавались имения, но покамест сии стервозности шли помимо Императрицы. Сейчас, видимо, время пристало и ей давать финансовый отчет этому злому гному из дальних швейцарских земель.
Екатерина наконец подняла глаза от бумаг, но смотрела лишь на толстый и нависающий над верхней губой нос утреннего визитера.
Нос Бронштейна жил как бы своей жизнью. Нос шевелился, тягая воздух, словно рвался потереться о пухлые, лоснящиеся щеки. А глаза… Вот именно глаз финансового дельца следовало поопастись. Они вообще не жили. Только сверкали черным лаковым блеском.
Императрица усмехнулась как раз неподвижным глазам банкира, нежным голоском пригласила того садиться.
Пока Бронштейн устраивался на гостевом, для него узковатом кресле в рабочем кабинете Екатерины Алексеевны, Императрица накоротке пробежала срочную записку, коей предварил сей неприятный визит первый министр двора граф Панин.
«Ваше Императорское Высочество, – писал граф на узкой бумажке с пометой личного обращения, – принять сего господина Вам немедленно необходимо. Обращайтесь с ним мягко, а потом все уладится. Остаюсь слугой Вашим до скончания лет. Сенатор и Первый министр, граф Панин».
Кругом нечисто. Ближняя дама покойной Императрицы Елизаветы Петровны, подлая баба Чоглокова, пять лет назад еще принцессе Катьке докладала, что барон Бронштейн не есть таковой, за кого себя представляет. Он еще в годы проживания будущей Императрицы Елизаветы Петровны в ливонских краях неприметно вошел к ней в доверие, помог деньгами. Да так помог, что Елизавета Петровна только по восшествии на престол кое-как рассчиталась с хитрым змеем. Еще говорила Чоглокова, воровастая, но сметливая наперсница покойной Императрицы Елизаветы, что будто барон титул себе купил среди темных и узких улочек Европы. А сам был не из банкирского швейцарского дома Валленбергов, а из нищего и грязного варшавского кагала испанских бегунцов, коих, благодаря королям Испагани, вытеснили скопом из процветающей страны. Паскудной крови, конечно, в Испагани много пролилось, так короли без своей пользы – зря крови не проливают…
Тут Императрица Екатерина нечаянно вспомнила недавние слова генерала от артиллерии старшего князя Владимира Анастасиевича Гарусова: «Суры крови не боятся и на крови стоят». Она свободно вздохнула и громче, чем следовало, вопросила:
– С чем пожаловал, барон?
Тут иудей усмехнулся. Когда лев рычит, он не нападает – так его наставляли варшавские старые и мудрые раввины при подпуске к финансовым делам. Вот и львица рычит, значит – пугает, но боится.
Сотворив слащавую улыбку одними губами – глаза не улыбались, барон Бронштейн ответствовал:
– Все мое пожалование в сих бумагах, Ваше Величество! Все – в бумагах!
Екатерина и сама видела, что – в бумагах. Перед ней лежали ее личные расписки тем, у кого она брала в долг, будучи еще принцессой. И в силу немецкой педантичности точно знала, сколько денег причитается отдать, и сколь ею уже уплачено. Остаток – миллион триста тысяч рублей – ей полагалось вернуть только трем людям: графу Панину – миллион рублей, графу Строганову – двести тысяч и сто тысяч рублей – графу Дашкову. Однако сии люди до этих пор на возврат долга не претендовали и даже отмахивались, когда сама Императрица о том вежливо заговаривала.
Меж тем на стол перед Екатериной барон выложил не три расписки. Бумаг на императорском столе лежало более десятка. Это что-то новое.
Под ребрами Императрицы, повдоль живота, пробежал нечаянный холод. Потом – будто ножом резануло. Но, слава Богу, мигом стихло.
Екатерина Алексеевна еще чуток выждала, а опосля стала внимательно честь бумаги.
И первая же бумага была ейной, еще неуверенной принцессиной росписью-подтверждением о займе средств у графа Панина! Сию бумаженцию Екатерина отложила в сторону. Следующей была долговая расписка графу Шереметеву. Деньги вдове Шереметева, девяносто тысяч рублей, Екатериною были возвращены без требования возврата долговой записи, уже через неделю после несчастной смерти Императора Петра Третьего в Ропше… Так-так! На что рассчитывает барон, суя таковскую бумагу? На то, что вдова под крестным целованием известит мир, что Императрица денег ей не отдавала? Да не бывать по сему!
Долговая запись под роспись Екатерины князю Остерману… Это еще что за выверт! Князя Остермана она первого вернула из сибирской ссылки, войдя во власть! Он обрел прежние же имения и получил от казны в пять крат более того, чем значилось в его расписке!
Барон Бронштейн чувствительно кашлянул. Как бы соболезнуя.
Екатерина, не поднимая головы, просмотрела еще семь подобных векселей, деньги по коим она возвернула. Откуда тогда непогашенные векселя? Подделаны али как? Ладно, скоро у иудея она спросит… крепко спросит…
Последней была долговая расписка Лестоку – французскому кутюрье, что сутками ошивался в передней принцессы Екатерины незадолго до переворота и работал более ушами, чем щипцами. Лестока она, уже Императрица, выставила из страны немедля после тронных торжеств. Выставила с тридцатью тысячами русских рублей. За оговоренное молчание. А денег-то ею было взято тогда у кривлястого французишки – сто рублей! На срочный найм трех карет – бежать в Петергоф, ко гвардии! Однако!
Императрица медленно подняла глаза на пархатого ростовщика. Взгляд Екатерины потяжелел. Она точно помнила, что никакой расписки за паршивый сторублевик Лестоку дано тогда не было! Ни ею, ни ближними!
Барон начал медленно приподниматься на стуле.
– Зецен зих! – низким горловым звуком осадила иудея Императрица. – Арбайт филе, филе. Зецен зих{18}!
Бронштейн отмахнулся от сего бабьего рыка, вытянулся в свой малый рост, достал из внутреннего кармана тонкой кожаной работы бумажник, медленно вытянул из его нутра полулист крепкой бумаги. По орластому вензелю на верху полулиста Екатерина узнала сразу – от кого бумага. Писал к ней, видать по буквицам, король прусский – Фридрих.
Екатерина, прежде чем взять бумагу, налила себе из графина воды. Обмочила губы о край стакана. Вода была родниковой, поставлена на стол полчаса назад. Но Императрице вода на сей раз показалась теплой, даже – горячей.
Король Фридрих писал самолично, скукоженными буквами, так хорошо известными Екатерине. По иным временам, сия личная записка была бы сущей безделицей, ибо гласила: «Ваше Величество! Родственники и друзья Иоанна Шестого припадают к Вашим стопам в неутолимой надежде узнать о здоровий Иоанна и с надеждою скорой встречи с ним. Ваш Фридрих, король прусский».
Это была не межсемейная записулька. Это был документ силы страшной и намека кровавого.
Записка Фридриха прямо называла имя Императора России Ивана Шестого, прямого потомка династии Романовых и близкого родством самым влиятельным королям Германии, Дании и Швеции. Тот Иоанн
Шестой с тех пор, как был еще прежней Императрицей Елизаветой Петровной посажен в Шлиссельбург, так до сей поры в той крепости и сидел в полном потае, невидимый ничьим взорам. Все принесенные иудеем долговые бумаги не стоили и миллионной доли полулиста с каракулями короля Фридриха. Ведь то, по сути, был почти приказ, да с шантажной угрозою – отдать трон легитимному императору семейства Романовых! Иоанну Шестому отдать трон!
– Сядь… скотина! – сквозь зубы прошипела Екатерина, бешено глядя в выпуклые черные глаза иудея.
Барон легко повиновался, осел на узком кресле и с тем же доверительным сочувствием интимно молвил:
– Конечно, конечно! Работы, верю, сейчас будет много, много. Верю!
Екатерина позвонила в колокольчик. Мигом в кабинет вошел дежурный секретарь – граф Салтыков.
– Барону – вина… испанского, мне холодной воды! – распорядилась Екатерина. – Да… еще вот что, Михайло Ефграфович! Распорядись, милейший, дабы Степан Иванович Шишковский прибыл сюда и никуда более не отлучался. Ждал моего приказа. И свечу мне зажги… Вроде как пасмурно стало…
Восковая свеча полупудового веса ярко пыхнула, и язык ее пламени поднялся почти на ладонь. Дверь в кабинет осторожно закрылась за молоденьким графом Салтыковым. Он широко улыбался. Если Императрица так явно велела вызвать к ней ката Шишковского, ноне во граде Петербурге будет о чем посмеяться ввечеру!
С огромного носа банкира Бронштейна на светлую скатерку стола нечаянно упала мутная капля. Он засуетился, выковыривая в кармане батистовый платок. Екатерина невозмутимо жгла на пламени свечи личное послание короля Фридриха.
***
Через час, в присутствии надушенного без меры кельнской водой Степана Ивановича Шишковского, барон Бронштейн интимно доверил Императрице, что за пакость он сочинил. Скупил через прислугу знатных фамилий за малые рубли давние, всеми по-русски забытые втуне, расписки Екатерины и думал взять поживу. Такова есть его работа и жизнь финансиста.
– А у Лестока как купил фальшивый вексель? – Томно бубнил уже в пятый раз Шишковский, не слушая покаянных слов иудея.
И в пятый раз барон отвечал, что сию фальшивую ересь ему подсунул граф Панин. Откуда появилось письмо от короля Фридриха, про то барон не говорил. Да Императрица и не спрашивала. Она понимала, что подлый иудей и при ста ударах на дыбе про письмо Фридриха не скажет. Жить больно хочет. Давишь их, давишь, а жить – хотят… пуще денег.
Всего по лежащим на столе бумагам Екатерине следовало бы выплатить Бронштейну без малого три миллиона русских рублей – в ефимках. Или лучше векселем на голландский банк Вест-Индской компании. Одним этим векселем за личной подписью Императрицы барон Бронштейн мог махать до скончания живота, получив много прелестей жизни и навечно унизив Вседержительницу российскую…
Дело было ясное – за иудеем в этой финансовой афере стоял вспыльчивый, но все же свой русский граф Панин. А вот за прознанием про Иоанна Шестого стоял некто пошире властью и позлее в возможностях, чем первый министр росссийского Двора… Кто знает про живого российского Императора Иоанна… при живой пока Императрице и Самодержице российской Екатерине Второй?
Кто – Бронштейн не признавался.
Государев кат – Степан Иванович Шишковский – по молодости лет, важности государевых забот и скорости для – ездил верхами, при двух казаках. И даже в кармане камзола всегда держал нагайку.
Вытащив из кармана нагайку, саданув ею по спинке пустого кресла, что стояло напротив неудачно попавшегося барона, он велел Бронштейну подняться и следовать за ним.
– У меня теперь в особом кресле посидишь, – сообщил он Бронштейну. – Любопытное у меня кресло, для любой жопы подходит!
Екатерина кашлянула.
– Ваше Императорское Величество! – поклонился Шишковский, – сие есть слово из работного словаря нашего государевого дела! Если задел твое царское ушко грубым словом – не обессудь. Для твоей милости стараемся и на благо империи.
Барон было заупрямился идти, забормотал на старонемецком языке обычную мольбу.
Екатерина отвернулась к иконе Николая Чудотворца, стала креститься.
После обеда, часа через два после гулкого выстрела полуденной пушки, личный курьер главы канцелярии тайных государственных дел Шишковского привез Императрице все расписки, найденные при иудее, и полное его признание в противугосударственном деле.
По той Бронштейном подписанной бумаге выходило, что «дабы иметь постоянное управление Императрицей Всероссийской, полагаясь на ее иноземное (сиречь – нерусское происхождение), а потому снисходительность и всепомоществование в делах католической веры, к коей она была с рождения привержена, следовало направлять ее поступки, имея уздою финансовые долговые прегрешения. Что в Европе признается за самый подлый стыд. Для чего всячески уклоняться от расчета с нею, дабы ввести Императрицу в большой долг. А потом он, Бронштейн, должен склонить Императрицу Российскую к тому, чтобы на свои средства известный ей дипломат и европейский ученый посланник Джузеппе Полоччио и иже с ним ученые католические монахи могли легитимно выводить Сибирскую часть России из тьмы шаманства, волхования и язычества к истинной католической вере. А за это Императрице будет тайно передана часть золота и серебра, коих добыть должен в сибирских пределах, под древними курганами, ученый посланник Полоччио. А передано тайно затем, что опосля она, Императрица, должна то золото и серебро, в свою очередь, уже явно, перед всею Европою, вернуть как бы в отдачу своего долга барону Бронштейну…»
Далее перечислялись все кредиторы Императрицы и сознание в том, что тайные лица из Ордена иезуитов, проживающие в столице Санкт– Петербург количеством двести человек, под разными угрозами раскрытия темных дел выманивали расписки Екатерины у ее близких и приближенных лиц.
Главою же иезуитов в столице империи барон Бронштейн, подвергнутый порке двумя кнутобойцами «на утопляющемся до половины тела человеца в подвал специальном кресле», назвал аглицкого купеческого старшину Георга Честерского.
«С ним в тесных сношениях состоит граф Панин, что неоднократно было замечено дозорными человеками из числа Государевых тайных служащих».
Об Императоре Иоанне, как и следовало из мыслей Екатерины Алексеевны, барон смолчал. Ладно…
В ответном указании Шишковскому Императрица велела никаких бумаг о пребывании барона Бронштейна в тайном пыточном зале не писать, иудея отпустить с доставкой прямо в кабинет Императрицы.
После чего Императрица велела подать ей в особую комнату «для ближних» обед, позвала туда Марью Перекусихину, для кумпании, с аппетитом откушала томленной на поду русской печи курицы и холодного страсбургского гусиного паштета. Под иноземный паштет наглядно выпила малость русской водки.
А вернувшись в кабинет, застала там, при офицерском карауле, барона Бронштейна.
Подмигнув офицерам, когда барон изо всей учтивости отказался присесть, Екатерина Алексеевна лично растопила камин пачкой своих долговых расписок, лежавших на столе. В истерике боли на филейной части барон и не приметил, что некоторых бумаг, в частности бумаг графа Панина, среди сгоревших в камине – не имелось. После чего офицеры конвоя были Императрицей отпущены служить далее, а барон Бронштейн, поохивая, письменно дал Екатерине Алексеевне согласие на личную им, менялой, передачу графу Панину из своих средств, но как бы от имени Императрицы миллиона рублей без предательского объяснения – почему?
– Передашь деньги не позднее утра пятницы, – улыбаясь, приказала Императрица. – И после того – никуда не ехай. Живи у нас. Женишься. Невесту мы тебе приспособим хорошую, из высокочтимых семей. Будет у тебя филе арбайт, филе, филе арбайт.
Барон схватился за платок. Приказ Императрицы означал для него жизнь, по сути, в тюрьме, под постоянным надзором. До гроба.
Ломая боль, барон Бронштейн упал на колени:
– Великая Государыня! Пощади!
Императрица вдруг пнула атласной туфлей в плечо банкира. Тот завалился на пол.
– А меня, сволочь, ты пощадил бы? Нет? Пошел прочь, мерин обрезанный!
Оставшись одна, Екатерина Алексеевна вдруг повторила пинок туфлей – по креслу. Пальцам стало больно. Так пинали своих холуев русские большие люди. И ей, стало быть, сие делать не зазорно.
Только вот икону надо бы прикрыть.
Сочувствующий взгляд Николая Чудотворца скрылся за занавеской.
Глава 31
Граф Панин, в первую пятницу сентября получивший негаданно от барона Бронштейна двести листов ценных бумаг голландского займа на миллион рублей с лестными словами благодарности, будто бы переданными Катькой, сначала стал искать неладное в сем факте. Но тут же, от того же барона Бронштейна, граф первым в Российской империи получил известие о смерти императора Франца, потомка володетелей великой Римской империи германской нации, сиречь – теперь Австрии. Вроде возрадованный двумя такими благостными событиями, первый министр двора все утро ходил по дому. Ради шумства пинал ногами подвернувшихся холопов и задирал подолы кухонным бабам. Хохотал. По красной роже графа холопы присудили, что граф пьян от водки и от нечаянной тайной радости.
Растеклись графские люди по закоулкам, затинились. От графовой радости можно было попасть в скотники, али в дальние вотчины, в тягловые работники. Такое счастье кому надобно?
Потом, осадив водку темным аглицким элем и прояснив голову, граф Панин стал догадываться, отчего так внезапно и без оговорства Катька могла передать иностранных ценных бумаг на миллион рублей не из рук в руки, а через изворотливого и опасного иудейского менялу.
Он пил эль прямо в холодном подвале, и не только холод земли и пива стал пробираться ему за пазухи. Видать по всему, иезуиты промахнулись. И промах пробил огромную брешь в их крепко выстроенном атакующем клине.
Возможно, удар пришел как раз по острию клина. А раз так, то и ему может воспоследовать удар. Вроде канцелярии Шишковского и Петропавловской крепости… Катька… откуда только прознала? Довольно быстро обучилась русской способности бить с носка, не жалея и самого доверенного лица… Вот Панин, желая угодить, нашел было в московском гарнизоне огромного, собой приглядного детину, званием капитан, и доставил Катьке на фаворную утеху. И что? Через неделю исчез капитан, и куда исчез – неведомо. В войсковой росписи его нет, в дворянской – тем паче. Убили его, что ли? Может, не то слово молвил? А Катька – что? Как ни в чем не бывало, однажды только махнула платком по лицу Панина, будто пот ему утирая, и при всех бальных присутствующих сказала: «Ах, граф, оставьте вы капитанские шуточки. Не падайте до сих званиев!»… Ведьма подлая. Вот ведь, точно так, неожиданно подлыми ударами, особливо – денежными – сбили с ног великого и удачливого, и тоже первого министра двора – князя Меншикова и сгноили в Березове. Неужли и ему, графу Панину, такое прописано? Уже прописано?
Надобно биться!
Граф кое-как поднялся из подпола, докричался мажордома, при нем криво написал писюльку своему воспитаннику – Павлу, Катькиному сыну, наследнику Российского трона. В той писюльке велел ему, чтобы к вечеру надел черный камзольчик и черную шляпу.
Мажордом сам побежал на конюшню – отправлять гонца в дворцовые покои русского принца, с наказом, чтобы тот принял цидулю в личные руки. А уж потом – распорядился бы секретно и срочно про шитье черного камзола и шляпы.
***
Вечером, то была суббота, Императрица Екатерина задержалась в личном кабинете с итальянцем Растрелли, спешно вызванным из италийских земель для проекта и возведения добротного Зимнего дворца. Старый зимний сарский дом, деревянный и щелястый, для проживания совершенно не годился. Через городского военного коменданта Екатерина загодя пустила весть, что с утра воскресения, опосля молитвы, солдатские полки должны тот дом за день раскатать и бревна вывезти за город – себе на новые казармы. А что останется из дров-то разрешено собирать петербуржским жителям.
Говорили на верхненемецком. Архитекторный гений Растрелли малость притомил Екатерину, талдыча про великие потребности в кирпиче и тесаном камне. Императрица уже думала о другом – о Польше. Нечаянно вспомнила, каково было посещать нужной чулан в старом дворце. Стульчак был сработан под мужика, приходилось сидеть на корточках, как дворовой девке – над выгребной ямой… Тьфу!
Растрелли вычурно укладывал вокруг Императрицы словеса про лепнину и позолоту… Екатерина же под гул его речи вдруг сообразила, что унизить Польшу посадкой на трон своего ставленника – Станислава Понятовского – это еще не значит унизить крепко… На московском троне кто только зад не грел… Тот же польский круль Вольдемар… Или не успел погреть?..
—… А над троном, Ваше Императорское величество, – гудел голос Растрелли, – важно подвесить огромного размера балдахин… Он даст мощный объем всему великолепию тронной залы. Вами планируемой…
Ибо трон владыки – есть средоточие всего царства… Сакральное место, подчеркивающее божественную суть власти…
Екатерина кивала на эти исступленные слова итальянца… И тут ее задело – трон… Трон – средоточие всего властного, центр могущества! Великий, древний и славный трон польской династии – династии Пястов! Вот что она, Екатерина, поставит вместо стульчака в личном нужнОм чулане нового дворца! Трон Пястов – вместо стульчака – это будет по-русски!
Императрица более не желала слушать италийца.
– Завтра, завтра, – отмахнулась она, – нет, лучше в понедельник поговорим…
Сия торопливость Императрицы вызвалась торжественным и загадочным ликом Марьи Перекусихиной, третий раз совавшей голову в дверь кабинета. Сегодня, на вечернем балу, должен был присутствовать ротмистр Потемкин. Его следовало публично произвести в капитаны и дать орден малого пока разряда. Ночью же за орден и звание Потемкин должен будет проверочно отслужить Императрице бдением в спальне. Плохим будет бдение – в дальних кавказских полках появится еще один бедолажный капитан.
Екатерина прошла в гардероб. Вокруг закрутились служанки. Императрица надела веселое белое платье, накинула поверх ленту ордена Андрея Первозванного, пришпилила к волосам малую корону, обула атласные туфли с тонкой войлочной стелькою – для тепла и быстро прошла в бальную залу, где шумели без малого три сотни празднично и весело одетых гостей. Одеваясь, она ругалась по-немецки на немалое количество плательных петель и застежек. До того не терпелось увидать рекомендованного Перекусихиной огромного ротмистра.
При малом выходе Императрицы из боковой двери залы не принято было кланяться. Толпа гостей только замерла, говор утих.
Императрица пошла через людей, поворачивая туда-сюда веселое кукольное лицо тридцатичетырехлетней куртуазной баловницы. Прошла и села на особом возвышении со столом на дюжину персон. Заговорила, кажется, с князем Воротынским, а сама сквозь веер все оглядывала залу. Искала ротмистра.
Дворцовый капельдинер дал команду итальянскому оркестру, тот махом заиграл вальс.
Напротив возвышения, где обычно сидела Императрица, находились двери парадные – для выхода торжественного. И вот, при начале танца, те огромные двери вдруг распахнулись. Басистый рык особого камердинера перекрыл музыку и шуткование танцующих гостей. Образовался людской коридор. По нему медленно шли к Императрице граф Панин и наследный принц Павел.
Екатерине стало дурно. Рот набух кислой слюной – и граф, и сынишка ее были облачены в траурные черные одежды. Несколько дам пали в обморок. Мужчины стрались не говорить.
В образовавшейся тишине граф Панин медленно подвел наследника к помосту Императрицы. Поставил Павла рядом с ней, сам поднялся и встал с другого бока наследника, прокашлялся.
– Третьего дня, дамы и кавалеры, – прокатился по залу его зычный голос, – скончалась многим из собравшихся знаемый император аустрийский и габсбургский Франц Первый! Определитесь сами, по чину и свойству родства, на какой срок вам по сему прискорбному случаю носить траур. Наша любимая Самодержица Всероссийская Екатерина Алексеевна по сему случаю должна носить траур двенадцать месяцев! А наш любимый наследник престола, Его Высочество Павел Петрович – четырнадцать месяцев!
Зал выдохнул и вновь затих. В тишине раздался капризный голос наследника:
– А почему я должен дольше всех ходить в черном платье?
– Привилегия вам, Ваше Высочество! – более чем зычно, почти крича, отозвался Павлу граф Панин, – коей привилегии добивался ваш дед Петр Великий, да в том не доспел, скоропостижно умер. Теперь во всей Европе только вы, Ваше Высочество, по родству и тем паче – по крови стоите выше всех государей!
Граф Панин склонил голову. Придворные, что побойчей и посметливей, заплакали и пали на колени, тягая руки к одиннадцатилетнему мальчонке.
Враз уставшая разумом Екатерина злобно смотрела на плачущее сборище в зале. Увидела она, как чернявая Марья Перекусихина в боковую дверь выталкивает рослого военного в мундире кавалерийского полка. Во второй ведь уже раз граф Панин устраивает демонстрацию ей, Императрице. И обязательно – за то, что по нему не вышло. Теперь вот, упаси Господь, за паршивый миллион рублей, отданных ему с намеком угомониться в противодействиях, втянул в сумбур малолетнего наследника Павла. Намекает граф, прямо видать, что Императрица – вовсе не Императрица российская, а регентша при малолетнем наследнике Российского престола. Так же, как была Императрицей, а формально лишь регентшей при императоре великой Римской империи германской нации Иосифе, бабка почившего ныне в бозе Франца Первого – ведьма скотская Мария-Терезия.
Ладно. При народе нечего кукситься. И нечего принародно вести разбор с сильным министром.
– За сим горьким известием, – вдруг тоже непрывычно громовым гласом – от бешенства – произнесла Екатерина, – куртаг отменяется. По Империи велю объявить недельный траур, пусть нонче же приспускаются штандарты на воинских заведениях. Наследника престола, Его Высочество Павла отвести в спальную комнату, его наставнику – графу Панину завтра поутре явиться ко мне для получения назначения председателем траурной комиссии.
Высказав это, Императрица Екатерина быстрым шагом прошла до той двери, за которой скрылась Перекусихина с ротмистром Потемкиным. И сама прошла в нее. То был ход в кухонное и лакейное отделения дворца. По ходу, взяв на руку с кухонного стола поднос с жареным гусем, не обращая внимания на челядь, Екатерина вышла на свою половину, ногой открыла двери в кабинет. И уже оттуда колокольцем, оговоренным звоном, вызвала к себе Перекусихину.
Та просунула голову в кабинет и, как будто ничего не случилось пять минут назад в дворцовой зале, доложила:
– Ротмистр пьет вино и просит закусить.
– Веди! Закусить у меня найдется!
***
Сибирский губернатор Соймонов ощутил по небывалому количеству бумаг, приходящих теперь из столицы Империи от разных лиц, что лучше от бумаг тех на время убечь. Грозные листы повелевали то искать промеж сибирского люда иезуитов, то велели собирать с иноверцев тройной оклад, опричь обычного. От самого графа Панина пришла неожиданная бумага – пустить его повелением, по ведомству тайной дипломатии, аглицкие корабли, каковые могут войти в сибирские пределы через Татарский пролив и встать на якорь в Амурском лимане, возле Николаевского острога.
Посчитав бумаги за благоглупости, Соймонов велел прибить на особый столб соборной площади Тобольска жесть с надписью. Что в течение недели желает дела свои здесь покончить и возвернуться на законное местопребывание губернатора Сибири – в Иркутск.
Тобольский народ с утра погрустил, а к вечеру – возрадовался отъезду губернатора. И на радостях разбил потайной шинок иудейского толоконника, вино испил, дом ростовщика пустил на поток и разграбление, прибив, впрочем не до смерти, самого потаенщика самопального зеленого змия. Сделано так народом было по причине хотения всего лишь изничтожить свои заемные бумаги. Заемные бумаги изничтожились, и город стал готовиться к шумным проводам губернатора Сибири.
– Сенька! – крикнул губернатор своего ближнего, – бегом сюды!
Сенька Губан, почуяв в голосе хозяина трещинку, появился мигом, таща в руках поднос с водкою и обычным заедком.
– Брось, – тихо сказал Федор Иванович, – этого не надобно, – вытер мокрые волосы, шею, попытался кашлянуть. – Зови кто кровь пускает. Немоготно мне.
Внизу, в сенях, кто-то забуркотел охранным казакам, требуя пропуска к губернатору.
На неприятный голос внизу Соймонов болезно озлился:
– Заодно побежишь к лекарю, разберись, кто там меня требует не в приемный час!
Сенька, полный тревоги за хозяина и свою подлую судьбу в случае, ежели Федор Иванович нечаянно отойдет к праотцам, борзой гончей скатился по лестнице, узрел среди двух дежурных казаков штатскую рожу и пошел ту рожу полировать, приговаривая: «Время знай, время приемное – знай!»
Казаки, как умели, оттерли Сеньку от и так уже пострадавшего человека. То был накануне калеченный тоболянами шинкарь-толоконник.
Сенька оттер окровавленную правую руку о штаны и побежал через улицу, наискось, к дому тобольского немца-лекаря. Вбился прямо в ворота, пнув злобного кобеля, и матерно стал звать со двора толстого иноземца-рудопущика.
Казаки, когда Сенька убежал, переглянулись, оттеснили жалобщика на улицу и медленно повели за угол Губернаторовых хором, задумчиво работая плетьми. Шинкарь издавал тонкие горловые звуки. Смысла в тех звуках не звучало – одна томная могильная истома…
***
Новость о внезапной болести сибирского володетеля от немца-лекаря стала тихо сочиться по городу.
Под вечер ко двору губернатора, выждав приличное время, подъехал на собственном выезде сибирский митрополит Павел. Два служки торопливо выкатили на стылую уже землю домотканый половик – от кареты до крыльца. Казаки охраны подошли к руке митрополита.
– Как он? – глухо спросил митрополит, подавая для поцелуя руку.
– Плохо, – ответил старший наряда, – плачет.
Оттолкнув служек, митрополит Павел стал степенно подыматься по лестнице. Сам распахнул дверь в приемную залу. За другой дверью, в кабинет губернатора, слышно – плакал старик, неразборчиво причитая. Митрополит покрепче взял посох, ровным шагом дошел до двери кабинета, толкнул ее посохом. Дверь поддалась – раскрылась.
Сибирский митрополит Павел сначала занемел, потом злобно стукнул посохом о пол.
На столе, крытом парчовой скатертью тяжелого кумача – бумаги валялись на полу, лежал в одних подштанниках Сенька Губан, сложив руки на груди как упокоенный. В руках горела толстая свеча. Губернатор Соймонов стоял возле стола на коленях, плакал, причитая сквозь слезы.
– На кого ты нас покинул, Федор Иванович? – гнусавил губернатор. – Нет, не так! Почто ты нас, убогих, покинул? Ведь мы тебя так любили!
Вокруг Сеньки, на парче, стояло полдюжины штофов среди тарелей и мисок. Губернатор на стук посоха поднял глаза. Разглядел митрополита.
– Сенька! – немедля взревел Федор Иванович. – Митрополит пожаловал! Немедля сюда – вина фряжского и сладких заедков! Сейчас полный феатр будет! Во славу разыграем мои похорона!
Сенька Губан немедля пальцами потушил свечу, бросил ее на пол, скакнул со стола и кинулся к буфету. Митрополит плюнул себе под ноги. Кинул служкам митру с головы, послал их вниз, пристроил посох в угол и решительно сел к столу.
– Водки, – сквозь зубы пробурчал митрополит Сеньке, – водки, а не вина кислого. По здорову ли будешь, Федор Иванович?