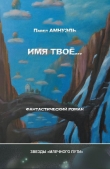Текст книги "Избранное"
Автор книги: Майя Ганина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
И руки сами вспомнили, какие кнопки надо нажимать, какие рукоятки крутить. Поработала в свое время, не ленилась.
Тогда модно было многостаночное обслуживание, я работала сразу на трех токарных станках. На стареньком «Красном пролетарии» – обдирка заготовки, длинная по времени и грубая по качеству обработки операция; зажимаешь в кулачках ржавую болванку, подводишь резец, чирк – точно серебряную фольгу намотали на ржавчину; включил автоматическую подачу – поехали! Падает белая стружка в поддон, шершавая серебряность неторопливо надвигается на бурую бугорчатость отливки. На втором станке – чистовая обточка той же самой детали, но стружечка тоненькая, крошится из-под носика резца быстро – точно редечку для «мурцовки» настругиваешь, вспоминаешь сытое довоенное житье. Не больно уж хитрое блюдо «мурцовка»: вода или квас, потом редька, черный хлеб и постное масло. Но у меня всегда почему-то эта стружечка в памяти вызывала такую еду, и слюна шла. Третий станок был ДИП-200, по тем временам быстроходный и новенький, на нем я эту же деталь рассверливала, вынимала канавку сверху, потом проходила отверстие зенкером и фасочку – циковкой. Чтобы успеть совершить все операции на третьем станке, пока первые две детали шли на автоматической подаче, требовалась вся моя тогдашняя виртуозность, чуткость ко времени. Пустив канавочный резец на автоматику, подбежать к первому станку – снять заготовку, поставить черную, перебежать ко второму станку, снять готовую болванку, поставить заготовку и – вернувшись к третьему – отвести канавочный резец и сверло, пройтись зенкером и циковкой, поставить в обработку новую болванку. Азартная была работа, держала в напряжении, чувствовала я себя ловкой, умелой: так все у этой девчонки и горит в руках!.. Еще мастер у нас, то ли умный был, то ли ему и правда нравилось, как я работаю, только он часто подходил, смотрел и, покачивая головой в армейской серой шапке (он инвалидом вернулся из армии в сорок втором году), говорил: «Красиво работаешь, барышня. В кино тебя только показывать. Тебя и Зинаиду». Умер он году в сорок восьмом, догнала его война – не спросишь теперь, правда ли я красиво работала, или просто похваливал, чтобы старалась. У Зины тоже было три станка – операции иные, но по принципу обслуживания похожи.
Зинаида говорила мне, что, когда перешли на другую марку продукции, большинство станков заменили автоматами. Вставил деталь – вынул. Если неполадка, автомат остановится и сигнал подаст. Работать легче, производительность выше, но мне было бы скучно. Да и всем, наверное, скучно, недаром Зина сразу на наладчика сдала, когда автоматы поставили. Все-таки головой надо думать, двигаться, комбинировать что-то, на горло жать.
Ну, а после работы мы с Зинкой бежали в ДК. Руководил нашим самодеятельным театром бывший артист МХАТа Андрей Иванович Донской. Ставил серьезные спектакли с настоящими костюмами, школа, которую он нам давал, была старомхатовская, без штампов обычной самодеятельности. Меня Андрей Иваныч выделял особо, поставил специально для меня «Грозу», где я играла Катерину, а Зинаида Варвару. Левка, которого мы тоже заразили нашей страстью на время, играл Кудряша. Андрей Иваныч мечтал поставить для меня пьесу «Псиша», малоизвестного какого-то старого автора, где я должна была играть крепостную актрису по имени Психея, но вдруг тяжело заболел и к нам уже не вернулся. Мы с Зинкой, правда, долго после ходили к нему домой, помогали, чем могли.
Нет, на заводе мне было интересно, тяжелая работа не отвращала: кругом жили и работали тяжело, это была норма. Но сцена уже имела надо мной власть: сладость преодоления страха контакта с залом – точно в холодную воду шагнул, – а после уже веселая свобода владения знакомыми и незнакомыми людьми – это я уже знала, жаждала этого, была не вольна в себе. Во ВГИК меня приняли сразу, уроки Андрея Иваныча себя оправдали. Приняли и Зинку, но она колебалась: уходить – не уходить с завода и как тогда жить на стипендию – продукты по карточке не выкупишь. Тут она снова забеременела – это решило ее судьбу.
Товарки по цеху первые пять лет все допрашивали меня, как я считаю, сильно Зинка прогадала?.. Я пожимала плечами, пожимаю и теперь. Из тридцати актрис, кончивших вместе со мной курс в мастерской известного режиссера, всерьез снимаются пять. А красавицы были, куда мне! И талантливые… «Верняка», «выслуги лет» нет в нашей профессии. Удача? Король-случай?.. Не знаю.
И потом – что значит «выгадала – прогадала»?.. Чем это измерять? Когда я была девчонкой, бабы во дворе говорили про кого-нибудь из жильцов – «они богатые», осуждая, согласно духу времени, но и завидуя. В те поры я завидовала девчонкам, ежедневно приносившим на завтрак булки с ветчиной или колбасой, ходившим в целых туфлях, «хороших» платьях, в теплых новых пальто. Голодные были, сытость казалась одной из непременных составных счастья. Теперь все вроде бы наелись, одеты, обуты… Чем же сейчас измерить разницу в «выгодности» моей и Зинкиной жизни? Кто из нас счастливее прожил свое, отпущенное? Зинаиде ее работа нравится и всегда нравилась, общественные свои дела она исполняет обстоятельно, со вкусом, с ощущением приносимой пользы; что касается личного, то и мужа до сих пор она любит, и дети здоровы, неглупы. В доме традиционный московский хлебосольный достаток, прочный покой…
А я?.. У меня все подчинено профессии, я счастлива успехом, несчастна отсутствием оного. Успех – это хорошая роль, где я могла бы проявиться, выложиться, передать себя людям… Я же чувствую в себе силы, нерастраченность таланта!.. Я вспомнила сегодняшнюю дневную съемку, представила эпизод, который должен сниматься вечером, – и даже застонала, так вдруг сделалось безысходно: полный крах какой-то, и впереди не предвидится радостей. Ролей для меня нет, давно нет, я играю не то…
Разве это роль – схема, каркас женщины, сумма прописных истин, набор штампованных эмоций? Тем не менее все это было бы удобоваримей, если бы сценарист попытался дать моей героине чуть-чуть иронического отношения к себе, наделил способностью иногда шутить над тем, что с ней происходит. Когда я соглашалась сниматься, надеялась, что найду какой-то ход, «оживлю», наполню юмором скучную схему, – видно, каждый из нас так самоуверенно думает, получая «не совсем ту» роль. Сниматься-то хочется!.. Но никаким актерским, талантом не закроешь бесталанную литературную основу. Увы!.. Все-таки самое великое чудо, которым владеет человек, – это речь, слово… Слово объединяет людей и разъединяет, делает счастливыми и несчастными, пронзает сердца и высушивает души… Лет двадцать уже я служу слову, но до сих пор иногда наивно изумляюсь: вроде бы сочетание обычных слов – читаешь, и сердце наполняется высокой болью, счастьем, делаешься на какие-то мгновения лучше… Катарсис… Забытый за непригодностью термин, я не помню, чтобы кто-то из критиков, пишущих про новые фильмы или театральные спектакли, помянул бы его. Очищение… Ведь мы не только шуты, развлекающие, занимающие публику, мы маги, призванные очищать души…
Щелкнул замок, вошел Алексей. Красавец мужчина в черной небольшой бороде, белозубый, улыбчатый, высокий, кольца на белых с розовыми ногтями руках – обручальное и два тяжелых перстня. Шамаханский принц…
– Приятная неожиданность! – зарокотал он. – В постели – прелестная женщина, к тому же собственная жена!
– Мы снимаем режим сегодня, – попыталась я его остановить. – Через полчаса мне на грим.
Но он уже плескался, отфыркиваясь, под душем, вышел в халате, с прилизанными мокрыми волосами, белоногий, очень роскошный и вовсе нежеланный мне. Что делать, я вообще малотемпераментная женщина. К своему красивому мужу отношусь великолепно: лучшего спутника жизни не выдумаешь. Дома все усовершенствования он делает собственноручно, с машиной возится сам, когда Сашка росла, я без забот могла оставлять ее с отцом, уезжая в экспедицию. В компаниях остроумен, весел, танцует все на свете и лучше юных. Недавно снимали «Танцы во дворе моего дома», не явилась массовка по вине помрежа – загримировали всех, мало-мальски умеющих танцевать в группе, – тут уж Алексей по праву был главным действующим лицом. Но я не хочу его…
Однако жена – это тоже профессия, существует привычка, покорность традиции и так далее и тому подобное…
– Сашке позвони, – сказала я. – Сейчас примчится меня будить. Пусть идет с Игорем обедать.
5
– Почему вы считаете, что я опять должна быть здесь жалкой и скромной? Это ханжество уже! Она видит в его глазах восхищение, в ней женщина заиграла! Должна же она хоть раз быть в фильме женщиной! Любить – это не преступление, это божья благодать. Не мешайте мне своей убогой арифметикой!
– Ну вот, договорились до мистики: бог, убогий!.. – воздев театрально руки, Валентин Петрович пошел к режиссерскому креслу, сел. – Делайте как хотите, но все равно эту сцену заставят вырезать. «Ханжество»!.. А то вы не знаете, из кого худсоветы состоят.
Впервые в жизни я сорвалась на площадке, усталость все-таки берет свое. Обычно я умею сказать то же самое с улыбкой. Сейчас я кричала не помня себя, как базарная баба, как на кухне, перед группой стыдно, все отводят глаза. Только Игорь Сергеевич с интересом посматривал на меня да Сашка усмехаясь подмигивала.
– Она права, – вдруг словно отрубил Кирилл. – Или теперь вы дадите нам свободу, или я бросаю все и уезжаю. Незачем было приглашать нас сниматься, если вы диктуете каждую интонацию. Всё. Стася, не нервничай, давайте снимать.
Кирилл обычно отмалчивается: знаменитый отличный актер, снимается много, эта роль ему не так уж и важна, я уговорила его сниматься. Его неожиданная поддержка тронула меня почти до слез, – чтобы успокоиться, я подхожу к парапету, разглядываю красный в черных полосах облаков закат, черную в красных зигзагах реку. Снимаем «режим» – вечерняя съемка. На пленке получится почти так же, чуть, может, потемней, чем натура. Красиво. Кирилл подошел, обнял меня за плечи.
– Не трать себя, дело того не стоит, – говорит он довольно громко.
Ну вот, не хватало еще разреветься от жалости к самой себе. Надо переключить эмоции на прекрасное, собраться. Через мгновение оборачиваюсь, спрашиваю с улыбкой:
– Итак, снимаем?
Режиссер обиженно молчит, Игорь Сергеевич весело ответствует:
– Снимаем. Марина, массовочку прогони еще раз! Чтобы в камеру не пялились.
Снимаем проход по набережной. Вечерний город, толпа, Кирилл – то бишь мой начальник цеха – возвращается со смены, встречает дочку с ухажером, которого он терпеть не может. Разговор. Потом он идет один, переживает, и вдруг навстречу я. Почти нет разговора: откуда, куда, зачем, какой вечер прекрасный… Только дураку непонятно, что они оба кричат сейчас друг другу: я люблю, я люблю, я люблю!.. «Она должна быть скромной. Ты играешь идеальную современную работницу».
Уж куда скромней! Даже не поцеловались всерьез за всю-то картину! По нынешним временам в детском саду уже влюбляются и целуются, соседка рассказывала: дочка-первоклассница пришла из школы: «Мама, я на турнике висела вниз головой, а меня Вовка Дерябин поцеловал, я прямо упала!» Теперь главное внимание юных и нежных отдано потреблению: машина, красивый хрусталь, ковер, платье, туфли – все должно доставлять удовольствие. Секс перешел в разряд доступных удовольствий, любовь перекочевала из сферы высокого в сферу потребления. Правда, наше поколение, к которому принадлежит моя героиня и герой Кирилла, все же другие, любовь для нас запретный и потому по-прежнему прекрасный плод.
Сняли. Игорь постарался, по-моему: замучил «дольщика», передвигающего по рельсам «доли» – тележку с камерой и оператором. Наезд, быстрый отъезд, остановка, снова отъезд… Интересно, как все это смонтируется; впрочем, Валентин Петрович, чего доброго, выбросит сцену.
«Всё, свободны», – сказал режиссер, пошел к такси, закрепленному за группой, сел и уехал, никого не взяв до гостиницы. Черт с ним, поеду в «рафике», не велика барыня. Залезаю в «рафик», прошу Люсю скорее снять грим: голова разламывается, а тут еще эти стяжки. Пока она быстро расплетает и расчесывает мои косички, я, глядя в маленькое зеркальце, отлепляю ресницы и отдаю молоденькой гримерше, провожу по лицу ваткой с оливковым маслом, чтобы снять пленку грима, не пропускающего воздух. Промокаю лигнином, лицо все равно лоснится, но до гостиницы доеду неумытая, уже темно почти. Опускаю зеркальце – и вдруг вижу Саньку и Игоря Сергеевича. Саша стоит, облокотясь спиной о парапет, согнув в колене высоко оголенную ногу и уперев подошву в гранит парапета. Одно плечо выше, другое ниже, шея изогнута, наклонена к плечу, но точно молоденькая козочка моя дочка – все эти ломаные линии изящны. Игорь Сергеевич басит что-то, размахивая руками, смотрит на Сашку восхищенно, а та усмехаясь слушает, в глазах – ощущение своей женской власти, так знакомое мне.
Я отвожу взгляд, расстегиваю дрожащими руками сумочку, чтобы сложить зеркальце, тяну губы в улыбке.
– Что же мы не едем? – спрашиваю я. – Кого ждем? Я устала.
Помимо воли голос делает взлет, почти взвизг. Люся и помощница переглядываются, Люся быстро кончает расчесывать меня, помощница кричит:
– Саша, Игорь Сергеевич, вы едете? Анастасия Викторовна устала, торопит.
– Едем! – отзывается Саша, подбегает к «рафику» и, облапив меня по дороге, пробирается на заднее сиденье.
Игорь, опершись толстыми ладонями о косяки дверного проема, суется в «рафик», смотрит на меня с полуотсутствующей улыбкой, переводит взгляд на Сашу, снова возвращается ко мне, и вдруг глаза его серьезнеют. Не успела я прибрать свое лицо, не хватило сил. Жалкое, смятое и растоптанное. Смотрит на меня Игорь долго, произносит неторопливо:
– Саша, а мама у нас не заснет. Нам – еще одно кино, а она вон какая вся… Вы валяйте поезжайте, мы пешочком… Анастасия Викторовна, вы же любите пешком ходить!
– Спасибо за чуткость, Игорь Сергеевич, – говорю я, слыша, как слеза звенит в моем голосе. – Но сегодня у меня, увы, нету сил идти пешком. Саша вам составит компанию. Иди, Сашок, я лечь хочу. Завтра, слава богу, выходной, хоть этого типа не увижу!
Опять срыв при группе. Нынче же будет известно. Но – плевать.
– Мама, Андрей приехал, ты что! – смеется Саша. – Я лечу на крыльях любви к себе в номер.
Чувство некоторого мстительного удовольствия охватывает меня: я и забыла, что сегодня прилетает мой зять – вырвался на воскресный день. Он актер, у него тоже съемки, но их экспедиция в пределах досягаемости.
Игорь Сергеевич созерцает мое лицо, потом так же молча опускается на колени и стоит. У блатных, что ли, научился дешевой театральности? Девочки в «рафике» хихикают, но мне почему-то приятно.
– Королева, снизойдите.
– Не балаганьте, Игорь, вы же не мальчик, – говорю я, стараясь, чтобы голос был сердитым, но внутри уже начало оттаивать.
– Мама, – смеется Сашка, – мне каждая секунда дорога! Игоря не переупрямишь. Выйди, ради общества. И выясняйте отношения.
В интонации – неуловимое превосходство, сознание, что в ее силах изменить ситуацию. Это снова цепляет меня, но мне очень хочется выйти и остаться с Игорем, пройтись с ним одним, просто так…
Я выхожу, «рафик» уезжает, Игорь, отряхнув колени, молча берет меня под руку, мы идем по набережной, уже темно, и, слава богу, никто на меня не пялится, никто не узнает. Утешение во скорбях дневных начинает осенять меня.
– Ты не обедала? – спрашивает Игорь. – Я тоже проспал. Но жрать хочется. И выпить. Зайдем в этот мусорный ящик?
Впереди – стеклянная, освещенная изнутри коробочка какого-то кафе. Я молча киваю. Мы заходим. Игорь отыскивает в углу свободный столик, убирает с него грязную посуду на соседний; добыв из карманов куртки газету, стирает разводы томатной подливки, хлебные крошки и пивные лужицы, вешает куртку на спинку алюминиевого стула.
– Чтобы фраера не думали, что ты тут их ждешь. Сиди. Я пошел, чего-нибудь добуду.
Я достаю из сумочки десятку, он берет не ломаясь. Во-первых, любая «звезда» всегда пользуется случаем «поставить» оператору, а во-вторых, оклад у него двести рублей, молодая жена с сынишкой и машина, которая уж я-то знаю во сколько обходится. К тому же когда-то он был при больших деньгах, посорил ими вволю, видно не придает им значения. Однако я слышу где-то глубоко в себе неудовольствие оттого, что Игорь так легко принял эту десятку. Я люблю, потому жажду уважать, возвеличивать, идеализировать…
Я сижу спиной к залу, мне видна черная полоса Волги, проблески заводей и низко – малиновая в оранжевость прорезь в плотности неба. Сейчас мне кажется, что эпизод удался, что, может быть, когда все смонтируется, когда наложится звук, все будет не так уж и плохо… Я почти счастлива.
– Ты где? – раздается над моим ухом голос. – Все проигрываешь эпизод?
Горячие сосиски – горкой на тарелке, маринованные кильки с яйцом, хлеб и два стакана.
– Ну. – Игорь наливает по трети стакана водки, сует бутылку в карман куртки. – Первый раз мы с тобой пьем. Так за это.
Мы чокаемся, пьем, глядим друг на друга поверх стаканов, молча ждем, пока «достанет». Его большое, всегда словно бы спросонья, длинное лицо розовеет: достало. Он улыбается.
– Ну вот как хорошо. Целый месяц хотелось. Ешь.
Я сижу спиной к залу, меня никто не видит, до меня никому нет дела, и потом, я немножко пьяная уже, счастливо пьяная – можно человеку немного свободы в его трудной сдержанной жизни? Я улыбаюсь Игорю, руками укладываю на кусок хлеба кильки, половинку яйца, посыпаю зеленым луком.
– Во! Сделать тебе?
– Сделай. – Игорь наливает еще. В том, как он торопится к хмелю, нет противного, он добр и трогателен сейчас.
– Держи. – Я протягиваю ему самую прекрасную в мире закуску, снова чувствую себя талантливой, повелительной, веселой, красивой!..
– За мою любимую актрису.
– За Сашеньку, что ли? – не удерживаюсь я. – С удовольствием. Лишь бы она была здоровенькой!..
– За нее потом. Сейчас за тебя. С восемнадцати лет влюблен в тебя. С твоей первой роли.
Сижу, счастливо расслабившись, мысли добрые и веселые ходят во мне, иногда достигая сознания, иногда незарегистрированно растворяясь в естестве моем, оставляя после себя только ощущение, что мне хорошо. Мне смело. Я не помню, когда за последние десять… нет, сорок пять лет мне было так хорошо и смело. Я могу говорить что хочу, могу пойти по всем столикам улыбаясь и петь, чтобы всем было хорошо.
– Хочешь, буду петь? – предлагаю я Игорю. – Мне хорошо, пусть всем будет хорошо.
– Хочу, – говорит он. – Но это потом. Да и кому тут петь, – он оглядывает тесно набитый каким-то странным людом зальчик кафе. – Фраера, дешевки. Посиди, пусть мне будет хорошо. Слушай, мы с тобой как рыбка с водой. Я, между прочим, так и думал, что нам с тобой хорошо бы выпить.
– Ты думал обо мне?
– Я же тебя люблю. Ты знаешь.
Он берет мою руку, целует пальцы, пахнущие килькой. Я все равно понимаю, что это он во хмелю любит меня, но мне хорошо. Мне прекрасно. И смело.
– Это я тебя люблю, – возражаю я. – А ты любишь Сашеньку. Я ее тоже очень люблю, больше всего на свете. Но мне плохо.
– Я знаю, – говорит он, и в темной хмельной уже воде его глаз вдруг проступает добрая мысль и сожаление. – Я все знаю. Но Сашеньку я не так люблю, я ею любуюсь. Я ее снимать люблю, каждый поворот – чудо… Ты знаешь, я так любил снимать лошадей, особенно жеребят. Но после Вайды и Тарковского нельзя… Жаль. Так за Сашеньку?
Мы снова чокаемся и пьем, но мне уже грустно и хочется что-то сделать, чем-то обратить на себя его внимание, чем-то пронзительно поразить Игоря, чтобы он опять думал обо мне, жалел меня. Утопиться? Вскрыть вены? Но я молча ем, опустив голову, Игорь тоже ест, шумно пережевывая хлеб и сосиски, потом рука с ломтем падает на край стола, Игорь смотрит на меня.
– Я слышу тебя, – говорит он. – Ну что ты киснешь? Кончай давай. – Он выливает остатки водки себе в стакан. – За тебя!
Выпивает. Лицо его становится молодым, добрым, он чуть улыбается, глядит на меня пристально и покорно.
– Чего ты хочешь? – спрашивает он. – Скажи, из-под земли достану.
– Не знаю, – говорю я горько. – Я не знаю, чего я хочу. Пойдем домой.
Когда мы доходим до гостиницы, я вдруг чувствую, что я совершенно трезва, что мне опять хорошо и весело, а домой идти вовсе не хочется.
– Игорь, – говорю я, понимая, что говорю не то, что это плохо кончится, и вообще этого говорить нельзя, – поедем, немножко покатаемся? Ведь ты уже трезвый, правда? Полчасика. Такой хороший вечер!
Мы едем по темным пустым улочкам, потом выезжаем на загородную дорогу и едем, едем, едем. Ехать прекрасно, я люблю движение – это мое состояние. Когда я еду ночью на машине, головная боль и стянутость мышц оставляют меня, я наполняюсь равновесием и предчувствием счастья – только бы не приезжать: остановку я слышу впереди, как боль.
– Я люблю тебя, – повторяет Игорь.
Тяжелая огромная рука его лежит на моей, тяжко стучит во мне кровь. Что-то с нами будет. Но я знаю, что ничего не будет, бог любви несет нас на своих крыльях.
Впереди какое-то не то озеро, не то водохранилище, высокий темный берег лесист и дремуч, вода медленно дымится туманом.
– Свернем? – в одно слово произносим мы.
Отпустив мою руку, Игорь свертывает на песчаный съезд, едет по нему медленно, потом, разогнавшись, въезжает на взгорок, почти достигает вершины, но колеса пробуксовывают – и старенькая «Волга» Игоря скатывается к самой кромке воды. Выругавшись, Игорь газует, пытается вновь загнать машину на бугор, снова сползает, снова газует…
– Не надо, зачем тебе туда? – я кладу ладонь на его лоб, чувствуя, что он завелся уже, пьяно звереет. – Подожди, остынь, мы сейчас выедем. Ты только подожди…
Он сдает назад, но, не рассчитав, плотно сажает задние колеса не то в ил, не то в жидкий прибрежный песок. Пробуксовывая, они выбирают под собой колею, мы уже сидим на брюхе. Игорь выключает зажигание.
– Все. – И, выматерившись, кладет голову на руль.
Я сижу неподвижно, соображая, что сами мы отсюда не выберемся, что машин на шоссе нет: второй час ночи… Что меня уже хватились и волнуются.
– Игорь, – говорю я, – давай выйдем на шоссе, поймаем машину. Надо домой.
– Сейчас. Подожди, – говорит он, и голова его, покачнувшись, откидывается на подголовник кресла. – Сейчас… я… Тебе не холодно?
Он поворачивает ключ зажигания, мотор уютно тарахтит, мигает красный огонек на щитке, идет тепло от печки. Игорь спит, хорошо, глубоко похрапывая, я сижу, положив на колени ладони, выпрямившись. Вот так, мать. Не полна ли необыкновенной иронии эта финальная сцена? Последний акт водевиля с музыкой и плясками: ночь, луна над озером и громкий храп кавалера. Как это говорила Раневская в свое время: «Дорогой, что тебе во мне больше всего нравится?» – «Жилплощадь!..» Ладно, я хоть обладаю чувством юмора и умением по одежке вытягивать ножки. Ножки, правда, тут не особенно вытянешь, но я, как могла, откинула спинку своего кресла, улеглась поудобней, укрылась пальто. Не похвастаюсь, что заснула мгновенно, разные мысли приходили и уходили, занимая определенное время и отнимая определенные силы и бодрость духа. Потом я все же заснула. Проснулась оттого, что нечем стало дышать, выключила зажигание, приоткрыла стекло. Игорь спал в той же позе, все так же основательно похрапывая. Мне храп его не мешал почему-то, хотя я, как все нормальные люди, терпеть не могу, когда храпят. Просто мне было хуже уж некуда.
Я глядела на чуть освещенное запрокинутое лицо Игоря с полуоткрытым ртом, на его длинные ноги: одно колено неуклюже упиралось в дверцу, другое касалось моего бедра. После крепко выпитого мертво спал настоящий, без дураков, мужик… Я глядела на Игоря и вспоминала, что он до сих пор ездит в отпуск охотиться в Сибирь, что прошлой весной они в Подмосковье били кабанов и на него бросился раненый кабан. Я никогда не бывала на охоте, мне все охотники казались людьми мужественными, настоящими. Я специально вспоминала какие-то лестные для Игоря вещи, мне хотелось думать о нем хорошо, мне было жаль терять свою зависимость от него. Потом почему-то вспомнилось, как я маленькой девочкой пришла с отцом в гости к Генеральному Прокурору Советского Союза Крыленко, они дружили, отец работал раньше в Наркомюсте в должности «товарища прокурора», не знаю, что это за должность, но отец именовал ее именно так. Из Наркомюста отец к тому времени ушел, но с Крыленко друзьями они остались. У нас дома всегда говорилось о нем с восхищением: альпинист, охотник. Отец не был ни альпинистом, ни охотником, хотя ходить по горам, просто ходить на далекие расстояния всегда очень любил, меня приучил к этому, тело мое тоскует без движения. Мне очень, конечно, хотелось увидеть этого необыкновенного человека, я воображала его могучим и красивым, увидела: маленький, толстый, с бритой не то лысой головой. Зато квартира его: две или три комнаты и передняя – потрясла меня. На стенах головы оленей, архаров, медвежьи и рысьи шкуры, чучела птиц, белок. Долгое время в мечтах я видела свою будущую квартиру именно такой – полной присутствия дальних, прекрасных поездок. Я подумала, что, наверное, у Игоря тоже очень интересная квартира со шкурами и чучелами, потом заснула.
Проснулась от тишины и холода. Светало. Над озером стоял туман, проглянулась желтая с черным кайма берега, рыжая неяркая глина обрыва. Сосны на обрыве были мокрые от тумана.
В машину через приоткрытое окно наползла сырость. Я завернула стекло, попыталась включить зажигание и печку, но не получилось: мотор заработал, однако вентилятор гнал холоднющий воздух.
– Игорь! – я потрясла его за плечо. – Я замерзла, включи печку.
Игорь сполз ничком к дверце и продолжал спать, неудобно ткнувшись лицом в стекло, но уже не храпел. Я еще раз потрясла его.
– Да? – он поднял голову и сразу сел. – Застряли мы? Я сейчас…
– Слушай, – сказала я голосом, от которого просыпаются мертвые. – Уже рассвело. Если ты сейчас не пойдешь на шоссе, за машиной, я выйду голосовать и уеду. Я хочу домой.
– Сейчас… – сказал Игорь, повернулся ко мне лицом и, обняв меня, притиснул к себе, приглашая спать. Будто мы прожили с ним долгую, отнюдь не плохую жизнь, но ни о какой страсти речи уже идти не может. Это меня в данный момент устраивало, но все-таки было обидно. Я высвободилась, и он заснул по-прежнему мертво, пытаясь во сне найти лбом мое или чье-то плечо. Постанывал иногда, как капризный, что-то выпрашивающий ребенок. Интересно, неужели они с женой спят в одной постели? Мы с Алешкой спим даже в разных комнатах, я не засну, если в комнате кто-то есть.
Я поглядела на отекшее, немолодое, некрасивое лицо Игоря, на его щеку, выпяченную подголовником, и скошенный от неудобной позы рот, поняла, что я не люблю его, никогда не любила, тоже умостилась поудобнее и снова задремала. Когда я проснулась, солнце светило в боковое стекло. Туман над озером был желтым, стволы сосен и обрыв – ржаво-красными. Я снова поглядела на спящего Игоря, поблагодарила судьбу, что это я, а не он проснулся первым, и стала причесываться, развернув к себе смотровое зеркало. Ничего прекрасного я там не увидела. Кое-как привела себя в порядок и решила выйти, хоть рот прополоскать: довольно помойно там было после вчерашнего.
Вышла. Игорь вздрогнул, когда хлопнула дверца, и некоторое время продолжал лежать, глядя и не глядя. Я спустилась к самой воде, дрожа мелкой собачьей дрожью от утренней сырости. Присела, зачерпнула пригоршню воды, поднесла к лицу и вдруг согрелась и развеселилась. Что я, не имею права на зигзаг в моей разумной сдержанной жизни? Может, и не имею, но коли уж он получился, надо его отстаивать, это самое «право»!
Хлопнула дверца, вышел Игорь, проскрипел по песку туфлями, остановился за моей спиной. Зевнул и потрясся телом – точно лошадь дернула шкурой от паутов.
– Здорово! – сказал он. – Это я, значит, всю ночь дрых?
Присел рядом, умылся, расстегнув ворот рубахи и омочив грудь и шею.
– Нельзя мне пить, – сказал он задумчиво. – Дурею теперь быстро. Видно, свою цистерну спирта уже прикончил, хватит. Как мы заехали-то сюда? Счастье, что свернули и застряли, не то бы!.. Хорошо-то как! – прервал он себя. – Сибирский пейзаж… Чо делать-то будем, деука? – весело передразнил он какой-то сибирский диалект.
Мне тоже вдруг стало весело. Я выпрямилась и засмеялась.
– Ладно. Я пошел на шоссе, тягача караулить, а там – посмотрим. Садись в машину, я включу печку. Не хватало мне тебя еще простудить!
Я села в машину, потом вылезла, походила вокруг, потом послышалось завывание грузовика. Шофер грузовика, молодой, но очень серьезный, постоял возле нашей машины, определил, что мы хорошо сидим, они с Игорем зацепили трос за гак, постояли еще, потом грузовик попятился, натягивая трос, а Игорь толкал «Волгу» сзади. Лицо его было напряжено, на щеках проступила розовость, перебив землистую серость. Грузовичок выволок нас к шоссе. Игорь отцепился, развернувшись поставил «Волгу» на обочине, пошарил по карманам и, достав трешку, пошел к кабине грузовичка. Вернулся в машину, выключил зажигание и, поглядев на меня сбоку из-под волос, усмехнулся полувиновато. Взял мою руку, поцеловал ладонь.
– А хорошо, – сказал он. – Все равно хорошо.
И замолчал. Было и правда хорошо. Мы сидели рядом молча, он держал мою руку в своей, огромной, и я опять слышала, как бьется во мне, переходя от него, счастливое тепло желания. Словно очнувшись, Игорь повернулся, посветлел глазами. «Выйдем? Уже не холодно».
Мы вышли, он запер машину и, держа меня за руку, пошел к озеру, потом взобрался на обрыв.
– Вот я куда хотел, – сказал он. – Гляди.
За озером было видно желтое убранное поле, деревню и церковь на самом краю ее. Солнце стояло еще низко, и церковь была черная, точно грибы на пне, а крыши домов сверкали.
Мы вошли в лес и шли долго, я уже очень хотела, чтобы мы перестали идти, потому что жаркая кровь остановилась во мне, заполняя все тело и сделав его напряженным и требующим свершения.
6
– Зинка, что делать-то? Я люблю его! Такого со мной никогда не было. Всю жизнь холодной себя считала, думала: сублимация – темперамент в игру уходит. Мы точно обалдели, не видим и не слышим никого. Сашка глаза выпучивает, она от меня такого бесстыдства не ожидала. Режиссер его жену вызвал, она телеграмму дала, а он позвонил: не приезжай, все правда. Дай, мол, разберусь в себе. Что делать-то? Если бы не Сережа, я бы, наверное, вовсе обезумела. Ох какая глупая смерть, поверить не могу.
– Как он умер-то? – спросила Зина.
Мы с ней сидели, забравшись с ногами на тахту, у меня в комнате, пили водку, поминая Сергея. Зинка жевала апельсин, я сунула в рот конфету с орехами, но не смогла проглотить: спазма держала горло.