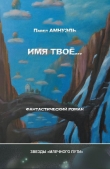Текст книги "Избранное"
Автор книги: Майя Ганина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Огромная вода плыла мимо нас. Гладкая непрерывность ее шла и шла бесконечно, как жизнь; в черноте ее качались и пропадали неясно белые туловища людей, торчали неплотно в этом бесконечно древнем потоке, словно бы фигурки грешников на кругах Дантова ада. Больные, здоровые, старые, молодые, женщины, мужчины – всё новые и новые толпы паломников торопливо размещались в священной воде, умывались, чистили зубы, мыли в паху, под мышками, очищались. Ганг равнодушно уносил поверяемые ему грехи, точно это была массовая безмолвная исповедь. Я присела на корточки, опустила руки в воду: здравствуй… Ганг снисходительно шлепнул волной, здороваясь, намочил мне ноги. Я умылась: в воде Ганга много растворенного серебра, она чиста, она очищает.
Помедлив, Василий тоже наклонился, опустив руки в воду, провел по лицу.
– Я рад, что увидел это…
Ночью мы спали рядом, и опять больше нежности, чем страсти, было в наших объятиях.
Когда мы уезжали, я уговорила Василия купить жене золототканый бенаресский шарф. Он купил два – жене и дочке. И еще купил гипюру. У нас все консультанты покупали женам гипюр или бархат.
– Приезжай, – звал он меня. – Вернешься в Союз, приезжай просто отпуск провести. Проедемся с тобой по Байкалу, поживем где-нибудь в диком месте в зимовье. Приезжай, зайчонок, покажу тебе Сибирь, куда твоя Индия!..
Спустя десять месяцев мне написал его товарищ. Василий погиб в то же лето: поехали на Байкал на рыбалку, разыгралась волна, не выгребли к берегу…
Нерасчетливо-щедро растратил он свою жизнь, думала я раньше. Может, это и хорошо, что нерасчетливо, – думала я сейчас…
9
Еще несколько дней на обходах ничего не говорил мне Игорь Николаевич, я не спрашивала. Ходил он мрачный, раздраженный: то ли у него на самом деле были неприятности из-за Аллы, – хотя кто гарантирован от такой злой нелепости, – а скорее всего, мучило самолюбие.
Ну а я боялась о себе спрашивать: вдруг уже проконсультировали, подтвердилось, и он не хочет мне говорить, тянет.
– Опять ничего? – злился на меня после обхода Анатолий. – А вы не спросили?.. Заячья политика. Впрочем, я тоже…
Мы помолчали, каждый думая, наверное, о себе. Опять у меня стало пусто под ложечкой от страха.
– Я ведь тренер… – сказал Анатолий, продолжая вслух какие-то свои мысли. – Мальчишек тренирую из «Золотой шайбы»… Если диагноз подтвердится, я кончился…
– Подождем… – сказала я сердито.
Ну хорошо, какую-никакую – узкую, однообразную, но я прожила жизнь. Не успела главного, но главного всегда не успеваешь. А этот-то парень, за что его?..
И еще Таня… Каждый день, хоть ненадолго, забегал к ней в часы посещений муж. Таня отворачивалась лицом к стене и лежала так все то время, пока он сидел на стуле, возле ее койки.
Мы уже знали – Аня выпытала, – что Юрины родители были против их брака: больная. Может, эти нервы, эти слезы и скандалы подтолкнули болезнь; у Тани пошло резкое обострение процесса. А здесь, после обследования, у ней обнаружилась острая красная волчанка. Ей об этом не говорили, но Юра знал, что жена обречена.
– Не ходи ты, не рви ей сердце! – убеждала Аня, подлавливая Юру в коридоре. – Ты уйдешь, а она плачет до самой ночи, на одних уколах спит…
Юра отмалчивался, пожимая плечами, но ходил.
Почему любовь так часто обречена? Почему взаимное высокое чувство заканчивается сплошь и рядом трагедией?.. Или любовь в сути своей питается предвкушением конца, утраты?.. А если все безоблачно, она быстро, изжив себя, переходит в привязанность, гасится бытом, усталостью?.. На Юру сбегались глядеть все девчонки из соседних палат, а он проходил, горько не поднимая глаз, не слыша ничего.
После моих рассказов вышел и Анатолий поглядеть на Юру, сказал мне вечером:
– В общем-то он счастливчик, этот парень. Так любить!.. А я не любил никого, вот беда. И уж не полюблю, не успел. А вы?
– Любила, – сказала я, вспомнив Василия.
В среду, перед профессорским обходом, меня позвали вниз, в кабинет директора. Там сидели директор, Яков Валентинович, Игорь Николаевич и еще какой-то немолодой угрюмый мужчина, разглядывающий на свет мои снимки. Опять я тянула рубашку через голову перед людьми в белых халатах, стояла, чувствуя, что сердце бьется редко, словно собирается остановиться, и в ногах как бы теплая вода налита – вялые, тяжелые, покалывает.
Угрюмый доктор принялся выстукивать мою спину внимательно, участок за участком, потом бока, потом грудную клетку над ключицами, потом взял стетофонендоскоп и стал слушать: «Дышите открытым ртом, задержите дыхание, дышите глубоко…» Словно сквозь вату слышала я звуки его голоса, стягивало нервно лицо.
– Одевайтесь… – доктор сел на прежнее место, положил на край стола кисти, сцепленные замком.
– Ну что же… – он вздохнул, обдумывая. – Хроническая пневмония, корни бронхов расширены, бронхит ваш прослушивается… Эмфизема… Набрали порядочно, как же можно так небрежно обращаться со здоровьем?
– Да? – перебила я его нетерпеливо и грубо. – Это понятно, а как обстоят дела с… – я произнесла тот изящно-обходной латинский оборот, который употребил неделю назад Игорь Николаевич.
Врачи переглянулись. Игорь Николаевич покраснел, Яков Валентинович задумчиво покачал головой. Угрюмый врач вдруг улыбнулся:
– Tumor malignus у вас нет, коллега. – Он заглянул в историю болезни. – Впрочем, вы не медик, искусствовед… Кто сказал вам такую глупость?
– Мне, верно, послышалось… – произнесла я и, поднявшись, пошла к выходу. – Спасибо вам… – я вернулась и протянула руку угрюмому доктору. – Считайте, что вы родили меня заново. Да? Наверное, так…
Я выговорила все эти глупости радостно-злым тоном, словно мстила кому-то. Поднималась по лестнице, слышала, как дрожат ноги и бешено колотится сердце.
На стуле, недалеко от входа, сидел Анатолий. Он встал мне навстречу:
– Ну?
– Жалкая симулянтка… Я же говорила. Впрочем – хроническая пневмония, эмфизема легких…
– С этим живут… – сказал он и, взяв мою руку, пожал без улыбки, только глаза потемнели. – Рад за вас. Почти как за себя был бы рад. – Он замолчал, глядя мне в лицо растекающимся взглядом, вздохнул. – А у меня диагноз подтвердился… В коленных суставах уже есть жидкость. Помните Джером Джерома: вода в коленке?
Я стояла, не зная, что сказать. Наверное, вот это и называется стресс: кривые эмоций – резко вверх, резко вниз…
– Сядем… – попросила я. – Что-то мне плохо…
Под перекрестной игрой удивленных, насмешливых, недоумевающих взглядов он отвел меня в закуток возле процедурного кабинета, усадил на деревянный диванчик, сходил за каплями к сестре. Я выпила горькой водички, откинулась затылком на жесткую деревянную спинку. Слабо расползалось тело: мышцы ускользнули из-под мозгового контроля, подташнивало.
Анатолий сел рядом, растерянно глядя мне в лицо.
– Что ли, вас в палату отвести? Ляжете? Зеленая вы очень стали…
Я кивнула, пытаясь улыбнуться.
– Пожелтею… Ничего, отдышусь немного, сама дойду.
– Да я отнесу вас, – великодушно предложил он.
Я испуганно выпрямилась.
– Да вы что?.. Черт, не ожидала я, что так раскисну.
Анатолий недоуменно поднял плечи:
– Мне в голову не могло прийти… Я не подумал, брякнул. Нервы у вас были на пределе неделю целую – реакция.
Он замолчал, как-то странно разглядывая меня и морща высокий сухой лоб. На лице его проступило замкнутое недовольное выражение.
– Наверное, так, – согласилась я. – Человек – эгоист, и чужая тяжкая болезнь не может волновать его как собственная. Но что-то, Толя, я стала близко к сердцу принимать чужие горести. Сама себе удивляюсь… Ваше сообщение меня, – я подбирала слово, – огорошило… Словно меня под коленки с размаху ударили, такое было ощущение.
Он покивал головой, полуотвернувшись, уголок длинного рта приподнялся скептически.
– Растерялся я как-то… – сказал он через паузу, все еще не глядя на меня. – В тридцать лет в теоретика не переквалифицируешься, да и зачем?.. – Он резко обернулся. – Ну, пришли немного в себя? Пойдемте, я в палату вас провожу.
В палате я легла под одеяло, сбросив халат, и почувствовала, что вот – то, искомое, положение, в котором я могу существовать дальше.
– Вера, что? – спросила, не выдержав, Аня.
Хотя я ничего не рассказывала, но соседки мои, конечно, знали предположение Игоря Николаевича и ждали меня с консилиума. И еще раз удивилась я: чужая беда невольно становится в какой-то степени твоей собственной здесь. Видно, и на самом деле кожа делается тоньше от высокого содержания стрептококков в воздухе…
– Этого нет… – сказала я. – С легкими неважно, но этого нет. Чуть было не померла от радости.
– Так бывает… – грустно подтвердила Люся. – Сильные переживания – это…
Она примолкла как-то, притихла с той злополучной ночи, больше теперь лежала, чем ходила. Раньше она, наоборот, старалась днем не ложиться, чтобы не дать совсем ослабнуть мышце сердца, теперь лежала почти целый день, у ней появились отеки, два раза за это время ей назначали капельницу со сложным составом сердечных и обезвоживающих лекарств. Не прошли ей даром Алкины штучки…
Заглянул Игорь Николаевич, остановился в дверях.
– Что это с вами?
Видно, сестра сообщила ему, что мне было плохо.
– Стресс…
Он покачал головой, взял мою руку, начал считать пульс, потом добыл из кармана этот надоевший мне до смерти аппарат для выслушивания, мотнул головой:
– Поднимите рубаху.
Какой толк, что он лишний раз пройдется пластмассовой лягушкой по моей груди и ребрам? Не вернешь… Но подчинилась – здесь я только и делала, что подчинялась приказам, как в армии. В жизни мне не приходилось исполнять столько приказов.
Слушал он долго и внимательно, по его полуприкрытым, с набухшими сосудами, векам пробегал трепет живого интереса: наверное, шел какой-то иной, свежий поворот темы в мозгу. Могла ли я его судить? Сама была такой же: сейчас я поймала себя на том, что наблюдаю за собой. Реагирую, бурно переживаю и спокойно регистрирую эти переживания: последовательность, внутреннее движение эмоций – прилив и отлив – и поведение мышц, как следствие этих эмоций. Приоритет духовного над физическим: бог слепил фигуру из глины и вдунул в нее душу. Тогда человек стал человеком…
Высвободив уши от кнопочек стетофонендоскопа, Игорь Николаевич поднял глаза. Я улыбнулась ему сообщнически: ничего, малыш, ставь свои опыты, может быть, это когда-то пригодится человечеству. Глаза доктора наладили со мной смущенно-веселый контакт, он поднялся, кивнул мне и вышел. Тут же явилась сестра со шприцем, вкатила мне дозу какого-то лекарства, кордиамина, что ли…
– Это надо, такую нервотрепку человеку устроить!.. – возмущалась Серафима. – За здорово живешь нервы потрепали, и ничего. Со всех взятки гладки. Хорошо, сердце у вас здоровое, другой бы умер.
Я промолчала, делая вид, что заснула. Не могла же я ей сказать, что, в общем, не жалею об этой неделе, чего бы она ни несла моему хрупкому здоровью. Что-то она дала мне, эта неделя, – что-то, чего не имела я в моей предыдущей жизни, словно бы прежде я была лишена какого-то органа чувств. Вкус, обоняние, слух, зрение, осязание… Самого главного – радарного – не было у меня. На прием не работали моя кожа, мой мозг – только на самопроизвольную передачу, когда слишком круто начинало бурлить то, что варилось внутри. Сейчас бойлер отключен от сети, внутри поутихло – начался прием.
К тому же ехидная реплика Серафимы, насчет моего здорового сердца, а следовательно, и напрасно занимаемой мною койки в палате, была уже как бы исключением, оговоркой в ее заметно изменившемся со вчерашнего дня отношении к соседям по палате. Вчера Игорь Николаевич пообещал, что добьется для Серафимы бесплатной путевки в подмосковный санаторий, – с этого мгновения она вся как бы светилась счастьем и предупредительной готовностью идти на уступки. Что ж, небольшая пенсия по инвалидности, одинокая, в общем, жизнь – поневоле скверные стороны характера подавляют то доброе, что, наверное, было все-таки в ней… Надо полагать, и надежды какие-то эта перспектива разбудила: Серафима еще не махнула на себя рукой как на женщину, могущую нравиться, – модная стрижка, не пренебрегает и коробочками с косметикой… Ладно, пошли ей бог осуществления маленьких надежд ее…
Чьи-то неуверенные шаги призадержались у моей койки. Я открыла глаза: Таня. Я улыбнулась ей удивленно. Не жаловала девчонка соседок по палате вниманием, десяти слов не сказала за неделю, что лежит здесь.
– Я рада, что не подтвердилось это у вас… – сказала она и тоже улыбнулась, скупо раздвинув длинные странного рисунка темно-красные губы. Гладенько причесанная, со слабым нездоровым румянцем на скулах – она запоминалась.
– У вас нет какой-нибудь книжки про Индию? – спросила она, помедлив. – Иллюстрированной?.. Я очень люблю рассматривать цветные репродукции рисунков на тканях, ковровые узоры… Браслеты у них необычные… Ну и скульптура, конечно. У них прекрасная скульптура.
– Кто вы, Танечка? – поинтересовалась я, обрадовавшись ее интересу к тому, что любила. – По профессии?
– Ювелир… буду. Я в художественном училище учусь. – Она вздохнула. – Вернее, училась…
Я достала из тумбочки несколько книжек по искусству и ремеслам Индии. В первые дни моего пребывания здесь я показывала их соседкам по палате. Посмотрели, поахали вежливо и забыли: далеко это все, практического интереса не имеет.
Таня села ко мне на койку, и мы с ней с наслаждением принялись разглядывать традиционные рисунки на тканях – нераспустившийся бутон, полный мелких цветов, подсолнух, пестик подсолнуха, цветок лотоса, паучий, зловещий знак солнца…
10
Шутки шутками, но я со своей замедленной реакцией опять чувствовала некоторую оторопь. В общем-то я мысленно подвела итоги, прекратила планирование будущего, как бы очистилась от суеты перед концом, согласилась с тем, что сделано мало, но, увы, пусть мое продолжат иные. Теперь мозг опять заработал, приказывая мне, о чем надо думать, что делать, когда я выйду, с чего начать, куда двигаться.
На следующем же обходе я стала допрашивать Игоря Николаевича, сколько еще я пролежу здесь и надо ли мне лежать, обследование ведь закончено?
– Месяц… или два… – сказал доктор, снова ускользая от меня отрешенно-сосредоточенным взглядом. – Курс лечения проведем. Поколем вас…
– Амбулаторно разве я не могу лечиться?
– Да вы сами знаете, как это получится – амбулаторно. Как раньше… Инфекционный миокардит – достаточно серьезно, надо наладить вас, что полумеры? Куда вы рветесь?
Что я могла ему ответить? «Работать»… Он бы опять меня не понял: искусствовед – что она там делает? Ну опишет традиционно-иероглифическое положение второго пальца четвертой руки Шивы у вновь найденной при раскопках бронзовой статуи… Кому на свете это интересно, кроме тех, кто получает деньги за то же самое?..
– Вы, говорят, дружны с Иннокентьевым? – сказал вдруг доктор, поднимаясь. – Поддержите его как-то, раскис очень парень. Затемпературил, не встает. На пятиминутке нынче докладывали. Жаль его, какой был хоккеист классный!
Вот, оказывается, что, – кроме шумов и толчков крови, перегоняемой сердечной мышцей, по ночам, вероятно, гудевших в его ушах как сложная предметная музыка, как ритм, в согласии с которым вращается вселенная, – вот, оказывается, что еще он считал Делом…
– У вас недавно, говорят, Колесников лежал? – спросила я наугад.
– Кто такой? – досадливо приподнял брови, припоминая, Игорь Николаевич.
– Актер мхатовский знаменитый. Он в кино тоже много снимался…
– Не помню… – доктор повел глазами, высвобождая мысли. – Актер… Откуда мне их знать?
Время сменилось, сменились кумиры. Только в хоккей играют настоящие мужчины, защищая мою и твою честь перед всем белым светом…
Я надела халат и вышла из палаты. Мгновенно взоры вяжущих девиц и парней, сидящих между ними, обратились ко мне. Я невольно усмехнулась. Вот и я стала знаменитой на нашем корабле: отблеск капризной непонятной склонности великого человека осенил меня.
Анатолий действительно не выходил в коридор ни вчера, ни сегодня – валялся на койке, я видела его, проходя мимо раскрытой двери палаты. Наверное, ему, так же как и мне, необходимо было привыкнуть, подвести какие-то итоги, сообразить, как быть дальше. Не стоило его трогать. Я вернулась в палату, почувствовав лопатками, как зашелестели сзади улыбками, насмешливо-понимающими взглядами, коротенькими невинными репликами табунки милых вязальщиц: «соскучилась, а он…»
И правда соскучилась. Привыкла, выходит, за неделю, что почти целый день перед моими глазами говорит что-то, улыбаясь, язвя, это занятное молодое существо, пытается мыслить, пытается решать мировые проблемы. Человек встал на ноги, высвободив руки для труда, мой хоккеист выпустил из рук клюшку и разогнулся, дав возможность глазам созерцать окружающий мир, а мозгу реагировать на то, что созерцают глаза…
После обеда мне не лежалось. Я взяла какую-то книжку с соседней тумбочки и вышла в коридор. Завернула в закуток перед процедурным кабинетом, где мы обычно сиживали с Анатолием на диванчике: в это время тут, как правило, никого не было. И неожиданно увидела его. Обрадовалась. Обернувшись на мои шаги, он хмуро кивнул, чуть подвинулся, освобождая место, и снова упер подбородок в грудь. Я опустилась рядом, раскрыла книжку, пытаясь читать. Не читалось. Но и разговор не завязывался.
Я все-таки заставила себя раскрыть рот, заговорить чуть более веселым тоном, чем хотелось.
– Ну и что? Как вас будут лечить?
Он не сразу разжал зубы:
– Лечат как-то… Не вникал.
Я взяла его за руку, он высвободился нерезко.
– Толя, но ведь жизнь не кончается, если нет возможности загнать шайбу в ворота или хотя бы показать, как это делается! Жизнь не кончилась, если нет больше сил разминировать старые фугасы или водить сверхзвуковой самолет… Есть же мирные профессии, где работает не тело, а мозг… – я повернулась к нему и снова положила руку на его локоть. – Толя, поверьте мне, что, следуя за той, невидимой чужому глазу, но вполне вулканической схваткой, которая идет в вашем мозгу, тело снова проживает высокоактивную жизнь… Вы пришли куда-то, продвигаясь путем своей мысли, – и выжаты так же, как после финальной игры на первенство мира!..
– Возможно… – сказал он недовольно. – Вера Сергеевна, извините, я просто еще не созрел для душеспасительной беседы.
Я простила ему, вспомнив себя на следующий день после профессорского обхода. Я старше, мне легче владеть собой.
– Ведь это второй раз в вашей жизни? – заговорила я через какое-то время, забывшись. – Наверное, вы то же самое испытали, когда пришлось уйти из сборной?
Он зло взглянул на меня, стиснул щеки руками, уронив голову в колени, потом поднялся и ушел. Я чуть было не бросилась за ним, моля о прощении. Думающая вслух бестактная идиотка… Я снова раскрыла книжку, пытаясь читать, но перед глазами словно заслон стоял, ничего не видела, ничего не воспринимала.
Минут через десять Анатолий вернулся с полотенцем, видно, ходил умыться. Довела, значит, парня до слез… Что это со мной – уж бестактностью вроде не отличалась? Или просто происходит этот самый, идиотский, неизвестно зачем необходимый мне «психоанализ» представителя поколения, не очень-то понятного мне? Подобно как Игорь Николаевич – заставляю всплеснуться, проявиться закрытый заторможенный организм, не заботясь о том, что это, может быть, если не смертельно, то очень болезненно?..
– Извините, – проговорил Анатолий более светлым голосом, видно, слезы облегчили его. – В больное место вы меня ударили, аж горло перехватило… Вы правы, если вас это еще интересует, – тогда со мной творилось почти то же самое…
– Но вы живы? Смирились? – подсказала я.
Он молчал довольно долго, потом произнес, пожав плечами:
– То было неизбежно. Я внутри все же был готов к этому.
– Толя, – я улыбнулась ему, – человек умирает, когда умирает мозг. Даже если при этом тело живо и полно сил – это не человек.
– Согласен… – не сразу выдавил из себя он. – Конечно, если выбирать, лучше быть калекой, чем идиотом. Хотя идиот счастливее.
– Так говорят традиционно, – подхватила я. – Но я не верю. Тот, кто не может осознать происходящее, не может быть счастливым. Что, по-вашему, составляет ощущение счастья?
Он пожал плечами, усмехнулся:
– Почем я знаю…
– Для меня – это предельная полнота секунды. Полнота мгновенья.
– Согласен! – веселым потеплевшим голосом сказал он. – Для меня тоже… Только вы чудачка, Вера Сергеевна. Я не знаю, как было в ваше время, но в наше… В большом спорте не может быть человека, у которого мозги не работают. Не в том смысле, что дебил, а по-настоящему. Игра – это же высшая математика, шахматная партия… Хорошая игра, конечно. – Он повернулся и, глядя на меня уже раскрытым добрым взглядом, продолжал: – Да и везде… Помните, вы мне про карусельщика рассказывали, который погиб на Байкале. В том смысле, что хорошая, мол, голова, талант, а прожил ни то ни се… Я понял ваш намек: не поздно, парень, еще, смени ориентиры. Но, Вера Сергеевна, так же нельзя! По-вашему, если у человека голова, он должен науку двигать, а кто клюшку от весла отличить не может – пусть тело и руку развивает? Вот, понимаешь… – он, усмехаясь, покачал головой. – Да ведь вспомните – барабан этот, у вашего Шивы?.. От звука произошло все живое! Значит, первоначально – действие? Ударили в барабан? Даже в вашей индийской философии?
– Мысль – действие, Толя. И более могучее… Звук вначале? Священный звук «ом-м-м»! Это дышит первобытная пучина, горячее болото… Это размышляет земля.
– Ох, вы смешная! – Анатолий тряс головой, от души хохоча.
Я глядела на него ласковыми глазами, радуясь, что он развеселился наконец. Раз человек смеется, значит, есть надежда, что выживет…
– Вера Сергеевна, ну объясните мне попросту, как кретину, – чем вы занимались всю жизнь и кому, кроме вас, это принесло радость?.. Честно, я не понимаю. Ну видел я вашу передачу, но такой фильм каждый может снять. Скульптура… Не вы же ее сделали!
Я задумалась. Вот и наступил этот миг подведения итогов – скептическое усмешливое человечество устами любимого своего представителя спросило у меня отчет. Словно на Страшном суде: тебе дана была жизнь, прекрасное творение рук моих, на что ты ее истратил?.. И как объяснить, чтобы этот любимец публики не просто понял, – чтобы его проняло?..
– Не много я успела… – заговорила я. – Жизнь коротка, Толя, особенно если живешь внутри себя. Годы летят с удручающей быстротой… Чем занималась? Многим, всего не расскажешь. Но вот, например, есть у индусов древний, почитаемый и посейчас бог. Самый мною любимый, хотя остальные тоже славные и не без смысла. Бога этого вы помните – танцующий четырехрукий Шива.
– Ну, – Анатолий следил за мной, улыбаясь глазами.
– Вот и «ну». Такого бога нет ни у одного народа. Были боги яростные, были могучие и могущественные, были кроткие, всепрощающие, боги-утешители. Были боги-звери, боги-птицы, боги двуоснастные, у индийцев тоже такой есть – Брахма, символизирующий единство в мире плюса и минуса, начала мужского и женского, великой гармонии природы. Но Шива танцует! И вот я пытаюсь дойти нынешней мыслью до тех, наивных, но мудрых. Вернуться на пять, а может, на десять тысячелетий назад… Шива – созидатель и разрушитель, он охранит и успокоит… Это понятно. Но почему Первый увидел его танцующим? Тот, самый первый, кто вымолвил его имя и талантливой рукой дал ему форму, которая потом многие столетия уточнялась, прежде чем стать традиционной? Почему он увидел его танцующим и сказал: пока Шива танцует – жизнь движется?..
Анатолий слушал меня, сначала иронически щуря глаза, потом взгляд его стал серьезным, уголки губ опустились. Я замолчала. Он резко оперся о ручку кресла и встал, лицо его налилось краской.
– Потому! Потому… – сказал он, – что король мира – движение! Движение – это… – он нервно топтался передо мной, горько давясь непроизнесенными словами. – Господи, да как вам это понять, если вы… Если бы вы знали, как это сладко – править своим телом: мышцы свободны – присел, подпрыгнул – бросок… Ох… Господи, да за что вы мучаете меня?..
Он снова, с трудом сложившись, опустился на диван и, зажав лицо руками, заплакал. В горле у него рвалось и хлюпало, плечи тряслись. Я вскочила.
– Толя… Толя, ради бога. Я не хотела. Ну это просто – больным местом, как ни повернись, обязательно заденешь. Ну, ради бога, не надо, взрослый вы ребенок!..
В наш закуток завернул толстомордый технолог из палаты Анатолия. Постоял, растерянно глядя, потом ухмыльнулся:
– Извините…
Поковылял было дальше, оглянулся, крикнул:
– Анатолий, к тебе мужики там пришли.
– Иду… – не сразу отозвался Анатолий.
Он еще посидел, пряча лицо в ладонях, потом утерся рукавом олимпийки, поднялся, не глядя на меня.
– Извините… – буркнул он, уходя.
Он ушел, а я осталась сидеть, откинувшись на спинку дивана, прикрыла глаза, потом открыла, глядя в одну точку, улыбаясь.
Какой-то шум и суета происходили в коридоре, заходили в закуток девочки-вязальщицы, глядели на меня с тревогой и удивлением, словно хотели что-то сообщить важное, я понимала это, но не воспринимала.
Конечно, это известно: Шива – олицетворение ритма, правящего жизнью. Зима сменяет лето, ночь – день, рождение – смерть, и снова зима, снова ночь, снова рождение. Каждому человеку природа тоже задает ритм, который управляет его поступками, сообщает ему свой, особый рисунок движений.
Я видела Первого. Одряхлевшего от старости, а может, просто искалеченного в бою или на охоте, вынужденного на какой-то срок, пока ему сохраняли жизнь, стать неподвижным. Мысль его освободилась от суеты, но тело томилось по движению – и вот однажды, в озарении, он постиг то, что, как ему казалось, правило Миром, поддерживало Жизнь. Взяв ломоть глины, он слепил себе Танцующего бога, вложив в изгибы, в пластику тела все, о чем он тосковал: стремительное Движение… Потом, спустя столетия, он понял, что есть Ритм, который владеет Движением, вообще всем сущим на земле…
11
В субботу после пяти я проснулась уже, но не хотела вставать, апатия и обреченность снова владели мною, исключали желание думать о том, что будет.
В дверь палаты постучали, потом она приоткрылась: света у нас еще не было, и дверь так и осталась растворенной, а в пятне света стоял какой-то необыкновенно знакомый человек с седой шевелюрой, в великолепном костюме и с загорелым лицом.
– Не может быть! – сказала я. – Так не бывает. – И громче: – Владимир Степаныч, прикройте дверь, я выйду сейчас.
Надела халат и, выскочив в коридор, повисла на шее у моего любимого консула из Мадраса.
– Господи, господи! – говорила я. – Словно с того света! А я тут погрязла прямо. Володя, в отпуск, что ли?
– А как же, – говорил консул, держа мои руки в своих. – Как же еще я мог тут очутиться? Три дня уже. Еле разыскал тебя. Верочка, ну что все-таки с тобой?
– Потом! – отмахнулась я. – Ты лучше расскажи, что у нас делается? Что ты тут делаешь, кого видел, расскажи? Кто прилетел еще?
– Люда прилетела, супруга моя прилетела, они завтра заявятся к тебе. Что делаю? Будто ты не знаешь, что делают люди, когда возвращаются домой… Езжу в метро, слушаю, как говорят. Смотрю… Наслушаться не могу: разве на свете есть что-нибудь прекраснее…
– Родного языка! – подсказала я, усмехнувшись.
– Русской речи! – упрямо закончил консул. – И лица свои, родные… Вера, Вера, зачем мы себя так неразумно определили!.. – грустно смеясь, продолжил он. – Каждый раз приезжаю и думаю об этом.
– Через месяц по Мадрасу скучать начнешь, что я, не знаю! – махнула я рукой. – Индия тоже Индия. Что, ты со мной спорить будешь?
– Не буду, – согласился консул, вздохнув и снова взяв меня за руки. – Ты совсем похудела, маленькая… И глаза какие-то… – Он внимательно взглянул на меня и посерьезнел. – Я в понедельник зайду, поговорю с лечащим врачом.
– Не трудись, я сама тебе все подробно расскажу…
Из палат начали появляться наши девицы: суббота – день активных посещений, потому, поспав, они шли в умывалку приводить себя в порядок, наводить особый марафет. Увидев моего гостя, они замедляли удивленно шаг: вид у него и на самом деле был нездешний, а нежность в глазах и ласковый жест, которым он держал мои руки, приводили их в полное недоумение. Ах, девочки-девочки, жаль, если вам неизвестно, что отношения между мужчиной и женщиной могут быть гораздо многообразнее, нежели те, что вы себе воображаете.
В двери с лестницы вошла группа молодых мужчин, похожих друг на друга какой-то особой пластикой движений, выражением лиц – замкнуто-избалованным. Это были приятели Анатолия, известные хоккеисты – мне перечисляли их фамилии, но я забыла. Вскоре и он появился из палаты, хмуро поздоровался с друзьями, поглядел в мою сторону, кивнул. Вчера он опять целый день лежал, отвернувшись лицом к стенке, положив на голову вторую подушку.
Анатолий с товарищами ушел к умывалке, где возле телефона был довольно укромный закуток.
– Так что вы там, Володя, милый, расскажи? Я соскучилась, не можешь себе представить как… Вылетишь из своего кольца – и точно щенок потерявшийся…
– Ага, зазнайка, поняла-таки! – Владимир Степаныч обнял меня за плечи и поцеловал в висок. – А говорила, что можешь всю жизнь в пещере отшельницей прожить!..
– Отшельницей могу, если, конечно, любимый пастырь и другие схимники будут изредка навещать меня…
– Ну что у нас?.. – Владимир Степаныч принялся рассказывать мне события и течение жизни нашей маленькой колонии в Мадрасе: передвижения по службе, какие-то находки или ошибки моих коллег. Достал из портфеля свежие индийские газеты и журналы – я схватила их, точно письма из дому. Достал термос с широким горлом, приоткрыл пробку.
– Нюхай.
Я даже застонала от наслаждения – запах индийских трав и специй, которыми был приправлен рис с куриным мясом в термосе, вернул меня в Индию. Странное существо человек: в Индии я плакала, слушая песню об опавшем клене, а здесь у меня навернулись слезы, когда я услышала запах кушанья, за много лет надоевшего мне в Индии.
– Кари?.. Нина постаралась, не лень ей было?.. Ох, Володя!..
– Забирай, маленькая, все эти припасы, завтра Нина придет, притащит еще какой-нибудь муры. Виски хочешь? Или джина с тоником? Я привез.
Я засмеялась. Тридцать капель кордиамина – единственный доступный мне алкоголь на сей момент.
– Ладно, я пошел. В понедельник приду. Пораньше приду, я все же хочу врача застать… Не кисни, что ж теперь поделать.
Он проводил меня до палаты, помог устроить на тумбочке охапку гостинцев и ушел. Я угостила наших женщин горячим кари с курицей. Кроме Люси, кари никому не понравилось: острая пища со специфическим сильным запахом.
Пошла помыть термос. Анатолий с приятелями все еще отирались возле умывалки – молодые, гладкие, чем-то неотличимо похожие лица их были возбуждены, красны. Глаза Анатолия шало блестели. Он скользнул по мне взглядом, усмехнулся и что-то сказал товарищам, понизив голос. Те, словно по команде, обернулись и принялись разглядывать меня в упор, точно смотрелись в зеркало. Все это мне не очень понравилось, но я не стала вести культурно-разъяснительную работу, ушла в умывалку, а когда снова появилась в коридоре, возле телефона уже никого не было. Посетительские часы кончились.