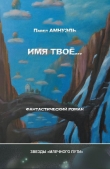Текст книги "Избранное"
Автор книги: Майя Ганина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
5
После ужина сестра вколола мне большую дозу снотворного, и я, посопротивлявшись сну, все-таки провалилась в забытье. Забытье было тяжким: то мне казалось, что меня душат, то я видела, будто подхожу к зеркалу, а на плечах у меня голова умершего отца, – пыталась кричать, но, видно, даже не стонала, иначе бы меня разбудили.
Проснулась я среди ночи от переполоха в палате. Свет был зажжен, металась сестра – точно продолжение моих кошмаров, палату заполнял гнусавый, на одной коте крик: однажды я слышала – так кричал эпилептик во время припадка. Я села на койке, пытаясь очнуться: от снотворного в голове стоял какой-то дурман.
Опять шел приступ у Аллы. Она извивалась на койке, сотрясаемая судорогами, лицо ее безобразно изменилось, глаза закатились, тускло мерцали белки и полоска стиснутых зубов между посиневшими губами. Гнусавый стон этот исходил не изо рта, а откуда-то из глуби ее содрогавшегося тела. Сестра пыталась прижать Аллу к постели, чтобы сделать укол, но ее тело вздымала и корежила нечеловеческая сила.
– Господи, кто-нибудь… – оглянулась вокруг она. – Нину Яковлевну… Дежурит она сегодня, позвоните вниз.
Я поднялась, дошла по темному коридору до ординаторской, позвонила. Дождавшись Нины Яковлевны, вернулась с ней в палату. Нина Яковлевна взяла шприц из дрожавших рук молоденькой сестры и, улучив момент, сделала укол. Затем, положив шприц на тумбочку, сунула руку под матрас, достала целлофановый пакет. В нем было много пакетиков с какими-то разноцветными шариками.
«Дались ей эти конфеты?.. – подумала я удивленно. – Человек умирает…»
– Вот! – торжествующе сказала Нина Яковлевна и тряхнула пакетом. – Давно я ее ловлю, поймать не могла. Чуяло мое сердце… Ну, стерва!
– Что это, Нина? – спросила Аня, сев на койке. – Лекарства, что ли?
– Тут гомеопатия… – зло говорила Нина Яковлевна, разглядывая содержимое пакетиков. – И гомеопатия, и аллопатия, все вместе, разбери поди! Вот вроде викасол… Черт разберет эту кухню!.. А я зашла, сразу в глаза бросилось, матрас вроде бы приподнят… Ну, умирающая…
– Как? – Люся тоже села на койке. – Что это значит, Нина Яковлевна?
– То и значит, что симулянтка ваша Алка! Наглотается таблеток – то сердце трепыхается, то сосуды лопаются, проницаемость увеличилась. Нынче, видишь, судороги состряпала! – возбужденная успехом, Нина Яковлевна забыла, что неплохо бы нам и поспать. – Ох, Аня, ночь у меня сегодня! В четвертую палату позвали: у больной температура сорок, жар, мечется. Сердечница со стенозом, да ты знаешь ее – Малявина, пампушечка такая сорокалетняя, на телефоне целый день висит…
– Знаю, – отозвалась Аня. – Валя ее зовут, она тут шуры-муры с одним крутила, вчера выписался…
– Вот! – обрадованно подхватила Нина Яковлевна. – Прибегаю, а она укол не дается сестричке сделать. Что за чудеса? Развернула я ее едва не силой, а у нее весь бок вот в этом месте сожгенный!.. Представляешь? Оттого и температура. На обходе врачу ничего не сказала, днем ходила, а к вечеру жар. Что ты думаешь? Любовь… Внизу к отоплению ее хахаль прижал, а трубы у нас – сама знаешь какие…
Я невольно улыбнулась, вспомнив оживленную кокетливую женщину у телефона.
Судороги у Аллы прекратились, она словно бы задремала.
– Не буди ты ее, Нина! – сказала Аня огорченно. – Завтра утром объявишь. Это надо же себя так не жалеть! Из какой корысти, вот что непонятно?.. Помнишь, медсестра из Норильска, та льготы себе хотела выхлопотать, квартиру. А эта что?
– Медсестру я скоренько поймала. Сунулась в тумбочку, а там шприцы да ампулы… А эту, подлюгу, никак… – Нина Яковлевна спрятала пакет с лекарствами в карман халата. – Какая корысть? Да ведь она учится! Выходит, экзамены сдает, когда захочет, и принимают у ней, сама понимаешь, не как у здоровых… Здесь с мужиками хихикает по углам, чем плохо?
Я заметила, что Алла вроде бы очнулась, но не открывала глаз, лицо ее напряглось и веки нервно вздрагивали.
– Ну, завтра на пятиминутке шуму будет! – торжествовала Нина Яковлевна.
– На пятиминутке?.. А Игорь Николаевич? – спросила Люся напряженно зазвеневшим голосом.
– И Игорь Николаевич! Доверяй, но проверяй.
– Он же не виноват… Это же точно не диагностируется! Господи, он с ней так возился, а она… – голос Люси оборвался на высокой ноте, и она зарыдала, выкрикивая жалко: – Ой, ой, ой…
Молоденькая сестра бросилась за врачом, я соскочила с койки, подбежала к Люсе, схватила ее за плечи.
– Люся, Люсенька, перестань, побереги себя! Сердце побереги!.. – так, насколько помню, кричала я Люсе и тоже заливалась слезами. Видно, сильно сдали у меня нервы: уж выдержкой-то отличалась всегда.
– И у этой истерика… – услышала я отрезвивший меня голос Нины Яковлевны.
Вошла дежурившая сегодня Галина Сергеевна, обругала Нину Яковлевну за то, что та устроила «спектакль». «ЧП захотели, что ли? Не понимаю вас…» Сделала Люсе успокоительный укол, потушила свет.
– Ну, Алка! – сказала Аня, подводя итоги. – Не ожидали мы этого от тебя!.. Так мы с тобой носились все…
– Чего я вам сделала? Койку, что ли, чью заняла? – огрызнулась Алла. – Вроде никто на полу не валяется…
– Брось прикидываться, – встряла и я в разговор. – Что ты тут перед нами дурочку строишь?
– Ничего… – сказала Алла. И проговорила тоскливо: – Неужто мне туда ехать? Лучше умереть… – И через паузу окликнула меня: – Вера Сергеевна, вы не спите? Слушайте, объясните Анатолию, что я не сволочь. Просто запуталась…
– Сама расскажешь. Твои прекрасные глаза помогут ему поверить, если и соврешь.
– Да нет… Я уж постараюсь утром слинять по-быстрому, не встречаться с ним. – Алла вздохнула со смешком. – Вот об нем я жалею, Вера Сергеевна, это истина. Холостой… Представляете? Уж я бы его тут склеила…
– Зачем он тебе, здоровой, калека? – подала вдруг голос из своего угла Таня. – Здоровый должен со здоровым жить…
– Во рту бы носила! Ноги бы мыла и воду пила! – выдохнула Алла. – Вы не представляете, какой он славный парень! Знаменитость, а как дите… Я-то уж этих золотых мальчиков наших нагляделась… Вера Сергеевна, вы оперу английскую когда-нибудь слышали? «Суперзвезда»? Про Христа…
По-моему, все заснули, умученные встряской, только мы с Аллой разговаривали, вернее, я изредка подавала реплики, а Алла рассказывала историю, в общем потрясшую меня. Я и не представляла в своем «прекрасном далеке», что мы уже настолько «европеизированы». Мне казалось, что такое может быть где-то «у них», но не у нас…
Красивую девчонку еще в восьмом классе заприметили «золотые» мальчики, челябинские «плейбои». Утром они перехватывали ее где-то на полдороге, она садилась в машину и ехала туда, где в данный момент квартира была свободной, и собиралась «компашка». Виски с содовой, джин с тоником, сигареты «Филип Морис» и «Честерфилл», секс и модные магнитофонные записи, вроде рок-оперы «Суперзвезда» – весь джентльменский набор красивой жизни, а к шести часам, когда приходит мать, девчонка уже дома.
В институте прогуливать стало еще проще, но суета эта за четыре года практичной Алле поднадоела, она хотела замуж, хотела обеспеченного, солидного существования. Однако, когда она заявила, что с нее хватит, ей пригрозили. Она вроде бы смирилась, но от своего решения все же не отступила. На помощь пришел сосед-гомеопат, имевший дома негласную частную практику и давно пытавшийся прельстить красивую соседскую дочку своим действительно значительным состоянием, не без оснований рассчитывая, что оно поможет ей смириться с его отнюдь не юными годами. Алла сама заявилась к нему: что делать? Он посоветовал ей симулировать тяжелую болезнь сердца. Оказывается, есть еще такие заболевания, когда точный диагноз поставить может лишь патологоанатом…
– Когда меня первый раз в больницу упрятали, мальчики мои походили, да позабыли… Новые шестнадцатилетние подросли. Ну, а мне, Вера Сергеевна, – говорила Алла, – понравилось. Спокойно, безопасно. И не скучно, не женский монастырь… Выпишусь – надо за старика замуж идти? Ну я и вру ему, мол, дружки всё интересуются… А теперь что?
Я молчала. Действительно, ситуация не из обычных.
– Да господи, – заговорила вдруг Аня. Оказывается, она тоже не спала, слушала. – Нашла сложное! Пойди вон на любую стройку, наймись штукатуром. Или на завод на станок… И прописку и общежитие дадут. Небось не тяжелее штукатуром, чем через день такие концерты давать, как ты тут. И себя не жаль тебе было?..
– А жить на восемьдесят рублей? – хмыкнула Алла.
– Ишь, набаловалась! – удивилась Аня. – Вечерами подхалтуривать станешь, с напарницей. Где квартиру отремонтируешь, где кухоньку побелишь…
Наивная моя Аня… Конечно, тяжелая работа не для Аллиных прекрасных рук. Даже если овладеет ею благой порыв, больше месяца не выдержит…
– Ладно, спите! – резко, как старшая, сказала Алла. – Соображу что-нибудь…
Утром я поднялась раньше всех, чтобы умыться, одеться и поймать Игоря Николаевича внизу до пятиминутки. Когда я проходила мимо двери мужской умывалки, увидела Анатолия. Голый до пояса, он умывался, щедро плеща на себя воду. Сильные плечи его и спина с длинными жгутами мышц, перекатывающимися под сохранившей загар кожей, мокро блестели. Услышав шаги, он обернулся, улыбнулся мне.
– Здравствуйте, Вера Сергеевна, – сказал он. – Что так рано?
– Толя! Вам же нельзя охлаждаться, – сбивчиво заговорила я. – Что вы, ей-богу, как маленький! Будет обострение… Элементарно!
– Да ну, – смутился он. – Плевал я. Не буду сдаваться, и все. И гимнастику перед открытой форточкой, словно мы молодые и здоровые, а?
Это продолжал действовать Алкин вдохновляющий пример. Видно, он еще не знал… Ну не я ему скажу об этом…
– Гимнастику – прекрасно, Толя, – согласилась я. – Но без истерики. Хорошо? По-мужски…
Он взглянул на меня из-под полотенца, которым ерошил, вытирая, волосы, улыбнулся.
– Так ланно будет. Мы, чай, паря, сибирские… Оннако по-мужски и будем. Ну.
Знакомое сибирское междометие, годное на все случаи жизни. «Гулять пойдем?» – «Ну». «Обедать будем, ну?..» «Вера, ты нас всех «занукала»!» – сказал мне мой любимый консул, когда я вернулась в Мадрас после завода.
Василий был сибирский, коренной иркутский… Еще едва уловимым распевным остаточным диалектом напоминал мне его Анатолий…
Игоря Николаевича я встретила внизу и, как обещала Люсе, предупредила о случившемся. Чтобы ослабить удар, я начала было рассказывать Аллину историю, доведшую ее до такой крайности, но он не слушал, стоял, сердито соображая что-то. Потом произнес: «Ну ведь нутром я слышал – что-то не так! Черт, жаль, конечно, мне казалось…» Кивнул и, не дослушав, ушел. И забыл, конечно, что намеревался нынче же проконсультировать мои снимки. Большой переполох наделала в отделении Алка, потомок Чингисхана…
– Поеду к своему старичку, – сказала Алла на прощанье. – Кончу институт, буду работать потихоньку, а старик, глядишь, и окочурится…
– Господи, да скорей бы на операцию брали! – вздохнула Люся, когда санитарка завернула матрас на опустевшей Аллиной койке. – Одно бы уж что-то: жить либо помереть. Дичаешь тут, вещи другое значение приобретают… Глупости тут одни. Хочу обратно в школу. У нас коллектив дружный, по праздникам непременно вместе собираемся, лотерею организовываем, песни поем. Голоса такие подобрались…
6
В ноябре на праздничные дни правление завода устроило консультантам поездку к рыбакам на берег океана.
Я села впереди, чтобы переводить рассказы сопровождавшего нас гида. Черепанов вошел в автобус следом за мной, потеснив товарищей, и плюхнулся рядом. Мы не разговаривали с той нашей стычки, я делала вид, что не замечаю его, встречая в цеху; он тоже проходил, отводя глаза.
И вот сел рядом. Я промолчала: глупо устраивать демонстрации.
Гид весело рассказывал о местах, какие мы проезжали, о храмах и деревеньках, о том, что делают из джута и из листьев пальмы тодди, о рыбаках, о том, как перекупают по самой дешевке у них рыбу посредники; о гостинице, которая ждет нас неподалеку от рыбачьего поселка, – настоящее бунгало, но с современными удобствами. «Водка есть? – шутливо вопрошал гид. – Хозяин гостиницы большой патриот России, пьет только вашу водку…»
Смеркалось, мы выехали на дорогу, шедшую вдоль океанского берега. Гид задремал, я положила микрофон и стала глядеть в окно.
Желтый песок, длинные черные волны, череда за чередой накатывающиеся на берег, и белая чернота послезакатного неба. Две звезды первой и второй величины горели наискось друг от друга, точно два огня на концах невидимого жезла.
– Василий, спой… – попросил кто-то.
– Может, не надо? – сказала я. – Так хорошо ехать…
Вот народ, не могут оставаться наедине с собой!..
Черепанов, молча взял микрофон, дунул в него, помолчал минуту и запел. Я боялась напрасно: пел он хорошо, бережно лелея все мельчайшие подробности мелодии, баритон у него был небольшой, но приятный. И репертуар тот же, который здесь, в добровольном изгнании в Мадрасе, крутила, собираясь по праздникам, наша колония, – старые и современные русские романсы.
«Клен ты мой опавший…» – пел Василий, а я плакала, глядя в окно. Плакала, потому что, слушая эту песню, очень хотела домой в Россию, хотела медленной российской весны где-нибудь в деревне, березового сока, падающего на лицо, когда идешь по черной тропинке между белыми стволами, а прошлогодний лист, взъерошенный, точно шерсть любимой собаки, тихо шевелится – растет трава.
За окном автобуса катились волны океана и горело созвездие Близнецов. Две крупные звезды первой и второй величины – Кастор и Поллукс… Все я тогда простила Василию за эти песни, за подлинную печаль в его голосе. Простила и не отодвинулась, когда он положил ладонь на мой локоть: я любила его в те мгновения, любила, как кусочек моей, ни на что не похожей Родины…
Конечно, он постучал после ужина, когда все разошлись по номерам. Я знала, что это он, но открыла.
Прошел, не спросив, можно ли, сел в кресло.
– Ты знаешь, – сказал он, – я плохо живу с женой… – Я молчала, он продолжал: – Нет, ты не думай, что я тебе говорю это, как обычно, когда мужик женщину уломать хочет… Просто тоскливо мне. Домой хочу, обрыдло мне все тут, а как вспомню, что к ней возвращаться, – и не ехал бы никуда… Ты тут торчишь не по той же причине? – Я покачала головой. – Спросишь – что ж, бабу себе другую найти не можешь? Есть и другая. И к ней не хочу… – Помолчал, вздохнул, взял мою руку, разглядывая концы пальцев с обкусанными ногтями – сохранила я до старости лет эту дурную привычку: кусать ногти, нервничая. Усмехнулся. – Не знаю, Вера, нескладный я какой-то человек, не приношу женщинам радости! С мужиками в цеху работаем – душа в душу… Рыбалка там, охота – пожалуйста… А с бабами… Словно кто-то мне вслед плюнул! – Посидел, сказал другим голосом: – Завтра раковин сыну куплю. Просил раковин больших привезти, здоровых таких, витых, знаешь? В которые дудят?.. Есть тут такие?
– Должны быть…
– Пойдем погуляем? – позвал он.
Мы вышли из нашей гостиницы: несколько тростниково-деревянных домиков на берегу океана – и побрели во тьме по песку. Шумел, накатываясь, прибой, ничего за этим шумом не было слышно. Океан отсвечивал серым, гладко катился вал за валом и, шумя белой каймой, ускользал назад. Низко над океаном висели звезды, луны не было.
В стороне от берега горел костер – ровно трепещущий красный кусок, вырванный из ночи, чьи-то тени появлялись в этой молодой, как начало жизни, красноте – и пропадали.
– Подойдем? – позвала я.
– Не надо.
Василий притянул меня к себе. Какая-то тронувшая меня нежность была в этом жесте, он собрал ладонью мои волосы на затылке и чуть двигал рукой, поглаживая, вжимая мое лицо в свою слабо пахнувшую потом рубаху.
– Вот… – продолжил он изменившимся голосом. – Так мне тебя пожалеть хотелось, приласкать, когда глядел, как ты там по цеху мотаешься. Маленькая между большими… – он засмеялся. – Деловая, а пожалеть некому…
– Пусти… – проговорила я. – Задохнусь, отвечать придется.
– Ну, – усмехнулся он.
Я в первый раз услышала это сибирское многозначное «ну». Тогда оно означало: не делай вид, что тебе неприятно.
– Делов-то… – продолжал Василий. – Не в ответе беда. Во мне. Вот гляжу на тебя, думаю: с этой бабой жить – век мне коротким бы показался. А начнем жить – заскучаю опять. Я уж себя знаю. – Он вздохнул, все еще поглаживая мои волосы, потом спросил усмешливым деловым тоном: – Может, попробуем?
– Да нет… – я высвободилась. – Ты не заскучаешь, я заскучаю. Я ведь тоже из этих… Быстро мне надоедает все, кроме работы. Так-то вот…
– Вот и да-то… – согласился он.
– Пошли обратно?
– Да что там делать, не выспишься, что ли? Погуляем, ночь-то – гляди!.. Хочешь, спою?
– Потом, – сказала я. – Сядем где-нибудь, и споешь.
7
– Наивная вы очень, Вера Сергеевна! – зло говорил мне Анатолий. – Прямо как ребенок… Ну понятно, вы там в вакууме существовали, издалека у нас тут все едва ли не святым кажется! Повидал я таких девчат, как Алла ваша, что вы думаете? Вокруг нас этих «плейбоев» крутится как собак нерезаных… Как же! Звезда хоккея… Знаете, потом похвалиться: «Вчера поддавон был, с Иннокентьевым накирялись, ух мощно хлебает, пижон, и – как новенький. Утром глаза продрал, похмелился – на тренировку!»
Я засмеялась: лицо Анатолия мерзковато изменилось, когда он копировал «светский» жаргон. Видно, на самом деле, и это «испытание славой» пришлось ему выдержать.
– Что веселитесь? – пробурчал он спокойнее. – Я через это не прошел – продрался! И выпивал и сигаретки пробовал, знаете?.. Вылез, а были ребята, спорт бросили… А уж девочек таких, как Алла, перебрал – живой человек, а они сами лезут. Женат был на такой же, слава богу, приятель увел… Эх, я наивняк – правда думал, она умирающая!..
– Врачи думали – где уж нам разобраться… – вставила я утешающе. Поглядела на его ноги: опять на них надеты были толстые шерстяные носки. Смирился, значит, парень…
– Вот! – подхватил он. – Если больного от здорового отличить не могут, на черта это заведение?
– Здравствуйте! Как без больниц?
– А вот так же, дома пусть лечатся. Поликлиник до черта на то. А здесь действительно лежачих держать…
Анатолий пригладил волосы и повернулся ко мне, нахмурился. Я с удовольствием глядела на него: очень он хорошел, когда серьезнел и в глазах мысль появлялась. Надо, конечно, вовремя бы родить себе такого же чудака и воспитывать. Что теперь на чужих силы пробовать?.. И еще – очень он опять мне Василия напомнил: тот же тяжко вылепленный профиль, только чуть сглаженный молодой пластичностью – шея понежней, лоб чуть облагорожен страданием, проснувшейся мыслью…
– Вот вы на меня глядите насмешливо, – сердито продолжал Анатолий. – И думаете: темнота! Три книжки за свою жизнь прочел, и те по слогам. Так?
Я снова улыбнулась глазами, не споря и не соглашаясь.
– Верно. С одиннадцати лет в спорте, книжки особенно некогда читать. Утром пять километров бегом в темпе. Потом тренировка, потом занятия. День до секунд учтен. Так? Ну, а когда игры – сами знаете. На себе пылинки сдуваешь, чтобы лишнего не напрягаться, силы бережешь. Вот так… Вы небось считаете, что человек родился для того, чтобы совершить какое-то дело? Да?
Я сказала, что вообще-то, конечно, не для этого, но про себя я убеждена, что лучшие родятся именно с этим предназначением. Чтобы человечество двигалось с каждым таким избранником чуть-чуть вперед.
– Ха! – подхватил Анатолий, сощурившись иронически и куснув губу. – «Человечество – это тропинка от зверя к сверхчеловеку». Уловил? Ваша мысль? Почти, да?.. Выходит, уважаемый кандидат наук, я тоже что-то читаю? И башка маленько варит, да?.. Ничего, скособочит, займусь… самопознанием…
Я поперхнулась, опять засмеявшись: ловко он меня подловил! В общем-то он был прав: мой утилитарный подход к предназначению каждого не нов и, наверное, жесток. Выходит, и на самом деле не так-то прост и наивен этот голубоглазый парень…
– Хорошо, – продолжал он. – Допустим, вы правы: у каждого своя роль, свое дело в жизни… Ну, а если у некоторых вся жизнь в те четыре года уложилась? Отец мой от звонка до звонка сапером войну прошел, вернулся – пять ранений и контузия, счетоводом в конторе доскрипел. Но я считаю – жил. И сделал свое. Или вы отрицаете?
– Нет, я согласна.
На самом деле, бывает, где-то в куле поезда или в санатории встретишь человека – невзрачный и работает никем. И вдруг случайно узнаешь, как он прожил те четыре года. И думаешь: господи! С лихвой свое на земле исполнил, весь выложился – спасибо ему, пусть отдохнет.
– Ну так спорт, чтоб вы знали, тоже как война! – категорично говорил мой собеседник. – Вы в этом не понимаете, но можете мне поверить. Большой, я имею в виду, спорт… То, что наши мужики тринадцатый раз чемпионы, – это война. И всего себя туда вкладываешь, выжимаешь, потом не остается ничего. Отгорел… Ну, тренером там. В обществе должность… Но это – пенсия, вы же понимаете. Пользу приносишь, конечно. Но жил – тогда!.. Вы в этом не рубите, – опять жестко предварил он мой предполагаемый ответ. – Не спорьте! Вы – белые воротнички, элита, но слава сейчас не у вас, не вы погоду делаете в международной обстановке. Чем вы всю жизнь занимались, кому это надо?
Я молча пожала плечами – что тут скажешь? Те же самые речи слышала я от Василия, только мой сибиряк доказывал мне могущество техники…
– Обидно? – спросил Анатолий. – А ведь вы так думали про меня. Думали?
– Думаю, – поправила я его. – Но вы правы, Анатолий. Еще давным-давно немецкий писатель Новалис сказал, что у нравственного идеала нет соперника более опасного, нежели идеал наивысшей силы или жизненной мощи, физического совершенства. Люди в массе, в общем, не в силах противостоять обаянию этого идеала. В век одичания культуры он находит себе много приверженцев. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл истинно тот.
– Ничего вы не поняли… – грустно пробормотал Анатолий. – При чем тут физическое совершенство и культ силы? Я же говорю вам: это война. Когда мне клюшкой под ребро совали так, что в глазах зеленело и ребро трескалось – за что? Шайбу в сетку положил… Это спорт? Не профессиональный же бокс, где победитель тысячи получает… Это не спорт, это война.
Может быть, он был прав. Наверное, он был прав, этот парень, пробежавший за восемь-девять лет большого спорта всю активную жизнь, что была отпущена ему. Ярко, кстати сказать, пробежавший, думающий, оказывается, над тем, как живет, как жил… Я с невольным уважением разглядывала его возбужденное, покрывшееся бисеринками пота лицо. Очень мне хотелось погладить его по голове сейчас, как умного хорошего ребенка. Но много народу толкалось вокруг, пяля глаза, прислушиваясь к разговору, – неправильно поймут.
– Ладно. Теперь оглянемся вокруг, – заговорил Анатолий более спокойно. – Что мы видим?.. Вон девочки с ревмокардитом щебечут между собой, глазки мне строят. Кто они? Где-то немножко работают, но главное их занятие с детства: болеют! Хотя на умирающих не похожи. Да? Вон парень идет, поперек себя пухлый от гормонов, хроник, полиартрит лет десять… Кто он? Больной. И еще технолог где-то на заводе, в отделе штаны просиживает.
Я молчала. Приблизительно то же самое я думала про нашу Зиночку, с семнадцати лет отиравшуюся по больницам и санаториям. Больная. А потом технолог в техотделе. Иждивенчество, которое, как я поняла уже, вовсе не тяготит самих иждивенцев. Кроме Люси, никто тут не сетует, что не может жить с «высокой трудовой отдачей», наоборот…
– Каждый год, – продолжал Анатолий, – по три-четыре месяца они проводят в больницах, на всем готовом, включая дорогие лекарства, получают сто процентов по бюллетеню при этом!.. Потом за счет государства едут в санаторий на месяц, а то и на два. А какая польза? У них уж и психология настроена так: перекантуюсь на службе как-нибудь, а там отпуск, потом больница, потом санаторий… Флирт, безделье – полный кейф! Каста бездельников, взращенная на гуманности. Зачем вообще с ними нянчиться, зачем нужны эти трутни, паразиты, пожирающие то, что копят другие?..
– Толя, – взмолилась я, – поглядите, до чего мы договорились. А? Куда же их? Заживо в крематорий?
Он замолчал, усмешливо глядя на меня, слава богу, чувством юмора он обделен не был.
– Человек должен быть здоров, – продолжала я. – Я с вами согласна. Но если он всерьез болен?.. Вот у нас в палате лежит женщина. Главное дело ее жизни – выжить. Выжить болея. Три порока… Но если бы вы видели ее парня!.. Может, ее предназначение – родить его? Кем была мать Королёва? Колмогорова?.. Кстати – ваша мама?
– «Человек – это тропинка…» – пробормотал, напоминая, Анатолий. – Вряд ли больная женщина может родить вполне здорового… Ну ладно, будем считать, что мордатый выполняет свою миссию в качестве подопытного кролика. Опробуют на нем лекарства, потом кого-нибудь порядочного вылечат… Я, например, подохну – гормоны принимать не буду! Чем жить в образе свиньи, лучше умереть. – Он все еще усмехался, но глаза снова стали злыми. – Конечно, человек не виноват, что он болен, но я бы все-таки разогнал это гнездо! Оставил только тех, кто активно работает, нужен позарез обществу… Вон, например, парень идет, Сережка Белов, золотые руки, слесарь-инструментальщик шестого разряда…
Я ничего не отвечала. «Кто позарез нужен обществу…» Интересно, кому доверить решение? Василий – «золотые руки» и по-своему «золотая голова»… Я, когда он уже был дорог мне, как никто прежде и никто после, мучилась, определяя ему место в моем мироздании. Зачем он себя так нерасчетливо расходует? Зачем его гибкий ум, его талантливая чуткость ко всему на свете тратятся так нелепо щедро?.. Кем он мог бы быть, мой несостоявшийся Ломоносов, если бы в начале жизни ноги его шагнули на иную стезю?.. Сама с собой проводила я тогда эти школьные дискуссии, убеждая себя, что могла бы прожить без самолетов и ракет, без холодильников и пылесосов, без сложных соусов к безвкусному, конвейерным способом выращенному цыпленку… В пещере на циновке, как отшельники древности, питаясь кореньями, съедобными листьями и дикими ананасами. На мой взгляд, только путь мысли важен в этом мире: от учителя к ученику, от ученика к другому ученику, не вширь, но вглубь…
«Каждому – свое» – так, кажется, было написано на тех страшных воротах? Едва не договорился до этого Анатолий…
Коли уж придуман пылесос, будет придуман и его усовершенствованный вариант, чья-то «золотая голова» и «золотые руки» загубят свою стезю на это. Виноваты древние римляне, развратившие мир зрелищем роскоши для немногих – ее возжаждали все…
8
Тот месяц, изгнанный мною из воспоминаний, был, наверное, самым тяжким в моей жизни. Как мы с Василием мучили друг друга, какая это была война самолюбий, сколько раз за этот месяц мы расставались навсегда, чтобы через час понять, что врозь невозможно.
Я привыкла, что мужчины глядят на меня снизу вверх – прежде судьба посылала мне таких; Василий привык к покорному обожанию и хотел, чтобы я «знала свое место». «Что ты из себя строишь? – кидал он мне презрительно во время ссор. – Набаловали тебя! Ученая дама! А копни – каждая из вас мечтает портки стирать постоянному мужику!..» Ох, как ненавидела я его в эти минуты, как старалась побольнее уязвить репликами вроде той, что мне подсказал Анатолий: «Три книжки – и те по слогам…»
Но все равно я любила его, а он меня – за что, вопреки чему, кто тут может разобраться, кто может вычислить алгеброй это согласие несогласных?..
Однако близилось время, когда мука должна была наконец прекратиться: командировка у большинства моих консультантов шла к концу. Новый год Василий будет встречать дома, а я в Мадрасе. Индийцы просили продлить пребывание на заводе некоторым специалистам, но никто не соглашался: первый раз так долго за границей трудно, тоска берет. Я была рада, что Василий уедет, хотя понимала, что тяжко осиротею, что какой-то долгий срок будет саднить у меня внутри, точно сердце разрезали пополам. Но раны заживают…
Выходные возле Дня Конституции сдвинули, получилось три свободных. Отпросившись у руководства, мы с Василием отправились в Бенарес – один из самых моих любимых индийских городов. Я хотела, чтобы Василий увидел Ганг.
Уже в самолете мы неожиданно ощутили сладкую легкость свободы от взглядов, и сразу словно бы стало проще и легче все. Словно мы вместе давным-давно, и это привычно, но не наскучило, просто страсть перешла в нежность. Василий снял пиджак, оставшись в свитере, убрал подлокотник кресла, разделявший нас, протянул руку:
– Поспи. Два часа лететь.
Я положила щеку ему на сгиб возле плеча, он обнял меня некрепко, погладил по волосам. Никто на нас не обращал внимания: немолодые мужчина и женщина, какое кому до них дело? Полуприкрыв веки, я смотрела на синеватую после бритья щеку Василия с продольной глубокой складкой, ловила иногда его взгляд.
– Так-то вот, зайчонок… – сказал он, отвечая каким-то своим мыслям, и вздохнул.
Я провела тыльной стороной ладони у него под подбородком, тоже вздохнула. Именно: «так-то вот…»
– Может, поедешь со мной? – спросил он, когда стюардесса объявила, что самолет пошел на посадку. Я покачала головой, больше мы об этом не разговаривали.
Был теплый вечер. Устроившись в гостинице, мы взяли такси, чтобы доехать до центра.
Побрели к Гангу узкой улицей меж близко содвинутых домов. Сырая сладковато-дымная чернота этого торгового коридора распадалась на клочья отдельного света: красные огни жаровен в лавках, прыгающие языки светильников на тележках среди кучек риса и муки, среди стопочек самосы и банок со сластями; сверкающие ни́зки маленьких разноцветных лампочек над прилавками с браслетами из цветного стекла – их по нескольку штук сразу надевали на узкие руки с тонкими запястьями полные индийские женщины. Улица томительно и сладко густела душными запахами: жарился горох и земляные орехи, кипело в котлах молоко, курились палочки благовоний, шло от Ганга сырое тепло большой воды. Гудел колокол в маленьком индуистском храме на горе: каждый входящий дергал за веревку, чтобы боги услышали его. Бродили горбатые коровы, тыкались мордами в мешки с рисом и мукой. Под ногами было скользко и грязно.
Мы шли с неторопливой толпой паломников дальше, к Гангу. Здесь было темно, только кое-где качались огненные лепестки свечей в руках идущих. Сырой теплый запах усиливался, за головами уже смутно проглянулся Ганг, люди тихо потекли по ступеням каменной лестницы. Она отзывалась подошвам «чапалей», нежному переплеску босых ступней; изредка, грубо, точно били толстое стекло, звучали каблуки европейских туфель. А рядом с потоком паломников была иная страна, иной берег: прокаженные тянули руки, изглоданные болезнью; голый монах со спутанными длинными волосами, перемазанный илом Ганга, монотонно аккомпанировал себе кастаньетами, дергаясь в ритуальном танце; семья расположилась на ночлег на расстеленной холстине. Толпа снесла нас вниз.