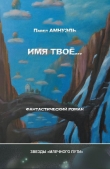Текст книги "Избранное"
Автор книги: Майя Ганина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
– Ты почему не приходишь меня проведать? – спросила она звонко, но не напрягаясь, и он подивился емкостности ее вроде бы необъемной грудной клетки. Подумал, что, может быть, она станет певицей, а поскольку будничной жизни женщин этой экзотической, как ему казалось, судьбы он нимало не знал, это примирило его с ее будущим.
– Я болею, а ты ко мне не приходишь, – повторила Карина. – Иди сюда.
Представив феерическое будущее Карины, Михаил шутливо подчинился сотворенной им для себя иллюзии: она имела право повелевать. Впрочем, Карина не сомневалась в этом, привыкнув, вероятно, что люди не противятся ее желаниям.
Михаил вошел и остановился возле двери, оглядев комнату, заставленную картонами, на которых густо и ярко было нарисовано что-то. В комнате был полумрак, и разобрать сюжеты на картонах не удалось.
– Я все гуляю, – сказал он. – Понимаешь, зимой я много работал, подолгу сидел, хочется погулять. А ты не очень болеешь?
– Не знаю. У меня температура.
– Выздоравливай скорей, – попросил ее Михаил и ушел. Он почувствовал, что опасается этого ребенка, его возможной власти над собой, своей возможной зависимости от того, здоров ли, весел ли он или грустен и под глазами темнеют синячки, повествующие о грядущем ревмокардите. Он инстинктивно не желал зависеть ни от кого и ни от чего, ценя свободу духа, необходимую для того, чтобы мыслить.
Вечером Михаил получил телеграмму от жены, что она вылетает завтра, и у него сразу испортилось настроение. Причин тому не было – жена его никогда ни в чем не связывала, они жили теперь как уважающие, впрочем, довольно спокойно относящиеся друг к другу люди. У Михаила, однако, случались моменты, когда, задержавшись на работе, он не ленился зайти в переулок, поглядеть на свои окна: светятся ли? И если светились, радостно ехал на лифте, радостно звонил «своим звонком», ждал, пока жена откроет дверь, помогал ей накрывать на стол. Доставал припасенную бутылку коньяка, они выпивали с удовольствием по рюмке или по две, разговаривали. При всем том, когда он уезжал в долгие, часто на полгода, экспедиции, расставались они делово́: работа есть работа, встречались с радостью, впрочем не чрезмерной. Надо полагать, происходило это потому, что, рано поженившись, они так и не открыли друг в друге мужчину и женщину, главным для каждого из них в браке были в первую очередь терпимость и взаимопонимание.
Спал в эту ночь Михаил скверно, проснулся поздно и, не завтракая, взяв тяжелую палку, срезанную им для того, чтобы ходить по горам, спустился к морю.
День обещал быть ясным, хотя и холодным. На пляже пансионата уже лежали загорающие. Молодые, немолодые – все они, как удивленно отметил для себя Михаил, принадлежали, очевидно, к какому-то тайному обществу Жирных, видящих в изобилии собственной плоти некий сокровенный смысл.
Шторм прекратился, но небольшой накат еще был. Михаил быстро пошел по берегу, не желая, чтобы его нагнал художник с дочкой, он видел, как они завтракали в павильоне.
Он шел, чуть покачивая сильными худыми ногами, легко задевая коленом о колено, подошвы кед, которые он крепко вдавливал в почву, оставляли на прибрежном галечнике глубокие следы. Лицо его немного загорело, с белков серых в синеву глаз ушла желтизна. Из-под белой шапочки с пластмассовым козырьком торчали светлые вихры, делающие его похожим на безвозрастного современного парня-мужчину, деятельного и бесплодного одновременно. Впрочем, сейчас, когда его никто не видел и не надо было по привычке «делать лицо», черты его несколько заострились, губы сжались в тонкую суровую складку уголками вниз, выражение глаз стало сосредоточенно-высокомерным.
Было пустынно, словно все человечество уложили горами пышной плоти позади на пляже. Никому не захотелось пройти тысячу метров, чтобы загорать тут, наслаждаясь первозданной красотой и одиночеством.
Тишина и мертвенность неприятно томили Михаила, он невольно старался производить своими шагами и ударами палки по галечнику больше шума, но песок словно бы поглощал звуки. И все время чудилось, что кто-то идет сзади. Оборачивался неожиданно – но пустынен и открыт на многие сотни метров был позади берег.
5
Скоро начались людные жилые места; на участках, засаженных зацветающими мандариновыми деревьями и виноградом, стояли двухэтажные красивые дома. Наткнувшись взглядом на небольшой, сложенный из неоштукатуренного камня рыбацкий домик, он решил зайти: может, придет идея перебраться из пансионата на частное, тихое жилье.
Отворил калитку – и тут же увидел стол с кувшином вина и стакан и прислоненный к столу огромный портрет. Немного поодаль была могила с каменным надгробием, надгробие венчал мощный бюст усатого мужчины в папахе. Портрет, по вероятности, изображал того же мужчину во весь рост, в черном костюме, лицо его, при всем несовершенстве живописи, выглядело живым: маленькие хитрые глазки, бородавка на румяной щеке, мясистый красный нос и закрученные кверху усы. Здесь, в этой местности, водился нигде прежде не виданный Михаилом обычай – хоронить своих покойников на усадьбе.
Из-за дома вышел старик в папахе, в галошах на босу ногу. Михаил поздоровался.
– Это мой сын, – с достоинством объяснил старик. – Сегодня годовщина его смерти, ты можешь выпить вина.
Старик показал ему тропу через горы, и Михаил двинулся дальше. Тропа бежала лесом, поднималась с горы на гору, пересекая то и дело серпантин шоссе. Вспомнив, что не завтракал, он свернул в небольшой поселок, купил в магазинчике банку сока и полкило пряников.
Пройдя по тропе еще, Михаил устроился возле родничка, струящегося из расщелины, умыл лицо, напился, открыл банку ножом и стал есть пряники, прихлебывая густой сок. Потом закурил, глядя в просветы между деревьями на балую полоску шоссе. Родничок тихо побулькивал, переливаясь через край гранитной естественной чаши, тихо шелестел по мелкогалечному дну.
Он думал о том, что легкомысленно откладывает поездку с экспедицией с года на год, считая, что решение зависит только от него, но вот прошел налегке километров двенадцать – устал. А совсем вроде бы недавно с сорокакилограммовым рюкзаком – целый день, с пятиминутными перекурами и одним обеденным костром. Одряхлел, засидевшись в конторе, сердце износилось. Тоскливо пронзило вдруг, что не заметил перевала: то дорога шла вверх, а теперь начался спуск, – он не понял за суетой – когда; никому, увы, не известно, как далеко до подножия… Страх засуетился внутри, жажда немедленного действия, но он подавил это.
Слушал побулькивание чистейшей, подобной слезе ребенка воды, фильтрованной здесь через толщи известняков: он встречал в деревне старух и более молодых женщин с зобом – в воде не было йода. Припоминал особый звук клокотания серных горячих ключей возле кратеров спящих вулканов: желтоватый дымок над жерлом, желтовато-серая, будто грязная, водичка, стекающая по углублениям в камне, и попыхивание крохотных, словно паучки, горячих, окольцованных желтой выпавшей серой ключиков. Лежа в спальном мешке, Михаил тогда подолгу не мог заснуть, любовно слушая тихое глубинное гудение, постукивание: то зрела новая плоть, которую должна была, когда придет Время, извергнуть из себя Земля. Был счастлив.
Сейчас он курил, глядя в себя, и счастливо вспоминал виденное им издалека извержение Ключевской – красные зигзаги, обозначившие в ночи конус склона, красное жаркое сияние, ограничившее, подчеркнувшее срез жерла. И слои пепла на разъеме почвы, точно указывающее число извержений, – черная земля, дальше серый пепел, опять черный, опять серый слой…
Михаил скрипнул зубами и отбросил сигарету – так вдруг поманило, потянуло туда, в свободу, в счастливое единение с собой, в сосредоточенность на суетном, на горячо любимом. Вспомнил тоскливо, как о каторге какой-то, о предполагаемом директорском кресле, хотя, в общем, гордился, что дорос, дотянулся, добежал от того чердака, где рыдал мальчишкой, – всем обуза, зачем не умер, – до кабинета, находящегося тоже, кстати, под самой крышей, рядом с чердаком.
Последние годы научной работой он занимался урывками, утешая себя, что подкапливает фактический материал, оправдания ради изредка публиковал статьи «на тему». Однако внутри знал, что затянул, что истина, поманившая его некогда, поманила иными дорогами и других: и у нас и за границей публиковалась информация, из которой он уяснил себе, что многие уже приблизились к тому, к чему он шел. Вот-вот кто-то более молодой и целеустремленный попадет в яблочко.
«Жизнь – сказка в пересказе глупца. Она полка трескучих слов и ничего не значит», – вспомнил он цитату из Шекспира, которой обычно утешался, когда узнавал, что еще один из его сокурсников по университету опубликовал нечто интересное, о чем говорят. Конечно, он клерк, поднаторевший в интригах, но если ему презентован этот дар, имеет ли он право зарывать его в землю?.. Рассчитывал гармонично сочетать карьеру с наукой, ощущал безмерность сил, бескрайность ума, но одна сторона его дарования пожрала другую.
Следовало, наверное, дать телеграмму о согласии, пока тем, от кого зависело его назначение, не наскучило ждать. Но что-то в нем сопротивлялось. Хотя в глазах сослуживцев и даже собственной жены Михаил выглядел человеком трезвым, живущим по строгому расписанию, на самом деле он ценил интуицию, верил в предчувствия, опыт убеждал, что не надо рубить там, где следует ждать, пока время само ослабит затянутый узел. Взял отпуск, не использованный в прошлом году, специально, чтобы отстоялось в нем решение, выкристаллизовалось само собой. После этого, как бы ни сложилась его судьба, жалеть о несостоявшемся он уже не будет. Это он знал.
Михаил двинулся дальше, оставив на родниковой чаше вымытую банку из-под сока. По ощущению, до пансионата оставался один перевал. Он поднялся на гору, спустился, пересек шоссе, нашел тропу и двинулся по ней через заросли рододендрона, с удовольствием слыша впереди желанный конец пути, отдых: жена должна была приехать не раньше вечера.
Тропа вывела его на холм, где они однажды побывали с Кариной, с него начинался спуск в поселок. Михаил прошел несколько шагов и вдруг увидел одеяло, расстеленное под нецветущей яблоней, бутылки, стаканы, остатки немудрящей закуски. Прислонившись боком к стволу, сидел человек, поглаживая ладонь раскрытым ножом. Поодаль стоял «МАЗ».
Михаил, чувствуя себя неприятно униженным и так, словно ему надо было доказывать свое мужество, пошел, не сворачивая, мимо машины, мимо одеяла и молчавшего человека, достиг спуска с холма и, услышав позади хихиканье, обернулся. За «МАЗом» мужчина в кожаной помятой куртке держал за руку девицу. Та, нагнувшись, поднимала какую-то шелковую тряпку. Увидев налитое пьяной краснотой лицо, спутанные волосы, ухмылку, снова услышал идиотское хихиканье – и с отвращением отвернулся.
Спускался с холма полный больного отвращения, гадливости, не мог позволить себе вообразить кощунственно на месте девицы Карину, но ведь эта тоже недавно была девочкой с наивным взглядом и чистыми руками?..
6
Приехала жена, и Михаил волей-неволей стал проводить солнечные дни на пляже: жена после операции сильно утомлялась от ходьбы. Они уходили от общей массы загорающих дальше по берегу, располагались рядом с художником и Кариной, Михаил ложился на горячую гальку, подставляя солнцу и ветерку с моря то грудь, то лопатки, изуродованные шрамом, погружался в напряженное бездумье. А жена и художник разговаривали.
У них нашлось много общих знакомых, жена Михаила была искусствоведом, работала в реставрационной мастерской. Болтали они не умолкая, как ровесники, хотя жена Михаила была старше лет на семь. Впрочем, касаясь иногда взглядом тоненькой ее фигурки, он лениво думал, что за последние десять лет жена сильно помолодела. Был период, когда у нее начиналась астма, ее лечили модными тогда гормонами, она растолстела, отяжелела как-то, даже во взгляде появилось нечто туповато-сытое. Нашелся умный врач, вовремя прекративший гормональное лечение, в организме еще не успели произойти необратимые процессы; правда, испортились почки. Три года назад ей сделали операцию, удалили камни, и теперь она чувствовала себя хорошо, похудела, помолодела, занималась йогой, вернувшей ей свежесть кожи и девичью гибкость фигуры.
Михаил подумал, что, может, это ему кажется, но женщины, в массе, вообще стали выглядеть моложе, чем их одногодки в те времена, когда он был мальчишкой. Конечно, несмотря на диеты, гимнастику и косметику, сорокалетнюю не примешь за тридцатилетнюю, а про тридцатилетнюю, наверное, можно сказать, что она выглядит на двадцать пять, но подумать, что ей двадцать пять, невозможно. Есть у возраста свои особые приметы – молодая кожа и отсутствие морщин еще не говорят о молодости.
Вчера вечером, сидя в комнате, Михаил слышал, как на террасе разговаривают художник и жена. Художник грустно вспоминал свою покойную Таню, сетовал, что они долго могли бы быть счастливы: она была красавица, и он ее любил, – а женщины теперь вообще продлили себе время любви, продлив молодость. На его взгляд, в молодой сорокалетней женщине больше загадки и привлекательности, чем в двадцатипятилетней. «Шестнадцать лет, – усмехался художник, поигрывая баском, – это, конечно, особое дело: там обаяние неведения, свежести, непосредственности…» Но если выбирать между двадцатью пятью и сорока годами, то он выбрал бы сорок. Жена, посмеиваясь, отвечала, что она выбрала бы двадцать пять.
Михаил, брезгливо морщась, слушал все это, потом подумал, что Карина, которую уложили спать, возможно, тоже слышит их. Поднялся, вышел на террасу, что-то спросил. Игривый разговор прекратился.
Сейчас он лежал, уткнувшись подбородком в сложенное полотенце, раскинув руки, полузакрыв глаза. Атлетический разворот спины художника в полупрофиль и фигурка жены, сидящей со скрещенными ногами, обхватив колени длинными пальцами, виделись ему в каком-то мареве, полусне. Он не спал и не думал конкретно ни о чем, тем не менее веселые двусмысленности, которыми обменивались молодой супермен и стареющая красивая женщина, не доходили до него, не слышал он даже шум моря – витал где-то.
Вдруг он заметил, что Карина бросила возиться с камешками и пристально следит за отцом. Потом, поднявшись с корточек, она отряхнула ладошками колени и подошла к разговаривающим. Встала, заложив руки за спину, выпятив живот и уперев подбородок в грудь, смотрела из-под свешивающихся кудряшек мрачно и вопрошающе. Разговаривающие замолчали, с некоторым даже смущением, как заметил Михаил, воззрились на девочку.
– Ты что хотела, Карина? – спросил художник, усмехаясь и потерев концом кисти межбровье.
– Пойдем домой, – сказала она, помолчав. – Я спать хочу.
– Спать рано, – возразил художник. – Я работаю, ты видишь.
– Ты разговариваешь.
– И что?
– Я не хочу.
Михаил подумал, что и на самом деле царственная повелительность, которую не позволил бы себе другой, столь же неизбалованный, некапризный ребенок, – Карина явно была неизбалованной и некапризной, – заложена у нее в генах. А может, природа, одарив ее редкой красотой, наделила естественной повелительностью, ибо что на свете может быть выше чином, нежели совершенная красота?
Карина сменила позу, теперь она стояла опустив вдоль туловища руки, напряженные в локтях, подняв подбородок, глядела на отца снизу. Шейка у нее была длинная, нежных округлых очертаний, немного короче сзади – будущая лебединая. Между ключиц слабо темнела ямка, по чуть вогнутой спине бархатно сбегала ложбинка. Она наморщила гневно лоб и закусила губу: разгадав завязывавшуюся непростоту отношений отца с этой женщиной, она страдала.
Этого Михаил допустить не захотел, что было в его силах.
– Карина, – позвал он, поднимаясь, – журавли сели, смотри! Пойдем поближе, подкрадемся?
Она обернулась не сразу, не сразу сошла тень с ее круглого высокого лба. Улыбнувшись медленно, пошла к нему.
7
Художник с дочкой собирались уезжать, и по этому поводу было решено посетить ресторан в ближнем курортном городке.
Ресторанчик состоял из одного большого зала, где на маленькой эстраде играли музыканты и кричала курортные песни некрасивая женщина в длинном золотом платье, иногда ее сменял гитарист.
Пришли они довольно рано, потому заняли столик сразу, но через час ресторанчик был забит шумными компаниями, у дверей стояла терпеливая очередь.
Михаилу быстро надоели шум, выкрики певицы и гуденье электрогитар, даже острая пахучая еда, которую с удовольствием смаковали жена и художник. Но не было причин торопить застолье, жене оно доставляло явное удовольствие. Она тянула сухое вино из стеклянного бокала с золотым ободком, курила, смотрела, сощурив глаза, на эстраду, посмеиваясь загадочно и значительно.
Художник, выпивший, как и Михаил, граммов двести пятьдесят коньяку, находился в блаженно-обнадеженном состоянии, тоже курил, откинувшись на спинку кресла, глядел на жену не отрываясь, ушедшими в себя, нетерпеливыми глазами. Жена изредка, как бы случайно поднимала на него взгляд, чуть хмурилась, розовела сильней, но видно было, что это доставляет ей удовольствие.
В такой ситуации Михаил наблюдал жену впервые, это было неожиданным, непонятно откуда идущим. Обычно в их традиционных компаниях жена держала себя скромно, с достоинством, ему и в голову не могло прийти, что в ней есть склонность разыгрывать из себя женщину-вамп. Самое лучшее было бы ему уйти, оставив их вдвоем: он слышал поднимающееся в себе дикое раздражение, но его свобода, его разум сейчас не принадлежали ему, он подавлял себя, жертвовал во имя приличий, хотя ничего приличного в создавшейся ситуации не было. С другой стороны, никто пока не перешел неких иллюзорных границ.
– Потанцуем? – предложил художник, когда заиграли танго и гитарист, виляя бедрами, стыдливо закрыв гитарой низ живота, начал ломаться перед микрофоном.
Жена, помедлив, встала. Художник, положив ей руку на талию, передвинул ладонь выше, потом ниже – Михаил зло опустил глаза, ощутив на себе обжигающую требовательность этой ладони, магнитное слияние ее с телом жены. Подозвав официантку, он попросил еще коньяку.
Почему, по какому праву кто-то может бесстыдно распоряжаться волей, свободой другого, уповая на условности, которые этому другому неприлично нарушать? Люди рвут кандалы, бегут из лагерей и тюрем, – не задумываясь, искал бы случая, убежал и он. А тут сидит точно связанный, клокочет бешенством, но сидит. Вернутся они за стол – улыбнется, скажет что-то. Свободолюбивая личность – как легко она мирится с узурпацией свободы!..
В ином, более крупном масштабе предстоят ему эти танталовы муки, – тяжесть их он постиг довольно давно, – едва он займет свое почетное кресло. Тот, кто хочет подчинять, должен уметь подчиняться – это азбука карьеры. В том, несомненно, есть смысл: клетки организма должны быть управляемы. Он научился укрощать бешеную свою гордыню во имя чего-то, к чему себя суетно готовил. Но доколе?..
Официантка принесла коньяк, он вылил в бокал и выпил. Скоро ему стало хорошо и безразлично. Он оперся о стол обоими локтями, закурил, стряхивая пепел в тарелку с остатками лобио, и глядел перед собой, не видя зала, не слыша грохота электроинструментов.
Вдруг что-то словно бы прорезалось, как бы всплыло из тумана, заколыхалось, приняв неприятно-знакомые очертания. Он выпрямился, делая усилие над собой, прорвался сквозь хмель.
За соседним столиком рыдала та самая девица, которую он видел в компании двух шоферов на холме. Он узнал одного по мятой кожаной куртке, другие созастольники были ему не знакомы. Девица рыдала, мужчины хранили вежливое ироническое молчание, только тот, с кем Михаил видел ее за «МАЗом», медленно багровел, накапливая в себе неистовый гнев, готовясь дать ему выход. Девица кусала накрашенные губы, черная краска с ресниц бесстыдно окаймила ее мокрые подглазья, грязными бороздками состарила щеки.
Поднимаясь ревом на высоту, она пронзительно тянула обиженное, безнадежное «у-у-у», отчаянно хлопала себя ладонями по груди и по голове, точно пыталась уничтожить себя или, может, проснуться. Было ей лет двадцать, а то и меньше, старили краска и нелепое сверкающее люрексом мини-платье. В этом отчаянном реве стояло детское, капризное, упрямое: хочу и плачу, а вам-то что?..
Жалость и брезгливость больно пронзили качающееся сознание Михаила, он поднялся, не зная еще, что сделает, подошел, пошатываясь, к столику, поймал руку девицы, все еще колотившей себя по груди, та попыталась вырваться, но, наткнувшись вытаращенными глазами на лицо Михаила, вдруг удивленно замолчала. На них смотрели от соседних столиков, замедлили движение танцоры, даже музыка вроде бы сделалась тише.
– Не надо!.. – сказал Михаил повелительно и сморщился. – Ну, хватит… Здесь нельзя…
Постоял, потом наклонился и поцеловал ей руку. Это была первая женщина, которой Михаил поцеловал руку, он подумал об этом самодовольно и мстительно.
– Кончай корчить из себя шута! – услышал он вдруг возле уха тихий и злой голос жены. – Не так уж ты пьян! Пойдем!
Повела его к выходу, жестко держа за предплечье, – такое тоже с ним было впервые, но унижение паче гордости, он смиренно шел. Сказала художнику:
– Володя, рассчитайся, мы подождем на улице!
Вечерний холод не отрезвил Михаила; впрочем, он и не желал трезветь.
8
Ночью Михаил проснулся оттого, что очень хотелось пить, сухо жгло желудок. Открыл глаза, перебирая подробности вечера, перевалил набок голову – все поплыло. И тут он услышал всхлипы, замер – и понял, что плачет жена.
Плачущей он видел жену лет двадцать с лишним назад, тогда она прожгла утюгом свое единственное платье. С тех пор никакие сложности жизни не выводили ее из состояния немного нервной приподнятости и готовности к отпору.
Михаил сел на кровати, вгляделся в близкую темноту. Недовольство собой осенило его сердце.
– Валя? – позвал он.
– Что? – сухо и не сразу отозвалась жена, ждала, видно, пока в голосе не останется слез.
Волна раскаяния оплеснула его, подняла на ноги. Он подошел к кровати жены, сел, положив руку ей на голову, потом лег рядом, поверх одеяла, трогая ладонью ее мокрое лицо.
– Из-за меня ты, что ли? – шепнул он негромко. – Нашла из-за чего плакать! Прости…
Жена, как маленькая девочка, стиснув обеими руками его ладонь, вжала в нее свое лицо и расплакалась пуще. Он высвободил осторожно руку, забрался под одеяло, прижал к себе жену, спрятал ее лицо под подбородком, гладил ладонью по волосам.
– Ну дурак я, ну и что? – говорил он. – Пьяный дурак…
– Не из-за того я… – сказала жена тонким от слез, не своим голосом. – Просто нелепо все, Миша. Жизнь прошла – и что?
– А что? – удивился он, отстранившись, пытаясь увидеть ее лицо, но увидел только белое размытое пятно.
– Прошла – и ничего…
Он снова прижал ее к себе, чувствуя вдруг нежность и желание. Стал целовать жену в глаза, в подбородок, в ямку на шее, потом провел ладонью по ее телу, заново открывая горячую гладкость кожи, – незнакомое полусопротивление усиливало желание до беспамятства.
Он так и заснул на ее кровати, неловко приткнувшись с краю. Проснувшись, вспомнил все, и снова его оплеснула нежность, благодарная покорность, он скосил глаза и увидел, что жена тоже проснулась, смотрит на него настороженно и серьезно. Улыбнулся, вздохнув глубоко, стал гладить ее ладонью по спине, слыша, как поднимается в нем волнение, жалость, удивленное осознание, что вчера ночью он впервые был пронзительно счастлив с женщиной.
– Глупо все, Миша, – сказала жена, словно продолжая ночной разговор, и высвободилась. – Поздно, вставать пора.
В дверь сильно постучали. Михаил приподнялся, медля: некому так было к ним стучать. Постучали еще, забарабанили просто.
Он поднялся, накинув халат, сунул ноги в тапочки, открыл дверь. На терраске стояли два милиционера, уборщица и директор пансионата. Внизу толпились еще какие-то люди.
– В отделение поедем, – сказал милиционер и шагнул в комнату. – Документы возьми. Это что за женщина лежит? – спросил он, делая голос звучным и нажимая на слово «женщина».
Михаил растерянно молчал, не ухватив еще, что происходит: после вчерашнего реакции у него были замедленны.
Директор быстро, извиняюще поглядывая на Михаила, заговорил с милиционером, тот не очень охотно, еще раз окинув взглядом комнату, вышел.
В отделении Михаила провели в кабинет к начальнику. Тот пока отсутствовал, потому некоторое время пришлось сидеть, разглядывая через зарешеченное окно дворик, где цвели пыльные мандариновые деревья и гулял ишак.
Михаил приходил понемногу в себя, но вялость и какое-то тупое отсутствие интереса к происходящему все равно сидели в нем. Дорогой он не расспрашивал милиционеров, сейчас равнодушно пытался понять, зачем же его притащили сюда.
– Нервничаешь? – вошедший капитан милиции поглядел испытующе на зеленоватое с похмелья лицо Михаила. – Плохо выглядишь, дорогой.
– Перебрали вчера, – сообщил Михаил и тут же разозлился на себя: это уже походило на установление «доверительных» отношений, на заискивание.
– Понятно, – согласился капитан и быстро спросил: – С Катей Фирсовой когда первый раз познакомился? Был в близких отношениях?
Им пришлось говорить долго и иногда громко, прежде чем начальник выяснил и, кажется, поверил, что девицу, которой Михаил поцеловал вчера в ресторане руку, он видел всего второй раз. И не мог понять, не укладывалось у начальника в голове, что можно поцеловать незнакомой женщине руку просто так, ничего не имея в виду. Спутник Кати тоже, по-видимому, в такое бескорыстие не верил, потому, начав избивать ее в ресторане, продолжал бить в парке на набережной, рядом с рестораном, устав молотить кулаками, бил ногами, наконец, отведя душу и утомившись, бросил ее там. На рассвете ее подобрал милицейский патруль, решив, что она пьяна, ее отвезли в вытрезвитель, где Катя Фирсова скончалась, не приходя в сознание.
Зачем-то надо было ее опознать в морге, Михаил беспрекословно поднялся и пошел за начальником. Спустился в холод и мерзостную, проформалиненную духоту, увидел на каком-то подобии нар женский обнаженный труп. Катя лежала, повернув голову набок, с выкаченными коричневыми глазами, на уголке полуоткрытого рта запеклась струйка крови. Лицо было синим от побоев, но Михаил ее узнал.
В пансионат он вернулся на автобусе: не взял бумажник, – хорошо, в кармане куртки бренчала какая-то газетная мелочь. Ему казалось, что все встречные обитатели пансионата с любопытством оглядывают его: «Не то он кого-то убил, не то его побили».
Жены в комнате не оказалось, соседей тоже. Михаил пошел на море – они загорали все втроем на их обычном месте, болтали, словно ничего не случилось.
– Ну что? – спросила жена, и в глазах ее он увидел неприязнь и презрение. Упавшему однажды не суждено, выходит, занять свое прежнее почетное место, особенно если свидетель падения считает, что оно совершилось как нельзя кстати.
Он хотел было, беспечно махнув рукой, сказать, что вызывали из-за вчерашней глупой истории, не вдаваясь в подробности. Но в горле вдруг встал комок, он переждал спазм и проговорил виновато:
– Знаешь, ту девицу убили. Забили до смерти…
9
Вечером жена пошла прогуляться вдоль моря с художником, вернувшись, долго сидела на ступеньках террасы, курила. Художник заглянул в комнату, смущенно сказал:
– Михаил Павлович, вы не зайдете на минуту к Карине? Она никак не заснет, вбила себе в голову, что вас опять в милицию заберут.
Ему не хотелось, но, чтобы художник и жена не подумали, что он «дуется», он поднялся и пошел.
Горела настольная лампа, прикрытая полотенцем, Карина лежала, глядя в потолок широко открытыми глазами, выпростав руки поверх одеяла. Перевела взгляд на Михаила, торопливо приподнялась на локте.
– Ты пришел? Садись сюда, ко мне, ладно?
Он присел на край постели, согнулся, уперев ладонь в колено, глядя на Карину.
– Представляешь, я лежу и думаю, как тебя забирали в милицию! – Карина приподняла плечики и смешно развела руками.
– Это бывает, – успокоил ее Михаил и вдруг вспомнил, откуда пошло ее экзотическое имя: от девочки, родившейся некогда в Карском море на легендарном «Челюскине». Ему тогда было лет восемь, наверное, а помнит. – Дело житейское. Ты ложись давай.
– А ты не уйдешь?
В выражении ее глаз мелькнула робкая тревога, это развеселило его: хоть кому-то на свете есть до него, оказывается, дело.
– Не уйду.
Он взял в ладонь ее ручонку, подержал, слыша сквозь горячую влажность кожи более прохладную кровь. Раскрыл ладонь – узенькое, нежно-розовое, почти без линий еще, с выпуклыми окончаниями длинных пальчиков. Улыбнулся, поцеловал куда-то в запястье и спохватился: можно считать, что он второй раз в жизни поцеловал руку женщине? Первой это счастья не принесло…
– Ложись на бочок, я тебе песенку спою…
Карина засмеялась, чуть запрокинув назад головку со спутанными, прилипшими к влажному лбу кудряшками.
– Ты умеешь петь? Я не знала.
Она легла, чуть согнув колени, подложив под щеку сложенные вместе ладошки. Скосила блестящий в полутьме глаз.
– Ну пой, как обещал.
Теперь, наверное, матери не поют детям таких колыбельных, он не слышал, чтобы пели. По новой методе вообще не положено детей убаюкивать, пусть засыпают сами. Михаил, положив руку на слышный под одеялом хрупкий изгиб спинки, пел вполголоса:
«Спи, дитя мое, усни, угомон тебя возьми… В няньки я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей…»
Помнил счастливое, безмятежное, бывшее еще до всего. Мама, большелобая, сероглазая, со светлыми, по уши остриженными волосами – двадцатитрехлетняя, сидит у него в ногах, на кроватке. С кроватки уже снята перекладина с сеткой с одной стороны, а с другой оставлена. Засыпая, он любит водить по веревочным клеткам пальцем, но мама не разрешает. По ее понятиям, классическое положение засыпающего ребенка – на боку, «ручки под щечку». «Не хитри, Мишка! – говорит мама и грозит пальцем. – Закрывай быстро глазки крепко-крепко». – «А ты тогда спой…»
Карина сначала косила на него глазом из-под полуприкрытых век, улыбалась уголком рта. Потом глаза стали сонно закатываться, веки сомкнулись плотней, тельце обмякло.
Михаил принял руку, собираясь тихо подняться, и вдруг увидел прислоненный к стене картон, освещенный настольной лампой.
По густой матовой черноте струились кроваво-красные зигзаги, как бы обозначившие конус вулкана, над двуглаво распавшимся жерлом стояло красное, в черноту размытое зарево. В глубине этого зарева проглядывался скорченный силуэт огромного младенца.
Михаил смотрел, постигая, шокированный, неприятно озадаченный.